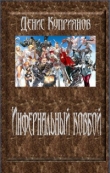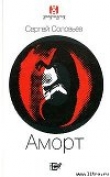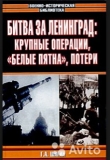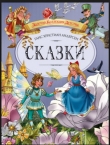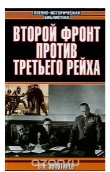Текст книги "Голоса времен."
Автор книги: Николай Амосов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
28. Заключение.
Когда переписывал свои записки, всё время оценивал и свою работу, и товарищей, думал о народе, о войне, хирургии. Нужно эти мысли записать.
Море страданий человеческих. Свыше 40 тысяч раненых, большинство – лежачих, тяжелых. Почти тысяча умерли. Это только в нашем маленьком ППГ на конной тяге, рассчитанном на двести коек, с пятью врачами.
Какие они были молодцы, наши раненые! Мужественные, терпеливые – настоящие герои! Но сами о себе, о своих подвигах они рассказывают просто, как о чём-то будничном.
Вот какие свои записки, писанные в Эльбинге в мае 45-го, нашёл я среди черновиков научных работ.
"Да, о героизме. Какой героизм можно увидеть в полевом госпитале? Немец нас не окружал, в атаку наши санитары не ходили. И даже странно сказать – я мало слышал рассказов раненых о героических подвигах. "Приказали... поднялись... пошли... он строчит... мы идем... он побег... вскочили в его окопы... " А чаще даже не так. "Лейтенант кричит: "Вставай! Пошли!" – а он строчит... головы не поднять... лежим, не глядим на лейтенанта. Тут он опять: "Вставай!" Пистолет вытащил и стал вылезать из окопа: "Ну, и х..... с вами!" Пришлось и нам... Побежали... вперед... Тут его убили, а нам вроде стыдно стало, старшина нас повёл... Так и добежали до их окопов... Тут в меня один фриц выстрелил. Хорошо, что не убил". О таких лейтенантах я слышал не раз. Но сами они рассказывали иначе: "Капитан звонит: "Поднимай своих!" А мои все лежат в окопчиках, головы не поднимают. Немец бьёт из пулеметов сплошь. Где же их поднять? Звоню: "Александр Иванович, не поднять мне! Подави вон те точки... " А капитан в ответ только материт: "Приказ!" Что будешь делать? Приказ! Кричу своим: "Вперёд! За Родину! За Сталина!" Побежал вперёд, и что вы думаете? Поднялись – один, другой... побежали. Ну, думаю, теперь только бы подальше пробежать, пока не стукнут. Бегу что есть духу, на них не оглядываюсь, слышу, что кричат... "Ура!". Думаю: "Добегите, миленькие!" Но тут меня стукнуло... упал и сознание потерял, потом очнулся, подумал: "Вот и всё, мамочка..." Но видите – ожил... не бросили меня мои, вынесли."
За всю войну мне не довелось быть свидетелем броских, эффектных, героических поступков, кроме того отчаянного летчика в октябре 41-го в Сухиничах. Но я видел другой, повседневный, ежечасный героизм, видел массовое мужество. Нужно мужество, чтобы переносить страдания. Страдания: физическая боль – острая, когда снимают повязку, когда распирает бедро, пораженное газовой флегмоной. Когда трется гипс о пролежень на крестце. Когда месяцами болит голова после ранения черепа. Голод и жажда челюстного раненого, с развороченным ртом, не глотающего, которого не могут накормить, пока не привезут к специалистам. Страдания: холод, отсутствие постели, неудобное положение в гипсе. Сколько из них плакало и кричало в палатках, при перевязках и наших хирургических процедурах? Единицы... Кто из них просил себе частного, отдельного снисхождения или льготы по тяжести ранения или по чину? Единицы.
А мужество принятия решения? "Нужно отнять ногу..." "Нужно сделать резекцию сустава. Да, нога гнуться не будет".
Героический наш народ. Мужественный, терпеливый, стойкий. Это не просто дисциплина. Это величие духа.
Низкий поклон им, всем раненым, которые прошли через наш ППГ, через все госпитали.
Звучит напыщенно, но это так и есть.
... ... ...
Вот уже прошло 55 лет после войны. Много я перечитал за это время.
Прояснилась ли истина о войне? Нет, не прояснилась. При советской власти её больше затемняли, чем проясняли. Говорилось: Мы – мирная страна. Гитлер напал вероломно. Внезапно. Смех! Как будто не знали, кто – Гитлер? Дескать, мы готовились, но не успели. Но нет официальных цифр – как готовились? Сколько было танков, самолётов? Каких? Сколько дивизий?
Вот недавно появился Суворов – беглый чекист из ГРУ и написал скандальную книгу "Ледокол". Сказал: Сталин сам готовил нападение на Германию, но не успел. Что у нас был огромный перевес в вооружениях. Что страна была отмобилизована. Недавно мелькнуло в прессе, что и Жуков в генеральном штабе готовил планы вторжения, но какие-то слабые, и Сталин их будто – бы забраковал. Не солидно.
Суворову я не очень поверил. После перестройки должны были появиться истинные цифры об оружии и войсках. Не появились.
Но кое-что есть. Танки и самолеты "новейшей конструкции", (устаревших не считают). Так вот: в июне 1941 преимущество немцев было 1:3, в декабре – по танкам – сравнялись, по самолетам мы отставали 1:1,2. Но производственные мощности и конструкции оружия были, поэтому и произошёл в 1942 перелом в соотношении сил. К концу войны он достиг 5:1 в нашу пользу.
Впечатление? Была какая-то фатальная военная глупость Сталина. Обманули его немцы дезинформацией. Репрессиями он уничтожил лучших генералов и задавил остальных: они могли только поддакивать вождю.
Мнение: планов завоевать Европу не было. Было нагромождение военной мощи из панического страха перед Гитлером. Но не было настоящего руководства армией. В результате – неразбериха и поражение.
Да, Сталин умел побеждать. Но только тем, что не жалел людей. Это – и стройки, и колхозы (голодомор). Но больше всего – война. Цифры потерь менялись и не достоверны до сих пор. Точных – просто не существует. Самые вероятные: страна не досчиталась 20 – 25 миллионов. Это – в четыре раза больше, чем немцы и раз в двадцать больше союзников.
Генералы завоевывали победы трупами солдат, а вовсе не гением. Кстати: недавно всплыла интересная цифра: 300 000 положил Жуков только для взятия Берлина. Торопился, видите ли. Зачем? Город и так лежал под ногами.
Такой была и вся война.
Глава пятая. Москва. Брянск.
1. 1945 г. Еще раз Манчжурия.
Итак, ППГ-2266 умер. Мы с Лидой получили предписание ехать на какую-то станцию, не помню, в госпиталь 497, к начальнику Гарелику.
Упаковали чемоданы и ноябрьским вечером нас посадили в поезд. Ехали часа три. Приехали уже в темноте. Ночевали у добрых людей.
Какая неприкаянность! Как будто от родной матери оторвались.
Утром нашли госпиталь, на окраине посёлка, в военном городке. Комсостав жил в "фанзе", этаком круглом доме из досок на манер чукотского чума. Тесно и скучно прожили целый месяц. Отвратительное настроение. Не было желания что-нибудь делать, все казалось сугубо временным. Начальник – молодой энергичный капитан, Саша Горелик, я его знал по прежней армии. С ним жена, не ППЖ. Собака овчарка. Еще служили трое врачей, молодые женщины. Одна интересная (замечал, Амосов!). Но имена забыл.
В конце декабря получили приказ выехать в Манчжурию и возглавить лагерь японцев, в котором свирепствует сыпной тиф.
Прислали студебеккеры. Погрузились. Поехали. Мороз 20 градусов.
Прибыли в город Мудедзян, километров двести. Выгрузились в большом посёлке, бывшем военнном городке японской армии.
Боже мой, какая жуть! Почти как в Гомеле или Кенигсберге. Одноэтажные дома, улицы, перекрестки. Но от домов – одни стены. Даже крыши не везде. Не только рамы – косяки, полы выломали китайцы. Мстили?
Но всё-таки нашли обжитый район – команда и комендант, двадцать солдат и пьяный капитан. Чуть дальше японский военный госпиталь, их ППГ. Окна вставлены, стекло, фанера. Крыши и дым из труб. Живут люди.
Наше докторское дело телячье – сиди и жди. Комендант нашёл дом, несколько целых комнат с печками и даже дровами. Выгрузились, стали печки топить и греться. Начальство с хозяйственниками пошло дела делать – дома занимать, имущество разгружать, ремонт начинать. Но, прежде всего, горячую пищу. Полевой госпиталь всё имеет: походная кухня, котлы, кипяток. Через час уже еда готова. Живём! Мрачно шутим: "ППГ в своей стихии".
Пришёл начальник, Саша. Дал информацию.
Лагерь военнопленных, около 500, точно никто не знает. Карантин из-за тифа. По идее есть организация – команда солдат и японский госпиталь. В действительности – хаос и вымирание. Лагерь не охраняется, пленные убегать боятся – китайцы тут же убивают. Японцев кормят сухим пайком, но в действительности голод – команда продаёт и пропивает продовольствие. Госпитальные себя кормят, но никого не лечат. Задача: оздоровить лагерь.
Посовещались с Сашей. У него вся полнота власти, есть приказ свыше. Наметили: сортировка и учёт. Больных собрать вместе, вымыть, лечить. Крепких заставить работать. Дел много: утеплиться, отопиться. Кормление из кухни. Прожарить одежду. Проверять на вшивость и заболевания. Здоровых после карантина и переболевших отправлять на советскую территорию. Тифозных принимать из других лагерей.
Вызвали японца начальника госпиталя. Крупный, очень вальяжный, одет по форме. Есть переводчик. Заявляет:
– Не признаем себя побеждёнными: Микадо приказал сдаться.
Саша припугнул:
– Не будем выяснять. Командуем мы, за неподчинение – расстрел.
Пошла работа. Планы выполнялись, фронтовой опыт.
Помню первый обход бараков для сортировки "контингента".
Входим: начальник, врач – японец, с ним их переводчик и писарь. Потом я, хозяйственники. В бараках адский холод. Дыры в окнах. Сидят на корточках у стен, другие лежат, ослабли.
Офицер что-то кричит с порога, наверное, наше "Встать!".
И вот чудо: полумертвые встают, шатаясь, строятся. Снова команда, отвечают хором странным грудным звуком, вроде: – О... о... х!
Кто поднимается лениво, или молчит, того офицер бьёт по лицу. Слабых поддерживают. Они падают, как только офицер проходит дальше.
(Думаю: "Да,... а сильны япошки! Это не немцы. И не русские.")
Сортируем, даем бирки, писарь переписывает. Совсем слабых ведут и грузят в машину. Сильных уводят хозяйственники. Строем ведут!
Навели порядок за два дня. "Вошебойка" дымит круглые сутки. Рядом в домике что-то вроде бани (воды мало), сидят голые, ждут одежду. Сухие пайки прекратили, обед из кухни, кипяток, сахар и хлеб. Оказалось, что нормы приличные: консервы, крупы, рыба, жир. Хлеба – 600 гр.
Японские сёстры и санитары очень пригодились, а с врачами контакта не получилось, лечили мы сами.
Главное открыли барак на 100 мест. Вместо кроватей были носилки и топчаны. Белья и одеял госпиталь имел в избытке: "трофеи наших войск". Было и всё другое имущество. Лида, старшая: вспомнила лучшие времена. Заместительницей у ней была фельдшер Хамада – старая, тощая и деловая. Лиду называла: "Лида-сан", госпожа. Младшие сёстры – японки тоже приятные. Была бригада санитаров, очень дельных ребят. Не чета нашим. Врачей и офицеров положили в отдельной палате – дань субординации.
Отношения между японцами нам казались странными. Парни и девушки соберутся вечером у печки, песни поют, не лапают, как у нас, даже не касаются. Офицеры, разговоров с рядовыми не ведут, нас стараются не замечать: чёртовы самураи! Японки – сёстры, наоборот, очень наших полюбили.
Когда тифозные больные выздоравливают, прорезывается зверский аппетит. Бывало крали пайки хлеба из-под подушки соседа. Если кого уличали, старший командовал "смирно" и бил по лицу, на полном серьёзе.
Умирали не часто, только крайние дистрофики. Но всё же почти каждый вечер на околице поселка японцы сжигали трупы – пепел отправить домой.
Лечение сводилось к минимуму: кофеин, камфора при плохом пульсе. Кормили, поили, переворачивали, когда сознание мутилось от высокой температуры. Смотрели, чтобы не убегали в бреду. Вшивость ликвидировали быстро.
Труднее было обустроить помещения для здоровых, карантинных: много ремонтной работы. Но справились. Наши командовали. Японцы работали.
Быт персонала наладился. У нас с Лидой была комната-кухня. Холодная, как во всех домах. Вот когда пригодилась немецкая перина!
Выдавали пачки оккупационных денег – юаней. Что бы их потратить ездили в город на базар. Очень многолюдный, масса китайцев продают с рук сущие пустяки – кусок материи, пачку сигарет, съестное. Цены для китайцев очень высокие, их взвинтили наши военные. Рассказывал начфин, что юани в штаб дивизии машинами привозят. Лида купила несколько японских кимано.
Еще были в гостях в деревне. Русской нищеты много повидал за войну, но китайская – из рук вон. Глинобитный домик, малюсенькое окно, земляной пол, печка и что-то вроде нар-лежанки, под которой дымоход проходит. Грязь первобытная. Угощали нас, много блюд, не вкусно.
На китайский новый год ездили в город. Видели представления: драконов, фонарики, фейерверки, шествия.
В конце февраля Бочаров, мой друг и главный хирург округа, вытребовал меня к себе, в Ворошиловск-Уссурийский, в окружной госпиталь.
Впечатления от японцев: "О... о... !!!" Сильная нация. Это оправдалось потом в "Японском чуде".
От китайцев, наоборот, слабые. Это не оправдалось. Обманулся.
За полтора месяца, что прожили в Манчжурии, написал вторую диссертацию "Организация хирургической работы в полевом госпитале". Материал: "Книга записей хирурга" и память. Хотелось поучить потомков.
2. 1946 г. Ворошилов-Уссурийский. Кирилл. Отпуск.
23 февраля 1946 года. День Красной Армии. Мы с Лидой едем из Маньчжурии. Зима, холод, дорога между сопками, сидим в грузовике на ящиках и тюках, ветер пронизывает шинель насквозь. И будто бы китайцы даже стреляют вслед: «хунхузы».
Полгода назад, когда японцев гнали, китайцы встречали с ликованием: "Шанго ! Шанго!". А теперь разочаровались: вывозим все японские трофеи, а наши оккупационные деньги сильно подняли цены на базарах.
В Ворошилов-Уссурийский, там штаб и окружной госпиталь, приехали вечером, совершенно замёрзшие. Четырехэтажный "генеральский" дом. Остановилась машина, сползли на землю. Лида осталась греться – прыгать, а я поднялся на третий этаж. Открыл молодцеватый офицер: чёрные глаза, шевелюра с проседью – "кавказский человек". Ждали:
– Ты Коля Амосов?
Вышел Аркадий, расцеловал, сказал "сейчас", сесть не предложил. Через минуту вышел одетый: "Пойдём".
Вот так встреча! Обида, почти слёзы. Дружба побоку? Даже погреться не предложил. На улице поздоровался с Лидой, велел нам забираться наверх, сел в кабину, поехали.
Потом ещё с полчаса стояли около госпиталя, пока Аркаша куда-то ходил. Вернулся с офицером и солдатом, чтобы вносить вещи. Очутились в красивой светлой комнате, с обстановкой.
– Здесь Вишневский жил до отъезда. Располагайтесь, завтра поговорим.
И ушёл. Но в комнате так тепло! Санитарка принесла отличный ужин, обида почти прошла.
На следующий день Аркаша всё разъяснил. У военных, как и везде, квартирный кризис. Бочаров пришел вечером к начальнику госпиталя и сказал: "Прибыл из Манчжурии хирург с женой, о котором договаривались. Совершенно замерзли. Прикажите разместить". Тому некуда деться, велел ночевать в кабинете при отделении физиотерапии, где уже раньше жил генерал.
– Если бы я тебя оставил даже на ночь, квартиры бы уже не получить. Им не надо знать, что ты друг. Пока, не надо.
Тот офицер, что встретил у Аркаши, оказался Кирилл Симонян, капитан. Для меня и друзей просто Кирка. Он числился в штабе, жил у Аркадия – они готовили к печати сборник научных работ хирургов Пятой армии. Способный, чёрт, за машинку только сел и как стучит! "Я же пианист!"
Меня определили старшим ординатором в травматологическом отделении окружного госпиталя. Начальник – Фамелис, грек, москвич. Очень знающий, но и я не промах. Работы не много, дело подчинённое.
Через месяц нам дали комнату. Почти каждый день ходили в гости к Бочарову. И разговоры, разговоры с Киркой. Очаровывал, был у него к этому талант, очаровывать: санитарку, академика, кого угодно.
"Сын персидского подданного". Отец – армянин, ростовский коммерсант, уехал в Иран вскоре после белых, оставил жену с двумя детьми без средств, на попечение родственников. Бедствовали. Кира много рассказывал о школе: был тесный кружок умников. Среди них – А.И.Солженицын. В 43-м Кира попал на фронт в пятую армию, к Аркадию. Быстро выдвинулся до ведущего хирурга медсанбата. Работал отлично.
После того как от Аркаши уехала одна, скажем так, знакомая, а попросту ППЖ ( хирург), Кирка с ординарцем вёл все хозяйство.
Помню, Лида пекла пирог, ставилась минимальная выпивка, и мы очень хорошо проводили время. Главный разговор – о войне. Но уже строили планы на мирную работу и на науку. Сборник трудов закончили, но не напечатали.
... ... ...
В марте была Сессия Верховного Совета – опубликовали планы на 4-ю пятилетку. Восстановление страны, к 1950 достичь 70% от 40 года.
... ... ...
В июне (1946 г.) мы втроём поехали в Москву. Лида, уже свободная – кончать пединститут, Киру обещали демобилизовать, а я в отпуск и к Юдину, за протекцией. Аркаша написал письмо и просил за меня. Без блата демобилизоваться молодому врачу на Востоке было немыслимо.
Страна дышала особым воздухом: облегчение, мир внешний и внутренний. Аресты тридцатых годов заслонились потерями войны. Имя вождя сияло, рапорты заводов и республик "дорогому и любимому" печатались в каждой газете. О новых репрессиях ничего не было слышно, скрывали очень тщательно, научились. Приступили к восстановлению производства. Профессорам удвоили зарплату: поняли цену науки.
Запомнилась дорога с Дальнего Востока. Переполненный вагон. Поезд в Ворошилове брали штурмом, с помощью солдат. Одна полка на троих. Путь – 12 дней, долгие остановки на станциях, очереди у будок "Кипяток", скудные пристанционные базарчики, оборванные дети с ведёрками из консервных банок: "Подайте, дяденька!" Безногие инвалиды с медалями на заношенных гимнастёрках. Уборные со сплошь исписанными стенами. Мы с Кирой специально изучали солдатский фольклор. "Нынче новая программа срать не меньше килограмма".... дальше совсем непечатное. Миллионная армия, что прокатилась на восток и назад оставила следы "на скрижалях".
Сделали остановку в Ярославле: новую жену показать и лишние вещи оставить. По поводу жены – волновался. Не любят невесток, да и Галю помнят. Но всё сошло хорошо, Лида умела себя вести.
Из Ярославля сделал марш-бросок в Череповец: нужно вещи забрать, с друзьями повидаться. Прожил два дня.
Череповец был близко от фронта – около двухсот километров. Город не пострадал, всего несколько бомб сбросили в вокзал. Но голода хватили.
Мои вещи, что оставлял у знакомой докторши проели. Обиды на это не держал. Спасибо, что бумажное имущество сохранили: дипломы, книги, письма. Тетрадки с "теориями".
Ходил по городу, по гостям. Минуло пять лет, а впечатление – как вечность прошла. Зачем-то собор снесли. Александра Николаевна умерла. Лёнька Тетюев вернулся с войны инвалидом. Рука не гнулась после ранения, на скрипке играть не может. К выпивке пристрастился. Но уже был при хорошем деле – лесопильном, шло строительство металлургического комбината. Его мать, Титовна, умерла, у Жени двое детей народилось. Катеньку, операционную, видел. Замуж вышла, ребёнок есть. Рассказала больничные новости: Борис Дмитриевич постарел, его выпирают на пенсию, а он не хочет. Из-за этого я даже не пошёл к нему: жаловаться будет, а что я скажу (...по-жлобски поступил, Амосов...)?
На обратном пути перечитывал старые письма. Те, что от женщин – порвал. От соблазна. "Моя судьбы уж решена... я вышла замуж... ". Нет, зарок себе тогда не давал.
По дороге из Ярославля в Москву украли самый главный чемодан – в нём было наше парадное обмундирование, Лидины вещи. Не помню, чтобы очень переживал. Когда что-нибудь безвозвратно пропадает, я всегда себе приказываю: "Отринь!"
В Москве ночевали у Кати Яковлевой, нашей сестры. Год назад я оперировал её по поводу тяжелой язвы желудка. Побоялся сделать резекцию, наложил соустье, потом она всю жизнь мучилась, а я себя клял за трусость.
Яковлевы жили в двухэтажном деревянном доме на Таганской улице, настолько дряхлом, что стены были подперты брёвнами (теперь его уже нет – искал). Но квартира в полуподвале уютная по моим тогдашним стандартам. Приняли с той особой русской теплотой, от которой душа тает.
С трудностями доехали в Харьков – в гости к тёще, Екатерине Елисеевне Денисенко. Ей тогда было немного лет, около пятидесяти, но казалась старше. Зятя принимала, как положено. После этого свидания мы с ней мирно сосуществовали двадцать лет. Я не зря написал это политическое слово: душевности в отношениях не было, звал по имени-отчеству, "на вы", голоса ни разу не повысил. Она отвечала тем же.
Отец Лиды, Василий Михайлович Денисенко происходил из рабочей семьи, из Кривого Рога. Был шахтёр, очень энергичный, рано вступил в партию, быстро пошёл на выдвижение: судья в сельском районе, потом секретарь райкома. Потом, так же быстро в верхи – аж первым секретарём обкома в Смоленске. Проработал секретарем пару лет и был направлен в Академию Общественных наук. Там его застала война. Мобилизовали и отправили на фронт, в чине полковника. В 1945 заболел раком и умер.
В семье, кроме Лиды, были еще сестра Рая, геолог на Колыме и брат Коля, студент в Харькове.
Когда немцы подходили к Смоленску, семью эвакуировали в Коми-Пермяцкий округ. Там тёща работала на хозяйственной работе.
Лида после средней школы училась в Днепропетровском Университете, перевелась к отцу в Смоленский пединститут, в 41-м кончила третий курс. Из рассказов Лиды секретарь обкома жил скромно: три комнаты и полдома – дача.