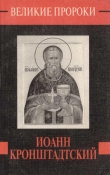Текст книги "Последние назидания"
Автор книги: Николай Климонтович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
КАК В БАССЕЙНЕ НЕ УТОНУТЬ
Когда из открытого бассейна Москва на Волхонке спустили воду, то окрестные жители вздохнули с облегчением. Огромный бассейн был, разумеется, с подогревом, а вода – сильно хлорирована, что не было пустой предосторожностью, ибо юные советские купальщики в те годы не отличались страстью к личной гигиене. Зимой над чашей бассейна стояла туча густого теплого пара, и, помимо испарений воды, это были пары хлора. Так что большую радость от закрытия бассейна испытали не только жители, но и художественная общественность, поскольку знаменитый Пушкинский музей изящных искусств стоял прямо напротив и хлор оседал на полотнах Рембрандта, Пуссена и Сезанна. Конечно, властям на искусство было глубоко наплевать, они тянулись к прекрасному разве что в тех случаях, когда удавалось забодать
какого-нибудь урода кисти Матисса или Пикассо на глупый Запад, а на вырученные деньги отправить своих чад на сафари в Танзанию или на серфинг в Калифорнию. Нет, тут было другое.
История этого места хорошо известна. За границей еще в советские времена был издан альбом фотографий, сделанных по заказу властей, на которых было запечатлено сокрушение в начале тридцатых храма Христа
Спасителя, построенного некогда именно здесь, в топкой низине на заливном берегу Москвы-реки, – эти фотографии позже, во времена послаблений, по-видимому, утекли из закрытых архивов и были переправлены за бугор. Тогда же советскому архитектору Иофану было велено воздвигнуть на этом же месте не менее впечатляющее, чем погибший храм, здание Дворца Советов, и по проекту сооружение должен был венчать не крест, а тридцатиметровый истукан, и лысая его голова терялась бы в облаках. Но при царе строить умели лучше, чем при рабоче-крестьянской власти, и советский храм болото принять отказалось. От грандиозного проекта остался только забетонированный котлован, который при Хрущеве и решено было превратить в общедоступный бассейн, поскольку большевики всегда высоко ставили физкультуру и спорт. Это и понятно. Им нужны были сильные молодые солдаты и рабочие, всегда готовые к труду и обороне, надо же было кому-то защищать и кормить партийную номенклатуру.
Но во времена второй оттепели их последователи и ниспровергатели уже не так любили спортивное и оздоровительное плавание, а симпатизировали теннису и азиатским единоборствам, предпочитая водным дорожкам – татами, и к тому же ударились в православие. И храм было решено, осушив бассейн, возродить на том же самом месте.
Здесь одна пикантная подробность: православие православием, хорошо на Пасху подержать перед телекамерами свечку, стоя поближе к патриарху, но налоги населения уже давно работали в западных банках, поэтому решено было пустить шапку по кругу. И сердобольный наш нищий народ за несколько лет накидал-таки достаточное количество мятых червонцев.
Когда бассейн осушили, обнажилось кафельное дно, и посреди голой огромной круглой ванны осталась сиротливо торчать вышка для прыжков в не существующую больше воду. И вот кому-то из московских концептуалистов – тогда была мода на уличные хеппенинги – залетела в голову игривая мысль. А именно: выложить на дне бассейна именные звезды героев той прекраснодушной эпохи и пригласить в один из воскресных дней самих персонажей. Времена были праздничные и пьяные, царила карнавальная эйфория, все любили друг друга, объединенные общими надеждами, которым, разумеется, никогда не суждено будет сбыться. И столичные начальники, напуганные призраком невесть как залетевшей к нам недолговечной тощей свободы, пошли фантазерам навстречу, потому что, закопав на всякий случай в саду на даче партбилеты, старались держаться в струе, не ссориться с интеллигенцией, намереваясь оставаться у власти как угодно долго – лучше всего навсегда.
В героях оказалась пестрая публика: бывшие комсомольские активисты, уже потянувшиеся к кооперативной деятельности, и попы-расстриги, диссиденты и заслуженные члены советских творческих союзов.
Позвонили и мне, велели явиться к назначенному сроку, найти свою звезду и свое имя и постоять смирно рядом. Случился и довольно веселый аттракцион. Один из гостей, заезжий из Израиля художник-авангардист и по совместительству экзгибиционист-радикал, взобрался на эту самую ныряльную вышку, достал из штанов свой причиндал и принялся прилюдно дрочить. Болельщики этого перфоманса снизу подбадривали его криками давай-давай, кончай-кончай. Снимала с верхотуры смельчака милиция, предотвратив оргазм, и было забавно наблюдать, как лезут по очень высокой узкой лестнице представители службы общественного порядка в сапогах, шинелях, при всей своей сбруе. Был промозглый, холодный октябрьский денек, и стоит ли говорить, что водки было выпито тогда немало. И немало склеилось дружб, которым предстояло в неведомом тогда будущем много испытаний.
Бродя по сухому дну, я нашел свою звезду и свое имя, но особенно внимательно я разглядывал само дно: ведь прежде видел его лишь через толщу хлорированной воды. Дно было хорошо знакомо и узнаваемо. А вот сама топография этого сооружения стерлась. Потому что было уже не угадать, где были женские раздевалки, а где мужские. И где какие были сектора. Уже снесли даже высокие кирпичные бортики, которые надежно отгораживали некогда так называемый спортивный сектор для избранных от лягушатника для простых смертных. Там, в этой запретной для широкой публики зоне, плавали и загорали актрисы театра и кино, манекенщицы и высокопоставленные молодые жены. Позже, уже перед смертью бассейна, у меня нашелся дружок по имени Андрюша – это с ним мы некогда куролесили во Флориде, – мать которого была тренером по плаванию и служила именно здесь, ходила в импортном тренировочном костюме по берегу, иногда свистя в свисток, что болтался на шнурке у нее на груди. По блату Андрюша отдыхал после многотрудных дней московского фарцовщика именно здесь, иногда брал и меня с собой. Мы лежали с ним в шезлонгах под солнцем, пряча глаза за темными очками, глазели по сторонам, глотали пиво и вдыхали флюиды, источаемые самыми красивыми в городе молодыми женскими телами. Конечно, у
Андрюши завелись здесь и веселые подружки, сбивались компании, и часто этот спортивный день заканчивался в ресторане Дома кино, а потом в чьей-нибудь квартире или мастерской.
Но это было много позже. В отрочестве же мы дворовой ватагой частенько доезжали от станции Университет до Кропоткинской, покупали билеты – до смешного дешевые, причем никаких абонементов тогда не заводили и медицинские справки не спрашивали. Мы шли в раздевалку, потом в душевые, а там, поднырнув, оказывались в своем, мужском, секторе, отделенном от женского лишь тонкой легкой ниточкой с нанизанными на нее большими пробками. Теоретически в сектор противоположного пола заплывать не полагалось, но кто ж откажется, поднырнув под символическую преграду, оказаться в окружении многих полуобнаженных девичьих тел. Под завесой пара с берега не было видно, что творится в воде, а там творились безобразия. Юные волки голодной стаей врезались в кучу женских тел, подныривали, щипля попки и голые ляжки снизу, стараясь невзначай дотронуться до причинных мест. Иногда какую-нибудь зазевавшуюся девчушку, отбившуюся от стайки подруг, брали в кольцо и немилосердно щупали, причем, входя в раж, подчас срывали лифчик и даже трусики – закрытых купальников юные тогдашние прелестницы не носили. Оказавшись голой, с отчаянным визгом девица прорывалась к выходу, выскальзывая из ловких рук охотников, ища спасения в бассейновых гинекеях.
Разумеется, заводилой подобных игр в нашей компании был все тот же
Серега Гвоздев. Одно мешало ему: он очень плохо плавал. А для таких подвижных игр, как приставания к девкам в воде, требовалась сноровка едва ли не ватерполиста. Так что худенький Гвоздев держался у бортика, на мелководье, зяб, кадык ходил у него вверх-вниз от частых глотательных движений. Он бочком протискивался в женский сектор и стоял у входа, как голкипер. Остальная компания была для него как бы загоняльщиками. Потому что, перепугав девиц на глубине, мы гнали их прямо на него, и тут-то он мог довершать начатое и ловил какую-нибудь особенно нерасторопную растопыренными руками. У него был один ловкий прием: он делал футбольный бросок и быстро просовывал руку девице между ляжками. Потом он приподнимал ее тело, и девчонка обрушивалась в его объятия, образовывалась куча-мала, причем Гвоздев оказывался в самом центре этой веселой игры.
И вот однажды правила этого развлечения неожиданно оказались нарушены. Был тусклый январский каникулярный денек, причем очень морозный и ветреный. Гонять на коньках было холодно, и мы всей хоккейной дворовой компанией отправились в облюбованный нами теплый бассейн. В раздевалке было зябко, но можно было согреться под душем, и тепло было в хлорированной воде. Все шло как обычно, Гвоздев занял свою позицию на мелководье, но сидел на корточках – даже руку высунуть из воды на мороз было страшновато. Наверное, ему было очень холодно, и разогреться как следует он не мог: девиц в тот день в бассейне было до обидного мало. Но все же были, и через какое-то время мы заприметили вполне подходящую деваху. Мы медленно окружили ее, и я, помнится, даже в густом облаке пара рассмотрел, что она довольно крупная и рослая, постарше нас. У нее была курносая рожа, а щеки казались особенно круглыми из-за того, что голову ее плотно облегала алая резиновая шапочка. Когда мы пошли на абордаж, девка повела себя совсем не так, как наши субтильные ровесницы. Она не стала визжать, а принялась брыкаться – с силой не желающей идти в стойло кобылы. Но нас было много, кому-то она успела заехать по физиономии, однако силы были неравны. Пощипывая ее многими руками, мы оттеснили ее на Гвоздева, который уже растопырил грабли.
Намерзшись и заждавшись, выглядел он очень решительно, почти свирепо. Преградив девахе дорогу, он уж нацелился сунуть руку ей между ног, как она неожиданно сделала кульбит и сильно пихнула
Гвоздева ногой в грудь. Будь это на суше, удар был бы очень чувствительным. Охотник откинулся на спину, но дальше девица повела себя еще неожиданнее – чем скрываться в душевой, она сильными саженями поплыла к центру бассейна. Оскорбленный и разгоряченный
Гвоздев ринулся за ней. Как уже было сказано, плавал он очень плохо, точнее сказать – почти совсем не плавал. Поэтому, оторвавшись от бортика метров на десять, он принялся тонуть.
Мы не сразу заметили его исчезновение с поверхности: в тумане ничего не было видно и на полметра. Девица давно скрылась, никто ее не преследовал, потому что, не сговариваясь, все решили, что надо бы найти какую-нибудь дичь, более пугливую и податливую. Серега, крикнул кто-то, мы поплыли. Но Серега не отвечал. Впрочем, на это никто и внимания не обратил, хотя я все-таки, как самый задушевный его кореш, задержался у бортика. Гвоздева нигде не было. И я решил нырнуть. Мы избегали открывать глаза в едкой воде, ведь очки для плавания тогда были только у настоящих спортсменов, но все равно являлись домой кроликоглазыми. Нырнув, я открыл-таки глаза. Мне не забыть этого впечатления: скрюченное худенькое тело Гвоздева лежало под толщей воды на кафельном дне… И здесь у меня, как у автора, есть право на несколько вариантов дальнейших событий. Скажем, можно ведь и не спасать утопленника. Или спасти, но с опозданием. Положить на бортик спиной вниз и рассказать вам, что подоспевшие медики в белых халатах поверх пальто, ушанках и валенках были не в силах ничего сделать, потому что худое тело бедного Гвоздева уже окоченело. Что ж, это была бы почетная смерть на посту – смерть истинного солдата, часового раннего полового созревания, разведчика новых путей к вожделенным и запретным удовольствиям… Или все-таки спасти его вовремя, откачать и растереть медицинским спиртом. В конце концов что мне стоит заставить его кое-как окончить восьмой класс, поступить в училище, а потом, закончив техникум, пропадать в геологических таежных экспедициях, где, подпив спирта, повариха-эвенкийка спит со всеми по очереди. Можно даже позволить ему закончить заочно геологоразведочный институт и сделаться инженером, а там женить на Таньке или Наташке, посещавшей его же курс. Пусть она будет маленькая, толстенькая, некрасивая, но с милой ямочкой на левой щеке. Она родит ему девочку, ее назовут тоже
Наташкой или Танькой, и вполне пристойно звучит Наталья, скажем,
Сергеевна. Пусть он остепенится, нахохлится, друзьям юности станет чопорно протягивать узкую руку в перчатке, встречая их во дворе, куда его отправила супруга гулять с дочкой. Та лежит в коляске, гугукает, папаша в ней души не чает, и жутко подумать, каким он будет ревнивым отцом, когда дочка войдет в возраст. Нет, так далеко я не буду заглядывать. Пусть себе Гвоздев тихо катит детскую коляску и лишь иногда, затянувшись сигаретой Шипка, поднимет глаза к окну, за которым некогда жила Оля Агафонова, и, быть может, вспомнит стихи, что так упоенно цитировал в отрочестве: светить всегда, светить везде…
КАК НЕ БОЯТЬСЯ ВЫСОТЫ
Никто из них не желал мне смерти. Ни Серега Черный, ни Ленька
Беспрозванный, ни даже Игорек Бастынец. Сегодня не вспомнить, как родился этот спор. Мы возвращались вчетвером из кино. Зальчик был затерян в переулках, идущих вниз от Смоленской площади, помещался на первом этаже ветхого дореволюционного мещанского дома, назывался кинотеатром, носил гордое имя Кадр. Теперь этого заведения давным-давно не существует, и дом скорее всего снесли. Но тогда мы исправно ездили туда раз в неделю, потому что билет стоил всего гривенник, и, что было особенно важно, нас, тринадцатилетних, беспрепятственно пускали на фильмы до шестнадцати… Именно там мы смотрели Великолепную семерку с Юлом Бриннером – десять раз.
Помнится, дешевизна заведения была вполне оправдана: пленка то и дело рвалась, и на экране на белом фоне возникали темные, скачущие и дрожащие треугольники и кружки. Буфета не было, мороженое и лимонад мы приносили с собой. Зато не было и очередей, к тому же после титра
конец можно было залечь под кресла, затаиться и дождаться следующего сеанса, который выходил дармовым.
Добирались до своей киношки мы так. По Мосфильмовской шел троллейбус номер тридцать четыре – к Киевскому вокзалу. На Бережковской набережной мы сходили на остановке Дорхимзавод, а там шли по
окружному мосту через Москва-реку и оказывались прямо перед
Новодевичьим монастырем, отделенным от набережной длинным прудом с плавающими в нем дикими утками и лебедями, – когда-то это была старица, а позже вплоть до Лужников шли заливные луга, на которых некогда был монастырский выпас. Оттуда пешком до Кадра было пешком минут десять.
Окружным этот мост назывался по имени железной дороги, частью которой являлся. Это было монументальное сооружение постройки тридцатых годов. Мост держался на стальных опорах, посередине проходили колеи железнодорожных путей, а по бокам моста высились две огромные, метров тридцати в верхней точке, полукруглые металлические арки во всю ширину реки. Я не разбираюсь в мостостроении, но на мой взгляд эти арки были типичным архитектурным излишеством, хотя, быть может, и исполняли какие-то опорные функции. Они начинались от самой земли, потом полого шли вверх, с тем чтобы посередине медленно изогнуться и тем же манером пойти вниз. Каждая арка представляла собой такую конструкцию: ажурное стальное плетение венчала толстенная металлическая лента шириной в метр, вся испещренная круглыми крупными заклепками. Я так хорошо помню эту конструкцию, потому что по верху одной из этих арок, левой, если смотреть от монастыря, мне пришлось пройти.
Помнится, трое моих товарищей наскребли по карманам ровно рубль – десять эскимо на палочке. Потому что я решился пройти по верху моста
на спор, а без интереса спорить на подобный подвиг было бы нечестно. Это сейчас, когда я смотрю снизу на этот самый мост, стоящий на своем месте и поныне, у меня кружится голова. Но тогда во мне еще была жива мальчишеская отчаянность и слаб инстинкт самосохранения. Впрочем, мои дружки, уверен, ни на что подобное не решились бы. Я же, помнится, отроком съезжал на санках, а потом на лыжах с почти вертикальных, в прямом смысле головоломных, горок, забирался на отвесные кручи, цепляясь за хилый кустарник, лазил по голым деревьям и на третий этаж по водосточной трубе.
Что такое страх высоты, я впервые испытал не сам, но увидел со стороны, когда через два года заделался альпинистом. Мы жили в палатках в Приэльбрусье, в Баксанском ущелье. Это была оборудованная база для начинающих, и с тренером у меня были некоторые трения на предмет соблюдения режима. Так, я ухлестывал за двумя ленинградскими студентками из Текстильного института, на которых сам тренер тоже положил глаз. Одна, была, помнится, родом из Карелии, беленькая, вторая, покрупнее и потемнее, совсем плоская, но с широкими бедрами, тоже из провинции, из Иванова, кажется, обе жили в Ленинграде в студенческом общежитии и были нрава самого веселого. Я ходил с ними в шашлычную, которая располагалась под Итколом, где мы пили сладкое крепленое вино Улыбка и курили болгарские ароматизированные сигареты Пчелка. Наверное, тренеру очень бы хотелось отправить меня с глаз долой домой к папе с мамой, но я был на особом счету, как перспективный горолаз, и он ограничивался лишь нахлобучками. И вот почему: помимо того что я был парнем крепким и сильным, тренер, будучи в своем деле авторитетом и мастером высшей пробы, добился от федерации в порядке исключения разрешить мне и еще одной девице, тоже посещавшей секцию во Дворце пионеров, которую он вел, подрабатывая вне сезона, совершить пару восхождений. Дело в том, что по тогдашним правилам альпинизмом, мотоциклетными гонками и прыжками с парашютом, экстримом, как говорят нынче, можно было заниматься лишь по достижении восемнадцати лет. Кроме того, догадываюсь, я ему нравился как подающий надежды ученик и, возможно, продолжатель его дела. Потому что летней экспедиции предшествовали многие изнурительные тренировки и я научился лихо вязать узлы и вбивать клинья.
Перед первым восхождением вся группа была выстроена в линейку, перед каждым стоял его рюкзак, и тренер, переходя от одного к другому, безжалостно выкидывал лишние вещи, и особенно кручинились по этому поводу те самые легкомысленные девицы-студентки, которые собирались в горы, как на пикник. Каждому третьему пришлось засунуть к себе в мешок и по одной репсовой палатке, килограмма по четыре каждая. Одна из них досталась мне. И тренер обещал, что на маршруте палатки мы будем передавать от одного к другому.
А маршрут был таков: от Баксанского ущелья вбок уходило другое, поуже. Речка вилась между невысоких гор, и мы шли, пока не достигли огромного, наползающего на ущелье ослепительно белого ледника.
Обогнув его, мы пошли вверх по альпийским лугам, и вскоре стали видны высоко над нами снежные вершины, одну из которых нам и предстояло покорить. Здесь цвели эдельвейсы, пекло горное солнце, мы сделали привал, и мне вдруг залетело в голову покапризничать. Я подошел к тренеру и заявил, что устал и неплохо бы отдать палатку еще кому-нибудь. И тут я получил памятный урок, который вполне может сойти за хорошее назидание. Тренер молча попросил меня развязать рюкзак, у двоих из группы взял еще по палатке и обе ловко упаковал в мой мешок, ухмыльнувшись: мол, своя ноша не тянет… Помню, к месту ночной стоянки уже на границе снега я едва дошел, шатаясь, теряя дыхание, но крепко усвоил, что, когда тебе как угодно тяжело, последнее дело – начинать канючить и жаловаться, ведь может стать еще хуже…
Наутро, когда только-только начинало светать, объявили подъем. И я увидел, как из палатки выползла одна из моих ленинградок, та, что была поуже, помятая и счастливая. А следом за ней показался другой студент, но из Москвы, как сейчас помню, из Губкинского института, и у него был тот особенный уверенный вид, какой имеют по утрам мужчины, вполне довольные жизнью и собой. К этому типу я давно ревновал. Он был много старше меня и постарше всех остальных, потому что до института успел отслужить в армии. Я ревновал его даже не к студенткам только, но и к тому, какой он взрослый, ладный, спокойно-уверенный, как лихо играет в волейбол и каким успехом пользуется у дам. К тому же я был уязвлен тем, что вместе с другими обречен был восхищаться его волейбольными подвигами, стоя у площадки в позе болельщика, тогда как он не замечал меня вовсе. Он был герой лагеря, да и мой тренер был герой, хоть и постаревший. А вот я героем еще не заделался, хотя очень стремился.
Это был мой первый подъем на вершину – на настоящую вершину. Сначала мы долго шли по слепящему снегу, опираясь на альпенштоки, становилось жарко, но снимать майки было запрещено – в горах в ультрафиолетовых лучах очень легко обгореть. Мы останавливались, нам разрешалось сделать лишь по глотку воды из фляги, шли дальше.
Наконец, началось то, что называется на альпинистском жаргоне
скальный участок. Сначала мы лавировали между каменных выступов, идя по языкам снега, но уперлись потом в скалу, и здесь пригодились навыки, добытые на тренировках. Впрочем, скалы были не нависающие, а отлогие, градусов под семьдесят. Тренер наметил пары, связки, как было принято говорить, мне в напарники достался один студент из
Красноярска, натренировавшийся на своих столбах на Енисее. Одну ленинградку взял себе сам тренер, другую назначил волейбольному герою.
Ну техника подъема была ясна: один забивает клин, пропускает через карабин страховочную веревку, ползет выше, другой поднимается за ним, и все повторяется. Дело это медленное, но скучно не бывает: все внимание поглощено скалолазным делом. Наконец, мы достигли верха скалы, и тут выяснилось, что это еще отнюдь не вершина. Гора, как оказалось, была о двух головах, и мы стояли на той, что пониже.
Вторая была перед нами и представляла собой не такую крутую, как ее сестрица, скалу. Но была одна каверза: между собой обе вершины, младшая, так сказать, и старшая, были соединены узкой перемычкой, по которой шла едва заметная обледенелая тропка шириной в метр, как та стальная лента наверху окружного московского моста. Перемычка эта была метров пятнадцати в длину, и это оказался самый трудный участок, потому что по обеим сторонам тропинки были страшные пропасти, у которых не было дна и в которые страшно было заглядывать.
Тренер пошел вперед – волейболист, как самый крепкий, страховал его.
Тренер закрепил на той стороне страховочную веревку, перебросил ее конец обратно, и один за другим мы пошли по тропке, зажмурившись.
Каждый знал, конечно, что подстрахован надежно, но был риск сорваться, повиснуть над бездной, колотясь всем телом о камни, и потом болтаться, как мешок, пока тебя не втянут обратно. Однако ничего этого ни с кем не произошло, и мы, ободренные близостью цели, легко добрались до вершины. Я не буду описывать эту банальную сцену: счастливые укротители высоты сбиваются кучкой над пирамидкой из камней, сложенной предшественниками, с торчащим из нее флажком. В нее торжественно помещается вымпел и нашей группы, все берут по камешку на память, но главное чувство вызывает сам вид распростертых под тобой мрачных гор, расселин и ледников, безжизненных скал и далеко внизу бесконечных снегов, и гордость за то, что ты все преодолел, а это и есть главный приз, окупающий все усилия, страхи, мозоли на ладонях от обжигающей даже сквозь варежки веревки… На обратном пути я и увидел, что такое страх высоты.
Было так: когда мы спустились с главной вершины и вновь оказались перед узкой тропинкой, разделяющей пропасти, с одной из ленинградок, не той, которой достался этой ночью волейболист, но ее подругой, случилась настоящая истерика. Она села под скалой, и по всему было видно, что ее охватила паника. Это было, по-видимому, животное чувство, не поддающееся никакому рациональному контролю. Она ревела, мотала головой, рыдала и стонала, и сквозь икоту можно было разобрать, как она повторяла нет, нет, я не пойду, оставьте меня.
Кажется, в первую минуту даже наш бывалый тренер удивился. Потому что ситуация представлялась безвыходной: перенести ее, крупную телку, дрыгающую ногами и бьющуюся в падучей, на руках через пропасть было невозможно. Все были подавлены, и тоже присели, не понимая, как быть дальше. Тренер нашел в своей аптечке валерьянку, и растворенные в воде капли с трудом влили девице в рот – она сжимала зубы и мотала башкой. Остальным оставалось только ждать. Сейчас все почувствовали, как сильно задувает холодный ветер, и было зябко еще и потому, что мы оказались в тени, и огромный профиль покоренной нами вершины опрокидывался на пейзаж, казавшийся сейчас весьма неуютным. Я помню слезы, катившиеся по круглым щекам девицы, когда она на секунду открывала глаза, заглядывала в пропасть, опять зажмуривалась, и слезы снова катились из-под опущенных век… Конечно, рано или поздно она поднялась на ноги, вняв уговорам, и кое-как ее перекантовали ни живую ни мертвую на большую землю. Но это было позже, а тогда, идя по арке окружного моста на огромной высоте,– до поверхности реки от самого моста было еще метров восемьдесят,– я не знал, что бывают на свете люди, которые боятся высоты.
Я шел, стараясь не смотреть вниз, а только под ноги. Неожиданно за моей спиной низко ударил монастырский колокол, потом пошел перезвон помельче. Трудно сказать, что со мной произошло, но я вдруг оторвал глаза от стальной ленты под ногами и глянул окрест. Мир, всегда видевшийся плоским, обрел объем. Я, будто в озарении, увидел высокие облака, слоями плывущие друг над другом, и понял, как в огромном пространстве висит солнце и кружатся вкруг него планеты. Отсюда, с высоты, привычный повседневный мир стал казаться игрушечным и картонным, как раскрашенный макет, а я сам крошечным и великим одновременно. Я не испытывал страха, только азарт и вдохновение, одаренный будто новым зрением. Мне почудилось какое-то особое мое призвание, будто предназначение быть не как все. И в этом новом чувстве была и сила жизни, и тяга к смерти, и восторг бытия и гибели. Я взмахнул руками и почти побежал вперед. И вот я уже стоял перед своими товарищами, поджидавшими меня на набережной и отчего-то прятавшими от меня глаза. Вот, возьми, пробормотал Игорек
Бастынец, как самый жадный, и протянул мне рубль мелочью.
Сейчас я иначе смотрел на них. Я впрок увидел, как долговязый еврей
Серега Черный бросит институт, сделается разъездным фотографом и станет мужем-подкаблучником и нежным отцом. Мне пригрезилась даже его жена, ленивая, неряшливая и вместе с тем властная баба с большим носом. Ленька Беспрозванный, оказалось, женится много удачнее, на дочке какого-то начальника, в новые времена пойдет в бизнес, разорится, залезет в долги и сопьется, что странно для еврейского мальчика. Впрочем, сопьются и два его брата, младший и старший, и в этом, наверное, проявится их русская кровь по матери, когда-то бывшей красивой деревенской девахой, пошедшей медсестрой на фронт и вытащившей с поля боя раненого лейтенанта-еврея Беспрозванного. А ведь это была дружная семья, по вечерам игравшая в преферанс.
Но самым удачливым станет Бастынец. Он закончит морское училище, женится на дочери своего кавторанга, поплавает, обогнув шар земной, и хорошо заработает на перепродаже импортной электроники. Будучи списан на берег, осядет в Калининграде и возглавит автосервис, на котором будут делать новенькие мерседесы из заграничного краденого лома. И построит себе дом с бассейном… Рубль у него я не стал брать.