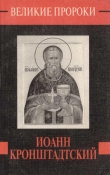Текст книги "Последние назидания"
Автор книги: Николай Климонтович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
КАК СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДЯХ
День моего зачисления в университет стал знаменательным для всего нашего района. Но не моим успехом, конечно, в котором была солидная доля усилий отца: прямо напротив нашего дома в тот год в первый день осени сдали в строй весьма современный по тем временам комплекс – гостиницу Университетская с общедоступным рестораном при нем, где играли громкую музыку и были танцы, широкоформатный кинотеатр Литва
и иноземный магазин Балатон. И не спрашивайте меня, какое отношение имеет венгерское озеро к маленькой прибалтийской республике, не знаю.
В этой самой Литве, как положено, показывали обычную муть, и забавна ее судьба: уж не в наказание ли за грехи после крушения кинопроката там сделали мебельный магазин, а потом открыли Центр для паломников, жаждущих посетить Святую землю – во искупление, наверное. Но нам важен заграничный магазин. В нем, как в закрытой
Березке, где отовариться – словечко как раз тех лет – можно было только на чеки серии Д с розовой полосой, какие платили редким советским счастливым гражданам, трудившимся за рубежом, вместо заработанной ими валюты, – стали продавать много заграничных пищевых и галантерейных товаров. Разумеется, к новому магазину образовывались завивавшиеся очереди, состоящие из граждан, жаждавших импортного ширпотреба. Шутка ли: кроме редкостных кондитерских изделий, итальянского сухого зеленоватого Мартини и виски
Club-99 венгерского изготовления здесь можно было купить такие раритеты, как настоящий шотландский шерстяной плед индийского производства, комплект льняного постельного белья – такие в те простецкие времена, когда не замечали двусмысленностей, продавали только в специальных магазинах для новобрачных по предъявлении
приглашения из ЗАГСа, официального извещения о грядущей дате заключения брака,– растворимый бразильский кофе и много других несбыточных вещей, включая душно-сладкие египетские духи и чешскую косметику, которую до того давали лишь в специальном магазине
Власта на Ленинском.
Очереди и безо всяких венгерских ухищрений были повсеместны, потому что как раз в те годы относительное хрущевское продуктовое благополучие кончилось,– впрочем, и при нем был год, когда пшеничную муку распределяли по месту жительства по талонам. Исчезли икра и осетрина, ветчина, за ней – копченая колбаса, не стало маслин и ананасов, потом шпрот… Если бы этот перечень тогда привели человеку из провинции, он просто не понял бы – о чем идет речь. Потому что в провинции в продуктовых магазинах не знали не только таких наименований, но и ровным счетом никаких, продавался лишь зеленый зельц не приводимой в приличном тексте консистенции, а за молоком натуральным очереди стояли с раннего темного утра, и отпускали его только по свидетельству о рождении ребенка, причем дитя должно было быть не старше одного года – один литровый половник на длинной ручке на одну справку…
Новоиспеченный волшебный магазин изменил не только нашу топографию, но и повлиял на статус здешних обитателей, заметно прибавив им самоуважения – как мне статус университетского студента.
Действительно, наш еще недавно накрытый строительной грязью по уши район дальней Москвы на глазах становился, что называется,
престижным. Исчезли молочницы, еще недавно ходившие по городским домам с флягами парного молока; циркулировали слухи, что на месте ближайшего села, того самого Раменского, вконец обнищавшего и развалившегося, будут строить здания посольств разных заграничных стран народной демократии. Село действительно, наконец, расселили, и слухи действительно оправдались – посольства построили, правда, много позже. Если бы дело происходило в нынешние времена купли-продажи недвижимости, то местные жители знали бы, что их завалящие квартиры стали расти в цене, да и селяне сообразили бы, что земля, закрепленная за их развалюхами-избами, тоже кое-чего стоит. Но это были наивные времена тотальной государственной собственности, и полагать, что нечто кому-то одному может принадлежать, было сродни предположению, что тюремные нары есть собственность заключенного, раз он на них спит.
Однако некие смутные признаки товарно-денежных отношений уже можно было при желании рассмотреть. Нет, квартиру, скажем, законно продать было нельзя, но можно было обменять с доплатой. И о повышении статуса нашего района уже сигнализировали объявления об обмене жилой площади. Я вычитал в газете, что за нашу плохонькую трехкомнатную квартиру мы можем получить четырехкомнатную – плюс маленькая темная кладовка – в сталинском доме на Колхозной площади и таким образом приблизиться к вожделенному для меня центру города, о потере которого я не переставал горевать. Когда я показал объявление матери, она только пожала плечами. И сказала ты же знаешь его характер, он от своего университета никуда не поедет…
Он – это отец, который и впрямь был упрям. К тому же это упрямство носило своеобразный характер: он никогда не выкладывал свои аргументы, так что спорить с ним оказывалось бессмысленно. Можно было только безответно взывать ну почему? – он в лучшем случае лишь загадочно улыбался, в худшем – хлопал дверью кабинета и запирался на ключ. В этот раз он пробормотал что-то в том духе, что
привык ходить на кафедру пешком. И этот аргумент показался мне верхом самодурства. Оставалось лишь утешаться тем, что такого магазина, как Балатон, на Колхозной не было и, можно было надеяться, никогда не будет.
Отец безо всяких деклараций сторонился всего, что нарушало какой-никакой порядок тогдашней жизни, но в то же время чурался споров, препирательств, качания прав. Хотя в известных случаях мог быть невероятно упорен, если чувствовал свою правоту, это должны были быть, так сказать, вещи принципиальные, а не мелочи быта. Так вот, однажды мы с ним решили выбрать подарок матери к дню ее рождения и отправились в этот самый Балатон. Как сказано, там торговали дефицитной продукцией, и очереди к прилавкам состояли по большей части из спекулянтов, которые чуть не ночевали в этом магазине, поскольку за один раз товаров давали с ограничениями – скажем, два индийских пледа в одни руки. А мы как раз нацелились на этот самый индийско-шотландский клетчатый мягкий плед, аппетитно упакованный в целлофан с накленной посреди парадной биркой, так что сам необычный дизайн на фоне советского отсутствия товарного вида каких бы то ни было предметов потребления уже казался праздничным и подарочным.
Мы стояли долго, очень долго. Несправедливо долго, как мне казалось, поскольку во мне, ребенке оттепели, матерью и школой были заложены основы интеллигентского либерализма, причудливым образом уживавшиеся со снобизмом и чувством классового превосходства по отношению к
толпе. Я не подозревал тогда, что подобное отношение к окружающему миру не только не аристократично, но и в чисто прагматическом смысле весьма непродуктивно. Тем более в очереди, разгоряченной азартом добычи и потребления. Я и сам перенагревался от нетерпения и абсурдности происходящего и закипал. Из таких перегревшихся и случаются добровольцы в борьбе за правильность отпуска товара и борцы за справедливость мира в широком смысле. А если учесть, что такие люди отчего-то считают, что им положено и дозволено больше, чем другим, то, как правило, они сами и становятся первыми, кто отстаиваемые ими права и преступает.
К тому же меня бесило покорное поведение отца. Он, человек вспыльчивый, созерцал происходящее с таким благодушием, будто не был советским человеком, но чудаком-джентльменом, путешествующим в компании мистера Пиквика. Можно было подумать, что творящееся вокруг отчасти забавляет его. Пару раз он даже делал поползновения помочь одной или другой распаренной спекулянтке, у которой трофеи уже вываливались из сумок и рук, они же шарахались от него в страхе за добытое. Мне было стыдно, мне начинало казаться, что мой отец настолько не от мира сего, что, кажется, не понимает происходящего.
Потом мне пришла в голову еще более неожиданная мысль: я подумал, что он не то чтобы не понимает правил игры и борьбы, но в них не верит. То есть выходило, что я при всей своей фанаберии был гораздо более советским человеком, чем он. Хотя прожил при советской власти на двадцать семь лет меньше. Потому что не верить в очередь было в те годы и не либерализмом вовсе, а настоящим кощунством и покушением на основы мироустройства.
Много позже, когда я сам оказался на Западе, я понял, отчего отец был так философичен и отстранен: ведь он-то к тому времени уже имел опыт заграничных путешествий и цивилизованного шопинга. И дело не в том, что там не бывает очредей, в Америке, скажем, мне тоже приходилось стоять в линиях: в банке или на почте. Просто отличие русской очереди от западной – в ее, так сказать, телесности. Недаром она описывается как давка, когда люди напирают один на другого, – расхожее советское выражение давиться в очередях никак не случайно. Я далек от того, чтобы видеть в этом сексуальную подоплеку, хотя давка разнополых людей в транспорте, скажем, эротически возбуждает молодежь. Скорее здесь все-таки важнее психологический элемент – паники: не хватит, закроется, не удастся занять место. При полном отсутствии того, что можно было бы назвать
запретом на тактильный контакт. То есть несоблюдение отдельности человека, что в каком-то смысле и есть коммунизм. Так что очередь можно считать реализованной метафорой, и в этом смысле нигилизм отца, который он не смог скрыть в процессе добывания пледа, был значительно более глубоким проявлением внутреннего противостояния, чем, скажем, декларативные интеллигенски-либеральные клики матери.
Между тем заветное было близко – мы придвигались. И, разумеется, чем ближе был прилавок, тем более накалялась очередь. Она уже не гудела, а кипела, наземь летели пуговицы, и трещали швы. Отдельные реплики сливались в один гневный крик, и было ясно, что, даже терпеливо и честно простояв в очереди чуть не два часа, без боя пледа не взять.
Что ж, я был пловец и альпинист, дворово-пионерский опыт тоже не проходит даром, к тому ж переполнен куражом и готовностью применить полученные в процессе жизни боевые навыки – недаром ежеутренне мне приходилось штурмом брать автобус, чтобы доехать до факультета и попасть на занятия. И я – ринулся. Здесь, близко к кассе и дефициту, уже не соблюдались правила борьбы и исчезали различия между полами.
Бойцы дрались не понарошку, разве что не вцепляясь ногтями друг другу в лица. Единый бабий вой ты здесь не стояла переполнял небольшое и душное помещение. Это была последняя отчаянная попытка слабых апеллировать к порядку, потому что более сильные молча и сжав зубы шли к цели напролом… Когда я выкинул вбок одну за другой двух отчаянно сопротивлявшихся беззаконных теток и был уже у цели, я вспомнил, что деньги были у отца. Папа, деньги, деньги, папа завопил я, но никто мне не ответил. Я обернулся, отца рядом не было.
Выбраться из очереди обратно тоже оказалось делом нелегким.
Невероятно обозленный, я вышел из магазина на улицу, но и здесь его не увидел.
И тут я вспомнил, как несколько дней тому назад отец пригласил меня отобедать в университетской профессорской столовой. Это само по себе было для него довольно необычно, баловство никак не было коньком его воспитания, и я воспринял приглашение как знак поощрения, своего рода аванс при моем вступлении на студенческую стезю. В столовую тоже стояла очередь, правда, недлинная, в которую мы и встали, что показалось мне несколько странным. Когда мы уже были первыми у самых стеклянных дверей, а один из столиков освободился, отец шагнул вперед. Но столовая баба в белом халате, распоряжавшаяся посадкой, со словами куда прешь, не видишь – профессoры идут буквально толкнула его в грудь, и какой-то замусоленный важный тип прошествовал мимо нас и невозмутимо уселся за стол, который по праву был наш. Оказалось, мы стояли в общей очереди, профессорам же полагалась зеленая улица к корму, и я испытал такое чувство обиды за отца и за себя, такое чувство нашего общего социального унижения, что покраснел и засопел. Но отец посмотрел на меня и спокойно не без иронии произнес но ведь ты пока еще не профессор…
Тогда же, в день материнского рождения, я нашел его уже дома, причем довольно оживленным. Оказалось, он принес матери из соседнего продуктового магазина торт и бутылку кагора. Потому что мать крепкого алкоголя не пила, да и кагора – одну рюмочку к чаю. Мне же и себе отец в тот вечер молча налил по паре рюмок хорошего армянского коньяка, хотя и не смотрел в мою сторону. И в добродушном выражении его лица, в попытке показать мне, что ничего не случилось, вот и тортом обошлись, я заметил хорошо скрытую легкую брезгливость.
Самое ужасное, что, по-видимому, эту брезгливость вызывал у него именно я.
КАК ДЕВОК ВОДИТЬ
Дверь я открыл своим ключом, стараясь повернуть его бесшумно, и шепнул ей проходи. Конечно, я понимал, что, коли родители увидят мою пассию, в восторг не придут. Отец – это вам не вконец состарившаяся бабушка, которая, когда девки бегали из моей комнаты в ванную подмываться, оказавшись не вовремя в коридоре, тихо здоровалась здравствуйте, барышня и ретировалась в свою комнату.
Но такое случалось, только если родители бывали в отъезде, не при них же. К тому же такое происходило только во время вечеринок, пусть и весьма нескромных, когда народу было много. Прецедентом несанкционированного появления в моей комнате одной-единственной девицы не могли служить и визиты Танечки, с которой мы еще недавно, год назад, в десятом классе прилежно готовились к экзаменам, запершись на ключ. Нет, здесь было совсем другое дело – привести в двенадцатом часу ночи незнакомую девку, не говоря уже о том, что оба были не трезвы. Все же такого скандала я не ожидал.
Мы проникли в квартиру бесшумно, как мне казалось, точно падшие ангелы, но родители, к моему изумлению, уже выстроились в коридоре, будто поджидали меня. И это было, я как-то сразу понял, знаком конца либерализма и в моем воспитании, и в наших отношениях. Что ж, первую свою сессию я, действительно, завалил. Мать была растрепана, халат поверх ночной рубашки, то есть она не поленилась по такому случаю встать с постели. Потом, во время сцены, мать выкрикнула, что я, чем водить в дом уличных девок, лучше готовился бы к переэкзаменовкам; я, помнится, пьяно возражал, что вовсе не уличную, а из кафе
Ангара. Мать тогда недобро прищурилась и сказала с отвращением
кого-то ты мне напоминаешь… Нет, напоминал я ей не отца, который с улицы девок не водил, да к тому же и стоял рядом: это был тот нечастый случай, когда родители были солидарны, а своих мать не сдавала. Я напоминал ей кого-то неизвестного мне, но, безо всякого сомнения, это был достаточно омерзительный тип…
Возможно, молодость, полоса в жизни человека утомительная и нервная, предусмотрена природой как необходимая и даже полезная стадия становления организмов. Не знаю, в моем случае эта функциональность никак не уменьшила ее болезненности и даже опасности: в мои ранние годы в этот именно период созревания по легкомыслию и непросвещенности мои ровесники подхватывали недуги, от которых подчас страдали потом до самой смерти; по лености и неумеренному потреблению алкоголя и барбитуры закладывали основание своего будущего материального и душевного неблагополучия; к тому ж распространенный тогда глупый романтизм под песню а я еду за туманом гнал их, заставляя бросать учебу, в леса, на горы или в моря, и этот эскапизм потом оборачивался если не тюрьмой и не психушкой, то, во всяком случае, рекрутством. И почти все носились с идеей свести счеты с жизнью. Тот факт, что многие из них до сих пор более или менее живы, связан лишь с тем, что извести самого себя под корень и тем более убить неподготовленному человеку не так-то просто
– русский человек живуч.
Семья, школа и даже само коммунистическое государство со всей его идеологической мощью ничего не могли здесь поделать и ничем не в силах были помочь. Разве что, выкинув лозунг молодым везде у нас дорога, отвлечь ненадолго юное переменчивое внимание на спорт или на войну, проще всего – на ненависть и фанатизм, но даже глубокое, казалось бы, увлечение скоро оборачивалось лишь еще более глубоким отчаянием. Я, скажем, был весьма и весьма оживленным и увлекающимся юношей – вплоть до того, что, как это ни странно, на первом курсе мне изредка залетало в голову заниматься; кроме того, в моей специальной школе меня обучали в последнем классе по вузовской программе, что делало освоение университетских наук легкой шуткой, и это сослужило мне, увидите дальше, дурную службу.
Полное разочарование в официальных идеалах как раз совсем не мучило
– мы тогда над ними лишь звонко смеялись, много тяжелее давалось столкновение с миром за окном. Впрочем, меня интересовали вещи весьма далекие и от политики, и от математики, и от, скажем так, народной жизни: стихи, кино, фотография, биг-бит и, конечно, девочки. Однако все это не спасало от приступов ранне-молодого уныния, когда я не мог ума приложить, зачем меня поселили посреди этой неуютной страны, дали тело и лицо, казавшиеся то любимыми и прекрасными, то донельзя отвратительными; зачем вручили сам ум, если я глуп и так многого не знаю и не могу понять; зачем сама жизнь, и есть ли Бог, и в чем толк и замысел оружающего мира, и вообще хорош ли я или есть меня лучше? Последнее предположение, тщательно вытесняемое, прорываясь, повергало в безысходное отчаяние… И одиночество, конечно, и жалость к себе.
Нет, это не был обычный маниакально-депрессивный синдром – грубое практическое изобретение коновалов-психиатров: это были чуткость, нервность, открытость окружающему воздуху, – при самовлюбленности и нагловатости, сменяющихся приступами застенчивости и даже мнительности. Вот, скажем, отношения с теми же девицами. Я пользовался у них успехом и – в случае если объект не был с очевидностью совершеннее меня – шел напролом. Это как правило приводило к скорому успеху, здесь проблем бедняги Сереги Гвоздева у меня не было. Но рано или поздно я стал замечать, что потребляемый мною товар, пусть подчас и ярко упакованный, на поверку оказывался, скажем мягко, не лучшего качества, и этот результат неминуем в любой сфере активности, коли человек идет самым легким и до него неоднократно проторенным путем. А расхожий известный мне с отрочества афоризм, что, мол, ухаживание – дело не барское, при известной пытливости не всегда выдерживал проверку. Напротив, выяснялось, что грубое и неразборчивое потребление лиц дамского пола есть как раз удел шоферов и истопников.
Но это сейчас гладко выходит на бумаге, а в семнадцать лет разобраться во всех этих нюансах сложно и нет времени, поскольку вперед влечет слепой и неослабевающий инстинкт завоевания с клинком наперевес. Это уж потом я узнал, что либидо, учил дедушка Фрейд, должно сублимироваться и претворяться в творческий акт, что за каждую ночь с женщиной, юноша, мы теряем том и что чрезмерный
Шопенгауэр призывал вообще отказываться от этого дела, как убавляющего мужской ум. Какой там…
В дореволюционные времена студенты ходили в казенные публичные дома.
Или, если повезет, соблазняли родительских горничных. Или
тараканили – словцо из семейного лексикона братьев Чеховых – крестьянских девок, пребывая на каникулах в деревне. Большевики отменили стыд и платную любовь, пассия Ленина, воспитанная на идее фаланстера, выдвинула теорию стакана воды, и на смену уличным солдаткам любви пришли комсомолки, и так продолжалось ни шатко ни валко вплоть до того, как российский практический социализм закачался и рухнул. Тут опять возобладал марксистский закон товар – деньги – товар, но блаженная юность моего поколения пришлась, слава богу, на другие времена: бескорыстных доброволок любви было пруд пруди.
Местом охоты я и мои дружки избрали многочисленные злачные заведения проспекта Калинина. Здесь было непредставимо дешево, к тому ж выпивку мы, как правило, приносили с собой, беря в буфете для близира лишь по бокалу дешевого сухого вина, кислого рислинга там или алиготэ. Нам стоило лишь расположиться за столиком, как девицы слетались. Многие были уже знакомы и использованы, но у них всегда находились еще нераспробованные подруги. Конечно, легкость тогдашних отношений между полами была совершенно невообразима старшему поколению: оно кое-что слышало про социалистическую революцию, но про сексуальную – ни звука. Для нас же проблема была не в том, чтобы найти партнершу – спрос в этой части не догонял предложение,– но
куда вести. Хороши, конечно, были ночные скверы летом, теплые парадные и пыльные чердаки осенью и зимой, но эти прибежища годились лишь для скорых собачьих удовольствий. По-видимому, проникнувшись идеей эмансипации, а главное, боясь тем январем отморозить себе задницу где-нибудь в подворотне, я и потащил спьяну только что обретенную подружку к себе домой. Ведь я уже был совершеннолетним и, возможно, бессознательно совершал пробный заход, предпринимал своего рода демарш…
Когда девица была изгнана, я не слишком огорчился, хотя, конечно, пожалел, наверное, что не прижал ее предварительно в подъезде. Но она сыграла свою провокативную роль: ситуация накалилась, именно сейчас решалось – отстою ли я свои права. Это мой дом, сказал я веско, как мне представлялось. Лицо отца омрачилось. Здесь нет ничего твоего, сказала мать. И добавила, что если дело так пойдет и дальше, то у тебя никогда ничего своего не будет. Отец же молча разглядывал меня, и глаза у него дрожали. Это твой выбор, сказал он скорее утвердительно, чем задавая вопрос, и намекая, наверное, на изгнанную девицу. Я нагло пробормотал что-то в том духе, что, мол,
она мне нравится.
– Иди спать, – сказал он, – завтра поговорим.
Я проснулся рано, испытывая не столько раскаяние, сколько похмелье.
Мы позавтракали молча вдвоем с отцом. На лекции идти мне было не надо, начались каникулы, а надо было, действительно, заниматься.
Собирайся, сказал отец, и возьми паспорт.
– Ты меня женить хочешь? – попытался сострить я. И в ответ услышал
по дороге поговорим. Удивительно, но так жестко он со мною никогда не разговаривал. И какое-то чувство унылого безволия охватило меня, будто я почувствовал, что впереди меня ждет что-то стыдное и унизительное.
Мы вышли на морозную улицу. О какой дороге говорил отец? И куда он меня ведет? Я хочу, чтобы ты показался врачу, сказал он, и я увидел на его лице незнакомое мне прежде выражение не досады, не гнева, но – страдания. Это испугало меня, я здоров.
– Ты живешь, – сказал отец с болью, будто пересиливая себя, – ты живешь в доме с тремя женщинами…
Мы сели в троллейбус и приехали в венерологический диспансер, который располагался на Мосфильмовской улице. К участковому венерологу тоже была очередь, но все-таки не такая большая, как за пледами. На шатких стульях, выставленных вдоль крашеной зеленой масляной краской стены, смирно сидели мужчины разных лет. Одни сжимали побелевшие руки на коленях в ожидании диагноза и приговора, другие, пришедшие, видно, на проверку после курса бициллина, глядели пободрее. Висел аллегорический плакат, предупреждающий о катастрофических последствиях случайных связей: разбитная накрашенная девка в соблазнительной миниюбке наступала наглым каблуком на хрупкий стебель цветка. Какой нехорошей болезнью болела девка, оставалось догадываться. Меня вызвали в кабинет.
– Жалобы есть? – спросил веселый, как мне показалось, доктор. Он был без очков и потому, наверное, щурился. На нагрудном кармане белого с желтизной халата было неотстиранное чернильное пятно. – Снимай штаны. Жми от корня… Так, повернись. Пописай в баночку над раковиной… Так, – сказал он, рассматривая мою мочу на просвет, причем глаза его почти совсем прикрыли веки, будто он получал удовольствие. – Выливай,– отдал он мне мою банку и склонился с ручкой к столу, – сполосни… Поставь не место… Одевайся… Следующий! – крикнул.
– Вы скажите… – попросил я, заикаясь, застегивая штаны, пылая стыдом и унижением.
Доктор встал, подтолкнул меня к двери и крикнул в коридор здоров,
папаша…
Мы молча вышли на улицу, не глядя друг на друга. Это унижение он нанес мне в видах воспитания? Или он действительно думал, что я томлюсь тайной болезнью? Я на кафедру, сказал он, а ты – домой?
Я посмотрел на него, его суровое страдание сменилось слабой улыбкой, в которой мне почудились жалость и, быть может, тень раскаяния. И я понял, что скорее всего нашей молчаливой близости пришел конец. И мне теперь придется взрослеть одному. И сиротою искать путь к дому.