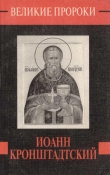Текст книги "Последние назидания"
Автор книги: Николай Климонтович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
КАК ГРЕХА БЕЖАТЬ
Пришла еще одна нервная весна. В сквере на улице Дружбы, что перед китайским посольством, на берегу пруда появилось новое лицо – дама с котом. Кот был рыж и толст, скорее всего кастрирован, гулял на поводке, как шпиц. Животные нас и познакомили: моя фокстерьериха
Топси, забыв на время о прикормленных кусками студенческих булок с изюмом и огрызками школьных пирожков с повидлом диких некогда утках, давно забывших улетать на зимовку на берег турецкий, но не потерявших увертливости, забыв о неприступных шипящих лебедях, проявила к коту самый живой интерес. Прямо скажем, бросилась на него. Кот был недоволен, фыркнул и напыжился, я извинился, Топси, удивляясь, что она же еще и виновата, выслушала мое внушение.
Выяснилось, что кота звали Антон, даму – Лика. На коте был ошейник с золотой инкрустацией, на Лике – большая светлая шляпа с полями, похожая на абажур. На этом чеховские реминистенции кончаются.
Сблизили нас события на далекой реке Амур, потому что возле китайского посольства как раз в те дни проходили организованные властями демонстрации трудящихся. Демонстрантов снимали с работы в ближайших НИИ и веселыми, будто их отправили пить и предаваться свальному греху на картошку, дружными колоннами проводили под окнами китайцев. В сторону посольских служащих, одетых в одинаковые синие френчи и время от времени опасливо выглядывавших из-за белых марлевых занавесок, из толпы летели загодя приготовленные пузырьки с разноцветной тушью, наверное, выписанные по линии профкома: посольство долго потом стояло, украшенное потеками, которые упрямые китайцы не смывали. Впрочем, протестующие, хоть и потрясали кулаками, были настроены скорее добродушно, и среди однотипных официальных плакатов руки прочь от Даманского бросался в глаза укоризненный транспарант домашнего содержания что же вы, друзья китайцы?
– Неужели, – сказала Лика, подхватывая кота, который был обеспокоен беспорядками не на далеком острове, а на родном бульваре и дергал толстым хвостом, – неужели нам жалко для них какого-то там острова?
Голос у нее был довольно низкий, будто она много курила, запивая сигареты портвейном. Нам с Топси острова тоже было не жаль. Кстати, три с половиной десятка лет спустя этот самый остров китайцам все-таки подарили, но это к слову… Я был приглашен как-нибудь заглянуть на кофе. И получил номер телефона.
– Если подойдет мама – не смущайтесь, – сказала она на прощание.
Думаю – по привычке, ибо вряд ли я выглядел таким уж застенчивым.
Лика обитала здесь же, в доме по соседству, с мамой Капитолиной
Константиновной и с тремя котами – обнаружилось, когда я заявился в гости, что, кроме Антона, есть еще два, Иван и мой тезка Ники,– в однокомнатной квартире в обычной советской тесноте и убогости. Пахло кошачьей мочой, рыбой и египетскими духами, взятыми, наверное, в
Балатоне. Однако в убранстве и быте этой маленькой семьи было будто воспоминание о несбывшемся: признаки давно забытого уклада и призраки погибшей роскоши – нет, не потерянного в исторических передрягах семейного богатства, но неутоленной тоски по обеспеченной неге: угловые китайские полочки с золотой живописью по черному, уныло свисающие с них желто-серого цвета ручной работы кружева, какая-то безделка из слоновой кости.
Размещение постояльцев квартиры было таково: пожилая мама в бигудях, приветливая, но усталая и будто чуть испуганная, обитала в единственной большой комнате с многими горшками разбегающихся вьющихся растений, ее же дочь Лика обреталась в закуте, выгороженном из кухни, – там стоял на подкосившейся ноге торшер с интимно наброшенным на него шелком, там висела книжная полочка, где сбилась стайка однотипных сборничков, скорее всего стихов. Во всяком случае, первой стояла книжка, на обложке которой можно было прочесть Сильва
Капутикян.
– Мама кофе не пьет, маме вредно пить кофе, – сказала Лика своим низким голосом в никуда и увлекла меня в закуток.
– Да мне же на дежурство, доченька, – с фальшивой готовностью отозвалась та сквозь стенку, отлично пропускающую звуки. – Не забудь мурзиков покормить.
– Ну мама…
– Рыбка в морозильнике…
– Мама же…
Мне стало понятно, что дамы вряд ли живут, постоянно обдавая друг друга нежностью. Впрочем, пока оставалось неясно, кто кем здесь помыкает.
– Мама работала в музее-заповеднике, – говорила меж тем Лика из-за перегородки, где таились в темноте раковина и кухонная плита. Я, усаженный в ее девичьем закуте на тахту, озирался. На стене передо мной помещалось изображение одинокого треугольного паруса, сделанного из куска дерева более светлого тона, чем тот, который изображал море. – А она была хорошим специалистом, коллектив ее любил, но ее отправили на пенсию, потому что, вы понимаете, Николай, там, где интриги, там не нужны опыт и знания…
– Да уж, – откликнулся я, отгоняя одного из котов, менее авантажного, чем Антон, но более общительного, приладившегося тереться о мою штанину.
К моему удивлению, к кофе Лика успела переодеться в домашний халат с розами, хотя мы были едва знакомы, и дала вафель с розовой прослойкой – такими на полдник, помнится, угощали в пионерском лагере. Наш поезд, похоже, шел без остановок и по назначению.
Впрочем, в тот раз я, укусив вафлю, лишь попридержал в руке ее руку и неловко чмокнул в шею, когда мы прощались в прихожей; она улыбнулась и сделала в воздухе неопределенный предостерегающий жест.
Что ж, сообразил я, живет она удобно, две минуты от моего дома; с мамой можно не церемониться; тот факт, что Лика была вполне зрелой девушкой, лет, наверное, на пять-шесть старше, никак меня не смущал
– у нее была высокая грудь, широкие скулы, чуть вывернутые накрашенные сдобные губы, крупные, чуть навыкате, темные глаза с выражением затравленной дикости. Когда я спустился вниз, то застал
Капитолину Константиновну в закутке возле лифта: по-видимому, она подрабатывала к пенсии консьержкой, как весьма приблизительно называют эту должность сегодня, по-тогдашнему – лифтершей, что тоже было не слишком точно. Старуха в наброшенной на плечи некогда дорогой шубе из облезлого котика сидела на стуле и вязала, меня она не заметила. Что ж, в конце концов лифтерша так лифтерша, к тому же она искусствовед, служила в музее, подумал я и спохватился: чем занимается сама Лика, спросить мне было недосуг.
Я был настроен решительно. Я прикинул, что на осаду у меня уйдет еще пара дней, но, когда я позвонил в следующий раз, меня не пригласили скоротать вечерок. Охладили вопросом, есть ли у меня выходной костюм. Я понимаю, Николай, вы студент, но если бы вы были э-э… не всегда одеты… по-молодежному, то мы могли бы сходить с вами в концерт… Костюма у меня о ту пору не было. Не говоря уж о том, что мне была неприятна эта тонность, а в концерт идти я не хотел. То есть против концерта как такового я ничего не имел, Танечка часто заманивала меня вместо пивного бара в консерваторию, но, по моему тогдашнему разумению, люди парами посещают публичные мероприятия лишь после, никак не до. Я понимал, конечно, что мне навязывают ритуал ухаживания, и не было никакой гарантии, что волынка не затянется. К тому же посещение концертов и театров стоило денег, пирожные в антракте, как у Зощенко, то да се, а денег у меня, разумеется, не было, так, можно было бы наскрести на бутылку Токая.
– Костюма у меня нет, – сказал, помнится, я, хоть это признание нелегко мне далось. – А от музыки у меня болит голова. Давайте-ка лучше погуляем с котом…
Она, кажется, все поняла и оценила мою откровенность, приняла, так сказать, мои обстоятельства как факт.
– Что ж, зайдите за мной.
И я действительно зашел к ней, и было мило, мы выпили вина, кот был забыт, мне была разрешена некоторая рекогносцировка. Но когда я распалился, она отодвинулась и сказала:
– Вот вы меня ни о чем не спрашиваете, Николай, я понимаю – вам неинтересно. Вы молоды. А ведь я была замужем… Что вы на меня так смотрите?
Но смотрела на меня как раз она сама своими беспокойными крупными глазами.
– Да, – сказал я, разглядывая ее колени. Эти семейные подробности мне на самом деле были сейчас ни к чему, у меня уже ныло в паху.
– Почему вы не спросите, отчего я разошлась?
– Отчего же? – спросил я глухо, сглатывая слюну и опять подбираясь к ней поближе.
– Ах, брак – это так скучно, – потянулась она и вдруг схватила меня за руку. – Ведь сегодня он хочет, а я нет – вот что. А назавтра наоборот. Мужчины капризны – вот почему. – И она расхохоталась, откинувшись. А потом опять повернулась ко мне, держа в пальцах бокал. – За вас, Николай. Как вас называет мама?
– Зайчик, – откликнулся я, полагая, что сострил, хотя в добрые минуты маменька именно так меня и называла. Теперь, правда, все реже. Лика как-то вдруг огорчилась, и слезы показались у нее на глазах. Наверное, она не совсем в себе, подумал я. Но это наблюдение тоже совершенно не расхолаживало. Скорее напротив. Мы чокнулись.
Тут вошла мама, позванивая бигудями.
– Вино пьете, ну вот, – сказала она.
– Ну мама, – сказала Лика.
– Вот-вот, – отозвалась та и удалилась. Я отчего-то подумал, что в молодости старуху называли, по всей видимости, Капа.
– Вы мне нравитесь, зайчик! – засмеялась Лика и промокнула слезинку в углу глаза указательным пальцем. – И ваш пес такой симпатичный.
– Это она, – сказал я. – Сука.
– Ну да, она. – Лика опять посмотрела на меня прямо своими выпуклыми глазами – на этот раз она была сосредоточена. – Но знаете, вот что я вам скажу, – понизила она голос, – сегодня у меня месячные… Уж простите. – И она снова хохотнула, будто процитировала нечто из книги занимательная гинекология. Эта ее деланная прямолинейность и рассчитанная бесшабашность не расхолодили меня. Хотя оставалось неприятное чувство, что она меня испытывает. И что мама, оказывается, может появиться в любой момент.
Впрочем, не только ведь похоть заставляла меня звонить ей и приходить. Хотя, конечно, я выжидал момент, понимая, что она просто жеманится и до времени играет со мной. Нет, помимо всего прочего мне стало казаться, что с ней мне как-то спокойнее, чем в открытом мире.
Сидишь себе под шелковым торшером, вокруг снуют коты – священные животные у египтян, пахнет кофе, кошачьей рыбой и духами. А рядом взрослая томная женщина ломает милую комедию, готовясь тебя совратить… Я не задавал себе вопросов: есть ли у нее еще кто-нибудь и на что она живет? Мне просто нужно было передохнуть: так по пути присаживаются на лавочку старички, когда идут в дальний магазин за кефиром. Наверное, в свои восемнадцать я взял слишком бодрый старт.
Или дело в том, что была весна, напряжены нервы, снег уже сошел, голая земля, и на виду оказались весь зимний мусор и грязь… Я даже на Калининский перестал ходить, валялся с книжкой на диване, когда удавалось увильнуть от посещения лекций, а от Лики возвращался домой не поздно и трезвым, и моя мать, подозреваю, втайне беспокоилась: уж не заболел ли я?
То, что настал мой день, я понял по торжественной интонации Лики, сообщившей мне по телефону, что сегодня мама дежурит. Конечно, это сообщение носило ритуальный характер, мама здесь была ни при чем; но все-таки хорошо, что она не заявится и неожиданно не скажет свое ну вот. Я поскреб бритвой пух на щеках, наодеколонился, выпросил у матери пять рублей, приобрел бутылку шампанского и зефир в шоколаде.
На цветы мне не хватило.
Я обнял Лику уже на пороге, проник под халат, на ней была шелковая комбинация, таких, увы, теперь не носят, и я успел подсмотреть – черная с кружевом, а под комбинацией, кажется, не было ничего, да-да, ничего… Лика прервала наши объятия криком рыба, рыба! На плите действительно булькал и страшно вонял рыбный суп для котов.
Коты вились вкруг Лики, которая сделала высокую прическу, вздыбив волосы, водили хоровод, мурлыча. Я присоединился. Торшер уже тлел. Я поставил на столик зефир и шампанское, от запаха супа меня мутило.
Сейчас, сейчас, доносилось из-за перегородки, и послышался стук кошачьих мисок. Я опустился на тахту и чуть не стукнулся затылком о стенку – тахта была разложена. Смешанное чувство испытывал я – будто не туда попал. Возможно, меня смущала хозяйкина деловитость. Лика вбежала и уселась прямо мне на колени, отчего я опять не удержал равновесия. Положение было соблазнительным, я принялся подминать ее под себя. Не сейчас, не сейчас, возопила Лика, налей же шампанского… И потом, добавила она таинственно и нажала указательным пальцем правой руки мне на кончик носа, ты еще не был в ванной… Ноготь на ее пальце был в лиловом лаке. А я заведу музыку…
Собираясь к ней, дома я предпринял тщательный душ. Но это было уже неважно. Под звуки твиста Бабаджаняна я отправился и миновал кухню.
Коты жрали. Я прошел мимо ванной и, крадучись, вышел в переднюю.
Тихо открыл дверь, прокрался на лестничную площадку и припустил вниз по лестнице…
Во дворе, как сказано, была весна и дул ветер. Глаза слезились. Я впервые в жизни испытал упоительное чувство побега. Руки прочь от
Даманского. Я отчетливо осознал, что отныне побег станет неотвратим и постоянен, а сам бег, иногда замедляясь, неостановим. Сын человеческий не знает, где приклонить ему главу, неслось в голове.
Пахло будущей черемухой, но сады еще пустовали. Мисюсь, где ты?
КАК ДЕЛАТЬ АБОРТ
Звали ее Ира, она напевала:
– Аскорбинки десять грамм,
А потом – Грауэрман.
Это она, конечно, храбрилась. Быть может, она в свои двадцать лет и не в первый раз залетела, наверняка не в первый, но все равно страшно. Мы же с Костей пребывали в легкой панике. Потому что на вопрос, который мы ей задавали, перетаптываясь и краснея, от кого, она, похохатывая, отвечала:
– Да от обоих!
Мы подружились с ним на втором курсе. До того он поступил на мехмат, делал успехи и подавал всяческие надежды, однако когда у него от рака умерла мать, он наконец-то потерял невинность. Это был тот самый Костя Каменец, у которого мы в детстве в школе списывали задания по арифметике, а потом поколачивали во дворе за ябедничество, и он в отместку швырял из окна нам на стол для пинг-понга гнилые сливы. Но тогда это был отличник-недомерок, вундеркинд и маменькин сынок, а теперь стал рослым красавцем с широкими плечами, с гордым профилем и прекрасным густым коком.
Общаться с дамами ему так понравилось, что в конце второго курса его, парня очень способного, отчислили-таки из университета за неуспеваемость. Мы дружили и соревновались, потому что у каждого было слишком много амбиций и ни один не хотел уступать. В течение года-двух виделись чуть ли не каждый день, до одури спорили, который из двух романов Воннегута лучше, он был за Колыбель для кошки, я настаивал на Бойне №5, предавались разврату на пару и однажды, подступив друг к другу с кулаками, договорились, что он, Костя, умнее, зато я – талантливее. И этот пакт держался, пока мы не разошлись – так же неожиданно, как когда-то сблизились.
Но это было потом. А тогда эту самую Иру я подцепил на Калининском все в том же кафе Ангара и привез к Косте в его большую квартиру -
свободную, поскольку его вдовец-отец, проректор Института стали и сплавов, часто оставался на ночь у своей секретарши. И, что было важно, всегда предупреждал по телефону, коли желал наведаться к себе домой сменить костюм и галстук. Впрочем, Костя, скорбя по матери, к своему фазеру относился без почтения, потому, кажется, что презирал за плебейское происхождение и воспитание, за трудовой путь от мартена в Кривом Роге до номенклатуры, считая при этом самого себя другой крови.
Девчонка была из рабочей окраинной семьи, нрава самого легкого и уже месяц как служила курьером в Министерстве легкой промышленности, это было в ее годы далеко не первое место службы. Министерство располагалось здесь же, обок с кафе, в котором она проводила вечера, пользуясь успехом, – у нее была замечательная грудь и светящееся радостью смекалистое личико. Однажды появившись у Кости, она стала бывать там чуть ли не через день, по ночам курсировала между нашими комнатами и нашими постелями и как-то за завтраком, еще не зная, что беременна, спела нам частушку:
– Наши девки – первый сорт,
Сами делают аборт,
Вилками, тарелками
И гвоздями мелкими…
Ее, если б чуть окультурить, можно было бы назвать красоткой. Когда она утром сидела за столом на кухне в мужской, мешком сидящей байковой ковбойке с закатанными рукавами, с торчащими из них худенькими запястьями в синих жилках с исподу, с мокрыми после душа мелким бесом вьющимися каштановыми волосами, с поджатой под белый голый зад светло-свекольной пяткой, с тоненьким прямым носиком и бордовыми губками, с быстрыми голубыми сияющими глазками, и болтала без устали – я любовался ею. Но мне бы и в голову не пришло в нее влюбиться, и не только из социальных обстоятельств – это тогда в расчет не принималось. Просто ее любовь, если можно так назвать непритязательные физические упражнения, которым она предавалась со всем азартом молодого здорового организма, была до поры лишь выражением приязни к миру, между мужчинами она не делала различий, называя их всех собирательно мальчики, а я, как юноша романтичный, не мог избавиться от поползновений придавать половым отношениям личностный оттенок. Кроме того, ею никак невозможно было помыкать, хотя она никогда не спорила и не дерзила, но, смеясь, увертывалась от каких-либо обязательств и всегда оказывалась не там, где ты ее оставил.
Впрочем, в большинстве случаев на нее можно было положиться, во всяком случае, до тех пор, пока, как игривой и нежной киске, ей было вольготно, весело и сытно. Даже Костя, будучи юношей избалованным, брезгливым и привередливым, ей как-то сразу доверился, причем настолько, что согласился принять ее в нашу компанию, о чем ни он, ни я до поры до времени ни разу не пожалели. Быть может, его забавляли ее натуральность и нетронутость никаким воспитанием и обучением, что он, по своему высоколобию, принимал за восхитительный и прихотливый цинизм, но это было лишь прекрасное и бездумное краткое цветение. Так или иначе, до поры до времени Ира стала нашим доверенным дружком. Она шлялась с нами по кабакам и помогала
снимать приглянувшихся девчонок, причем, когда нужно, изображала пассию Кости, а когда нужно – мою, по обстоятельствам. И так продолжалось вплоть до того дня, когда с очевидностью обнаружилось то, что обнаружилось, а она простудушно утешала нас: ну и что, залетела, с кем не бывает, у нас все девчонки – ковырялки…
Мы не очень понимали, что она хочет сказать, а Костя, как человек, не в том месте перебегавший через дорогу и угодивший под машину, искренне недоумевал, как же это могло случиться. Но я был опытнее, я лишь мудро заметил, что это должно было произойти рано или поздно, ведь никому из нас и в голову не приходило предохраняться.
Он все переспрашивал ее с надеждой, не ошиблась ли она и откуда она знает.
– Да у меня уж полтора месяца, – отвечала та бесшабашно, – гостей нету.
Мы и про гостей не понимали, но чувствовали, что дело наше совсем худо. Помню, Костя спрашивал меня трагическим шепотом беременели ли от тебя когда-нибудь женщины. Я ерничал в том духе, что если и да, то мне об этом неизвестно. От меня тоже нет, сказал Костя. И мы пришли в расстройство, а Костю так и вообще охватила легкая паника.
Конечно, мы искренне полагали, что все это дела женские, никак нас не касающиеся, но, с другой стороны, постепенно убеждались, что деваться нам некуда, поскольку было ясно – наша Ирочка по своему легкомыслию сама ничего предпринимать не собирается.
Более того, она как ни в чем не бывало, прихлебывая вермут, взяла моду шутить, мол, а вы меня оба замуж возьмите, в чем нам уже мерещился плохо завуалированный шантаж и чудилась неминучая беда.
Костя вскакивал из-за стола с затуманившимся глазом вспугнутого грача, с перекошенным от отвращения лицом и с приступом, казалось, подступавшей тошноты, – ведь это был тонкий и чувствительный мальчик, и номенклатурный папа хотел его женить на дочери второго секретаря обкома, курировавшего в столице высшее образование.
Поэтому Костя как раз в то время делал попытки учиться играть в теннис, а летом собирался в цэковский санаторий на Кавказ – знакомиться с династийной невестой, которую еще в глаза не видел.
– Нет, – говорил Костя, когда мы оставались вдвоем, – она так просто не отстанет. Что же делать, что же делать?..
Да и я, признаюсь, был напуган. Потому что было ясно, что пустить дело на самотек никак нельзя, иначе все неминуемо кончится скандалом. Нет, утопить ее, как поступил со своей подругой герой
Драйзера, нам в голову не приходило, мы просто-напросто решили заставить ее сделать аборт, что было, собственно, единственным возможным решением. Вот только мы ровно ничего не знали об этой операции.
– Да что ты, Костенька, волнуешься? – ответила она, когда он взял на себя бремя объявить ей об этом. – Вот допью и съем двести грамм петрушки. Нет, килограмм. Потом залезу в горячую ванну с горчицей, и все из меня выльется… – И, увидев наши удрученные лица: – Какие вы, мальчишки, смешные…
Но нам было не до смеха. Мы, мальчики городские, не доверяли ее народной рецептуре, здесь наверняка нужна была более надежная, чем огородная петрушка, более тонкая и редкая фармакопея. Костя позвонил бывшей сокурснице, которая тоже некогда побывала его наперсницей, та спросила – какой срок.
– Срок какой? – прошипел Костя, закрывая трубку рукой.
– Какой срок? – не понял я.
– Беременности срок.
– Полтора месяца, она сказала.
– Ага,– подсчитала Костина конфидентка, – шесть недель, значит. – И дала заветный адресок.
Нет, речь шла не о подпольном абортарии, в которых, по слухам, брали большие деньги, но о гомеопатической аптеке, располагавшейся, как оказалось, неподалеку, почти под носом, на Ленинском проспекте.
Костя записал под диктовку названия магических семи травок, я и сегодня помню начало списка, волшебные слова туя, апис, пульсатила…
Помню, мы приехали в аптеку вдвоем, но долго не могли подойти к окошку. Наконец я с самым заправским видом решился, наклонился и спросил даму в белом халате, есть ли? Оказалось – есть. И недорого, в цену литра итальянского вермута из магазина Балатон, так примерно. И давали без рецепта.
– Схему знаете? – спросила меня дама насмешливо, или это мне так показалось. – Читайте инструкцию…
Инструкцию по применению мы с Костей выучили на зубок. Там было расписано, как глотать эти малюсенькие белые шарики – по три зараз из каждой из семи коробочек. И так неделю. Когда мы все это расписали Ирочке, она лишь пожала плечами: ну фигня это, конечно, лучше пропариться и ковырнуться… Но первую порцию шариков проглотила.
– Вот что, – сказала она, – мне девки говорили, что лучше все сразу, чтоб кровь быстрее бежала. Значит, так, стакан водки, ваши зернышки эти, петрушка – и в ванную.
Мы зря ее послушались, потому что после стакана водки с петрушкой и нашими травками в ванне ее долго и бурно рвало. Костя сказал, что теперь травок не хватит на полный курс, но я заверил его, что коли будет надо, то еще прикуплю… Стоит ли говорить, что на молодой цепкий девичий организм все эти средства не произвели ровно никакого впечатления. Разве что она стала бледная и осунулась и ее то и дело тошнило. Один раз, слабо улыбаясь, она сказала, выйдя из туалета, что вроде да, кровь показалась. Но вскоре сообщила, что это ей, наверное, почудилось. И мы убедились, что она водит нас за нос.
Время шло. Даже мы это понимали. Костя продал в букинистический материнское полное собрание сочинений Диккенса, вышло что-то около пятидесяти рублей, и мы решили отправить нашу Иру на операцию. Она, впрочем, кажется, совсем забыла о своей беременности. Оставалась беспечной, хоть и несколько заторможенной, попрыгуньей – во всяком случае, так казалось со стороны. Когда через всю ту же бывшую сокурсницу все было договорено и мы объявили Ирочке приговор, наша девочка ни словом не возразила, только побледнела, обычная озорная улыбка сошла с ее лица, но она не заплакала. Она только тревожно спросила, заглядывая в зеркало и обращаясь почему-то ко мне:
думаешь, я останусь… красивая? И здесь во мне тупо шевельнулась догадка, что это моя девочка и у нее в животе, возможно, уже шевелится мой ребенок. Но тут же и исчезла, как плеснувшая на песок волна, и след ее скоро высох… Однако отвезти ее в больницу пришлось именно мне, потому что Костя сказался больным, был и вправду бледен.
Я, не зная, что для нее сделать, купил ей с собой мандаринов и бутылку все того же вермута. От вермута она отказалась. У дверей больницы сказала пока. Ступила, не оборачиваясь, во вращающиеся двери, придерживая правой рукой спортивную сумку на левом плече… Она пообещала махнуть мне из окна, когда ее приведут в палату, но все окна больницы оставались закрыты, даже те, в которых горел свет.
Наверное, забыла, решил я, но не уходил до темноты и, сидя на лавочке в ближайшем сквере, выпил в одиночестве почти всю бутылку из горлышка…
Стоит ли говорить, что и Костя, и я скоро забыли о ней. Во всяком случае, будучи вместе, не вспоминали. И она Косте не звонила. Недели чрез две или три я сам, найдя ее телефон, которым, впрочем, ни разу не пользовался, позвонил все-таки ей домой. Трубку взял какой-то мужчина, наверное, отец, и, помолчав, просто и глухо сказал:
– Иры больше нет с нами. – И повесил трубку.
Я бросился звонить Косте, но его не было. И свет в его квартире не горел. Больше я не звонил ему никогда, решив, что ему незачем обо всем знать, потому что это я ее потерял. И он мне не звонил. А потом мы разъехались из нашего двора. Много позже я однажды все-таки наткнулся на его след. Как-то меня свели с одним издателем-осетином, который занялся этим бизнесом, прогорев, кажется, в ресторанном. Он ничего не понимал в своем новом деле, но хорошо считал деньги, поскольку книги более или менее продавались, особенно поваренные, а рукописи читала его жена Даша, застенчивая, с большими круглыми глазами в темных кругах, маленького росточка гимназистка лет сорока пяти и в стоптанных туфлях. Она-то неожиданно и передала мне привет от Кости Каменца, с которым, по ее словам, познакомилась, когда гуляла с собакой, поскольку они жили в одном доме. Значит, бедняга до седых волос все ублажал чужих немолодых жен, которые, быть может, коли муж оказывался в отъезде, варили ему суп, гладили рубашки и, чем черт не шутит, носовые платки.