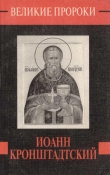Текст книги "Последние назидания"
Автор книги: Николай Климонтович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
КАК СЫГРАТЬ ПРИНЦА
Многие подростки, преодолевающие возрастную застенчивость, очень хотят, чтобы их увидели. Мечты сбываются. Оказавшись на период ремонта квартиры, отбитой у бедных Михайловых, в пионерском лагере в составе четвертого отряда, я, кудрявый, получил в тамошней самодеятельности роль принца в пьесе Золушка довольно ловкого драматурга и хорошего, судя по его воспоминаниям, человека Евгения
Шварца. Это был тот самый автор, что сочинил очень унылую сказку
Два клена, на нее меня водила бабушка в замшелый тогда Театр юного зрителя, и трудно придумать театру более глупое название. Я не плакал над судьбой деревьев, но печалился от скуки, и эта экскурсия надолго отвратила меня от театральных зрелищ. К тому же я уже начал томиться не по условным сценическим красавицам, а по всем земным более или менее складным девочкам старше себя – мои ровесницы, кроме разве что Скоковой и Ольги Агафоновой, были еще угловаты и плоски. Ко времени, когда приспело разучивать роль, я был бесповоротно влюблен в помощницу старшего пионервожатого, время от времени проводившую утренние линейки. В отличие от других вожатых она не была студенткой, но – девятиклассницей и пионеркой из первого отряда, а назначение свое получила за лукавую смекалку, таившуюся в ее шатеновой головке, за лучистую красоту темно-ореховых глаз, за миниатюрность и смуглую манкость. В те годы еще не знали английского слова эпил, но говорили сексапильность, образуя это выражение скорее всего от “пилиться”, одного из бесчисленных тогда в кругах передового юношества глагольных эвфемизмов для
совокупляться. Только-только распустившаяся дивная семитская красота Гали Бебих, так ее звали, была именно сексапильна. В короткой синей юбочке, не скрывавшей и чудные ножки, и задорные коленки, всегда в белоснежной, с приколотым на ней пионерским значком, рубашечке, под которой притягательно торчала маленькая грудь, в задорно развевавшейся красной пионерской косыночке на смуглой шее, она безотказно действовала на воображение всего мужского контингента лагеря, вплоть до электромонтера.
Мне выдали уже на время репетиций золотую картонную корону, и я рассчитывал, что, быть может, в короне она меня наконец-то приметит, не может же она пропустить премьеру спектакля про настоящего принца, а принцем предстояло быть именно мне. Моя страсть была того градуса, что, будучи все-таки не робкого десятка, я прятался, едва видел ее в конце песчаной дорожки, обложенной по сторонам половинками поставленных торчком красных кирпичей. Из кустов я подглядывал, как идет она от спальных корпусов к столовой, будто что-то про себя напевая, помахивая в такт чуть отставленной, полусогнутой в локте смуглой правой рукой. Незнакомое прежде возбуждение охватывало меня.
Как-то я даже вырезал перочинным ножиком на коре стоявшей на краю территории одинокой моложавой березы заветное имя, будто загадал. Я знал, что по вечерам она гуляет со старшим пионервожатым за
костровой поляной, иногда следил за ними вплоть до отбоя, вожатый вел себя прилично, говорил, она слушала, клоня головку. Я потом ворочался в кровати, ревниво мучаясь вопросом, насколько они, едва отзвучали последние звуки трубы, углубились в лес…
Режиссер Анатолий был очень худ, будто истощен, высок, сутул.
Студента-филолога, его держали в лагере на неясной должности
художественный руководитель скорее всего из дружбы, мой соперник, старший вожатый, был его однокурсник. Кадыкастый Анатолий декламировал по-французски, всегда пел Окуджаву и был в меня влюблен. Он вступил в сговор с толстой добродушной вожатой нашего отряда и на время послеобеденного тихого часа брал меня купаться на Красновидовское водохранилище, светившее сквозь придорожные деревья в километре от лагеря. Это было совершенно беззаконно, купание пионеров было головной болью лагерного начальства, оно никак не хотело оказаться в тюрьме из-за какого-нибудь маленького обормота-утопленника. В жаркую погоду нас водили строем лишь окунаться в огороженном лягушатнике, так что большего знака внимания, чем разрешение вольно плавать, режиссер оказать мне не мог. Впрочем, он, конечно, всегда плыл рядом, но плавал он неуклюже, а я – хорошо, потому что еще девяти лет был отдан отцом в соответствующую секцию при университетском бассейне – параллельно с секциями волейбола и фехтования. Поскольку я уже имел опыт мужеложеских за собой ухаживаний, то не давал себя обжимать, когда на берегу Анатолий принимался пылко вытирать меня махровым китайским полотенцем. Он был неловкий и неопытный ухажер и испуганно отступал, когда я выворачивался из-под его рук. Чтобы его не обидеть и не лишиться запретных дневных омовений, приходилось просить его спеть ту или иную песенку, которые, впрочем, оставляли меня равнодушным.
Он обрадовано голосил про синий троллейбус, наивно ухватываясь за эту соломинку, радостно убеждаясь, что все-таки мне нравится.
Но – текуча и мятежна созревающая душа – у этого платонического любовного треугольника был вопреки законам геометрии четвертый угол.
В третьем отряде состоял один паренек по имени Юрик, годом меня старше. Его мать была примой Театра кукол, красавицей неземной, на нее смотреть можно было только зажмурившись. На фоне ее роскошной дамской зрелости блекла даже девичья прелесть помощницы старшего вожатого. Актриса, как оказалось, когда-то и в кино снималась – по
Гайдару, в роли как раз юной пионервожатой, то есть как бы уже миновала эту стадию женской прелести, возвысившись до совсем иных таинственных и ужасных высот, о которых невозможно было думать без головокружения. Она записывала время от времени на радио детские сказки про зайчиков, а по субботам навещала сына на пару с довольно сумрачного вида господином, но никак не отцом Юрика. Тот ждал ее у ворот, сидя за рулем белой Волги с открытой водительской дверцей, свесив ногу в желтой сандалии и нетерпеливо куря дорогие сигареты
Друг, – Юрик потом подбирал окурки с золотым ободком, остававшиеся на месте парковки. Судя по их обилию, необходимость лагерных свиданий своей подруги с ее отпрыском его раздражала. Кто такой был этот богатый господин, не знал даже Юрик, наверное, режиссер, впрочем, у его красавицы-матери часто менялись поклонники, и специальностей их было не упомнить. Артистка привозила сыну гостинцы: конфеты, баранки и куски розового окорока, мы с ним сбегали в лес за той же костровой поляной, нарезали ветчину кубиками, нанизывали на прутья, разводили огонь и делали шашлык.
Много лет спустя я случайно встретил этого Юрика на каких-то московских порочных путях, он выглядел значительно старше своих двадцати, был измочален, его руки были исколоты, но это позже. Тогда же это был ухоженный загранично одетый смазливый мальчик и совсем не пионер.
Конечно, я дружил с Юриком прежде всего из-за его мамочки, при одном взгляде на которую рот наполнялся слюной, а колени дрожали. Сам же он мало меня интересовал – был капризен и не играл в футбол. Но, с другой стороны, и дружить-то мне здесь было не с кем: в нашем отряде как на подбор были одни сявки да филиппки, филиппки да
сявки, а у Юрика и фамилия оказалась на ский… Короче говоря, ко времени премьеры Золушки я жил в весьма возмущенном душевном поле, волны разных страстей омывали мою слабую душу. Заведомо недоступная, как ей и положено, мечта о неземной артистке, озвучивавшей зайчиков, совершенно естественно уживалась с плотской страстью к старшей пионерке Бебих, и эти безысходные желания лишь отчасти умиротворялись чувствами, что испытывал ко мне худой режиссер
Анатолий, внимание которого, что, в общем-то, не странно, мне льстило.
Эта напряженная внутренняя жизнь никак не гармонировала, конечно, с интересами моего непосредственного окружения. Впрочем, я стоял на воротах за отряд, что было почетно, прыгал барсом, не жалея коленок. Проявил немалую отвагу в коллективном походе к душевым кабинкам для обслуживающего лагерь персонала, где в щелку в задней стенке можно было по очереди наблюдать, как моет наша повариха свои мясные телеса. А вот назначение на роль принца уважения у моих соотрядников не вызвало. И моя корона, которой я дорожил, пробуждала в них скорее нехорошие чувства. Это можно назвать и завистью, ведь не могли же это быть чувства антимонархические. Откуда они в дворовых мальчишках, воспитанных на фильмах про американских шпионов? Но завистью это не было – скажем мягко, это было раздражение. Чтобы примириться с ними, моими соседями и по столовой, и по линейкам, и по спальне, я рассказывал им на ночь страшные, как водится, сказки – так делала, помнится, воспитательница детского сада, в котором я получал некогда первые уроки общинного быта. Я повествовал с продолжением про какой-то автономно летающий страшный палец, перст, так сказать, возмездия, и прочую, невесть где подслушанную, галиматью. Это был мой, еще не до конца, конечно, осознанный, долг интеллигента, призванного время от времени творчески обслуживать благодарные народные массы, прислушивавшиеся к моему голосу в ночной пионерской тьме.
Между тем нашлась и Золушка. Ах, если бы на эту роль определили помощницу старшего пионервожатого Галю Бебих! А феей оказалась бы неземная мать Юрика. Но, увы, такой расклад был несбыточен, как любой сладкий сон. В партнерши мне – уж не из ревности ли – режиссер-ухажер назначил зачуханную девчушку из нашего же отряда по имени Тамара, замухрышистую, но бойкую, к тому же уже сделавшую себе в наших узких кругах громкое имя тем, что умела есть живых дождевых червей. Черви сами в больших количествах выползали на асфальт после дождичка, и болельщики подбирали пожирнее. Танька широко, картинно, как истинная прима, разевала рот, медленно клала червяка на язык, закрывала рот и принималась жевать. Потом делала глотательное движение и разевала рот обратно, чтобы зрители убедились, что там пусто, срывала аплодисменты. Короче, она была в своем роде артисткой, умела овладеть вниманием публики, это, должно быть, и повлияло на выбор режиссера. Вот только по внешним данным она подходила лишь для экспозиции, когда Золушке приходилось колоть дрова, топить печку и заниматься постирушкой. Во второй части она была неубедительна, и покорить принца ей никак не удавалось. К тому же возникли сложности с башмачком, потому что никак не подходили ни китайские кеды, ни разношенные сандалии, в которых тогда щеголяли пионерки, так что туфельку пришлось одолжить у толстушки вожатой, и она оказалась на пару размеров больше Томкиной ноги. Режиссер распорядился натолкать в туфлю ваты, и Тамара в роли Золушки, собиравшейся с помощью волшебной феи на бал, вышла уморительна: худая, нескладная, в туфлях не по размеру. Она оказалась так неуклюжа, что не могла сделать на балу и двух па, чтоб не сбиться с ритма: как видно, талант к поеданию червей не всегда идет об руку с танцевальными способностями. Запоздало режиссер решил искать замену, но репетиции шли без перерыва, даже в тихий, купальный для нас с ним час, время поджимало, и премьера близилась.
Я старался вовсю, выходил на авансцену, когда этого еще не требовалось, задорно кричал свои реплики, корону нося по-свойски, принимал позы. Анатолий любовался мною, тая любовь, но подчас, когда я совсем уж невозможно пережимал и зарывался, делал-таки замечания – я полагал, для отвода глаз и конспирации. Ближе к премьере, когда я стоял на сцене в своей короне и наблюдал, скучая, как Анатолий в сотый раз показывает Золушке ее путь из поломоек в принцессы, случилось невероятное. На сцену вытащили широченный медный то ли котел, то ли таз, позаимствованный в столовой, который, как выяснилось, должен был изображать карету, сделанную, сами понимаете, из тыквы. Пока все пялились на это средство волшебных перемещений, послышался голос Анатолия: Галочка, тебе будет удобно, как ты думаешь? Ответом был такой знакомый мне по командам на линейке странного смешанного тембра, грудной, со звенящей нотой, голосок:
не волнуйтесь, Толя… Конечно же, кто ж еще мог в нашем лагере сыграть роль феи, волшебницы, рассыпающей вкруг себя одни прелестные улыбки и как бы обещая подарки? Мои кудри мигом взмокли под моей короной, которая разом показалась неудобной и тяжеловатой.
Машинерия была такова: днище посудины было натерто маслом, и она прекрасно скользила по неровному полу нашей самодеятельной сцены.
Тащил его, спрятавшись за кулисы, крупный пионер, причем так старательно и резво, что Гале Бебих в первый раз пришлось мигом присесть и ухватиться за края, чтобы не полететь вверх тормашками.
Впрочем, после нескольких упражнений оптимальная скорость движения была установлена, и уже готовая ударить по чурбану топором Тамара вдруг слышала за спиной характерный стук и скрежет, с каким всегда и появляются перед бедными девушками добрые феи в медном тазу. В своей роли Галя Бебих была невозможно хороша, поскольку ей очень к лицу пришлось почти прозрачное одеяние из крашеной марли, под которой можно было разглядеть белые трусики. Я бы репетировал и репетировал, тем более что мог, не отвлекаясь, подробно наблюдать свою любимую из-за кулис – она действовала лишь в первом акте, а я появлялся в жизни Золушки только во втором. К тому же, когда мы оказались членами одной труппы, Галя Бебих стала обворожительно улыбаться и мне, и то, что происходило со мной после того, как я ловил ее улыбку, нынче я назвал бы прозаически – повышением кровяного давления. Беда была в том, что точно такой улыбкой она одаривала и своего начальника, и режиссера Анатолия, и даже пионера, таскавшего ее в тазу по сцене.
Я плохо помню сам суматошный день премьеры. Была толкотня и бестолковщина, режиссер Анатолий метался и стенал, но улучил-таки момент и перед моим выходом ухитрился чмокнуть меня в щеку, что вовсе не прибавило мне настроения. Фея удалась на славу, зал рукоплескал ее обворожительной улыбке, Золушку подбадривали, и, будем справедливы, Томка держалась молодцом. Чего нельзя было сказать обо мне. По-видимому, актерское тщеславие решительно возобладало во мне над чистым вдохновением, к тому же я как мог старался произвести впечатление. Выход был удачен, раздались даже хлопки, потом наступила тишина. Я и сейчас помню весьма неприятное чувство, когда ты одиноко смотришь со сцены в зал. Отдельных лиц не разглядеть, но эта дышащая и пялящаяся на тебя толпа только и ждет, кажется, когда ты оскандалишься. Разумеется, так хорошо отрепетированные фразы стали путаться у меня в голове, и Анатолию пришлось из первого ряда, шипя, подавать мне реплики. Окончательно я оконфузился, когда вдруг встретился глазами с Галей Бебих, которая уже переоделась и оказалась сидящей рядом с Анатолием. Тут я споткнулся, причем не фигурально, но самым натуральным образом, чуть не упал, и корона покатилась с моей головы. И молчавший до того зал вдруг взорвался шиканьем и свистом. Особенно старались члены моей футбольной команды, мигом забыв и мои сказки, и мои подвиги на поприще разглядывания в щель статей голой поварихи.
Перед сном в палате мне сделали темную. Накрыв одеялом, мои товарищи по пионерским каникулам били меня старательно, с толком.
Как если бы мачеха, не зная еще ничего об ее светлом будущем, охаживала Золушку за непозволительные амбиции. Больно не было, поскольку избиение носило ритуальный характер. Было чувство несправедливости, и был, что самое неприятное, страх. Каким образом об этом стало известно наутро – не знаю, но после завтрака меня вызвали к старшему пионервожатому, он о чем-то спрашивал меня с отвратительно сочувственной интонацией, но я, конечно, все отрицал и, вопреки очевидности, поскольку синяки все-таки были, ничего не рассказал и не проговорился. Я уже тогда знал, что доносить на товарищей дурно, потому что тебя назовут ябедой, а что может быть дороже в лагере, чем незапятнанная репутация.
Здесь была такая традиция: после отбоя совершался обход. Иногда его осуществляли старший пионервожатый с вожатой отряда на пару, иногда он приходил со свитой, в которой подчас бывала и Галя Бебих. И вот через два дня после моей неудачной премьеры, обернувшейся боевым крещением, состоялся такой обход, после чего мои товарищи заснули мирным сном. Сказок я им больше, понятно, не рассказывал, да они от меня их и не ждали теперь. Палата спала, я лежал на спине, смотрел в открытое окно на далекие силуэты темных деревьев, на черное небо, чуть подсвеченное луной откуда-то сбоку, и мечтал о том времени, когда меня отсюда, наконец, заберут. Под полом скреблись мыши, в небе мерцали смутные звезды. Я почувствовал ее присутствие, ведь услышать ее шагов никак не мог – она передвигалась бесшумно. Я закрыл глаза и притворился спящим. Она подошла к моей кровати, и в тишине я расслышал ее дыхание. Она постояла молча несколько секунд, потом наклонилась и поцеловала меня. И так же неслышно вышла. Я открыл глаза. Нет, я не спал, и мне это не приснилось: фея поцеловала меня наяву.
КАК ЖИЗНИ НЕ ЖАЛЕТЬ
Быть может, родители чувствовали себя виновато, когда забирали меня из лагеря. Я стал худ, обветрен, руки в цыпках, коленки ободраны, в облике моем проступило, наверное, нечто отчетливо шпанское, и они поглядывали на меня с жалостью и долей опаски. Конечно, родители могли бы догадаться, что со мной произошли – помимо внешнего опрощения и обретения вполне дворовой внешности – и кое-какие внутренние изменения, но откуда им было знать – какие именно. Что ж, побывав в пионерах, я поднабрался кое-какой мудрости и сноровки, как то: научился плевать на два с лишним метра в длину, узнал, как выглядят со стороны развалистые груди поварихи, поросшие будто прозрачным мхом, мог теперь, сжав зубы и затаив обиду, перенести унижение, а также познал разнообразную любовь, пусть и платоническую. И зря моя мать смеялась над моим вкусом, показывая бабушке конверт, который уже через несколько дней после моего возвращения под отремонтированный отчий кров обнаружился в почтовом ящике. На обратной его стороне наискось было написано жду ответа, как соловей лета, – моя былая партнерша Томка, даром что Золушка, была с манерами. Но я не стал оправдываться и объяснять, что любовь у меня была в другом месте, а эта корреспондентка – всего лишь мой товарищ по искусству сцены.
Было решено в целях окультуривания ребенка обратно, возвращения, так сказать, в интеллигентское состояние, отвезти меня на Рижское взморье: кафе с ароматным кофе, ренессансный костел с высокими темными витражами, с полом из каменных плит и резной деревянной беседочкой слева, высоко прилепленной к колонне, винтовая лесенка к ней, ряды почти школьных парт, а там то камерные, то духовые концерты на открытой сцене в городском саду, от звуков которых томило душу, и необходимость как-нибудь поехать в Ригу, чтобы в
Домском соборе послушать его орган, – интеллигентская повинность.
Рассчитали так: дети с матерью едут вперед, отец дочитывает курс и принимает экзамены, потом нас догоняет. Прибыли на поезде с занавесками, на них были изображены синие якоря и парус. Мать с сестрицей и со мной поселилась в Яун-Дубултах в пристойной комнате с комодом и двумя кроватями на втором этаже ветхого деревянного дома – кухня, сортир и умывальник были на первом. Я спал на раскладушке, которую нам принес необщительный хозяин-латыш, делавший вид, что не понимает по-русски, тогда как хозяйка, сама наполовину русская, из
Даугавпилса, напротив, была приветлива, а по-русски говорила с милым акцентом. Пока дамы вечерами болтали на кухне, мы, уже уложенные в постель, были предоставлены самим себе. Я заползал под кровать сестрицы, страшно рычал, утробно вещал. Катька пугалась, но молчала, лишь иногда, как мышь, тихо попискивала.
С хозяйкой мать сошлась настолько, что скоро стало известно: хозяйкин муж после войны сидел в сибирском лагере, но не совсем слишком, говорила латышка, пять лет. Имелось в виду, наверное, что многие сидели и дольше, а кто-то и вовсе не увидел больше своей родной маленькой земли с озерами и соснами в прибрежных дюнах. По субботам хозяин напивался, сидя на первом этаже на кухне на своем табурете, накрытом кокетливо вышитой подушечкой-думкой, курил – по лагерной привычке, наверное,– папиросы Беломорканал. Набравшись, он принимался громко разговаривать сам с собой по-латышски, перемежая длинные спичи русским матом, который извергал почти без акцента, и стучал кулаком по столу. Без перевода было понятно, о чем он, – о том, какие русские свиньи. И, кажется, грозился дожить до времени, когда немцы русских из Латвии выкинут.
Утром хозяйка приносила извинения. При Сталине он молчал бы, бормотала мать беззлобно, но и без особого сочувствия – впрочем, за такие речи могли и при Хрущеве по головке не погладить. Тем более что в те времена где-то в прибалтийских лесах еще гуляли лесные братья, и русские курортники опасались ходить за грибами. Но скорее всего это были лишь легенды, питавшиеся запомнившимися с послевоенных времен страхами. К тому же в конце концов хозяин имел в виду собирательных русских, а к нам здесь относились вполне прилично, разрешали пользоваться кухней и угощали вареньем из кислых желтых слив, что созревали и падали в траву в маленьком садике за домом.
Отец прибыл-таки, когда на него уж не было надежды. Без сюрпризов ему было трудно жить семейной жизнью, потому с собою он привез своего приятеля-физика, за которого, как с раздражением говорила мать, вспоминая, должно быть, рыжую аспирантку Лилю, опять написал диссертацию. Отец возражал, что Спартак очень способный, но тугодум. Был у матери и еще один повод для недовольства – почти сорокалетний Спартак был хронический холостяк и жил с нежно обожавшей его и обожаемой им матерью в том самом кромешном коммунальном доме на Манежной площади, напротив библиотеки, что и мой случайный дружок по деревне Андреевка – вот как тесен этот мир.
Спартак был тучен, косолап, смешлив, беззлобен, потлив. Он поселился неподалеку от нас, сняв себе довольно милую светлую, совсем девическую, комнатку с прозрачными тюлевыми занавесками, с окошками, смотревшими в жасминовый сад. И все бы ничего, его, безобидного, терпели бы, кормили бы завтраками и ужинами, мать шутила бы над его никак не идущим смирному еврею героическим римским именем, отец беспрепятственно играл бы с ним в шахматы на его территории, но одно качество Спартака приводило мать почти в бешенство – тот был отпетый, хоть и простодушный, женолюб и волокита.
Это свойство в нем пробуждалось всякий раз, когда в зоне видимости оказывалось одинокое лицо дамского пола. Иногда мы всей компанией ходили завтракать в очаровательное маленькое кафе с чистыми, народной выделки, рушниками на столиках, стоявшее на пути на пляж.
И, пока мы глотали здешние вкуснейшие взбитые сливки, Спартак не спускал глаз с официантки-латышки. Не стесняясь нашим присутствием, он пытался брать ее за руку, потея и бормоча косноязычные комплименты. Потом мать выговаривала отцу, что на это просто противно смотреть, отец только улыбался и утверждал, что Спартак всего лишь безобидный оптимист и жизнелюб и это он так шутит. А у нее, у нашей матушки, воспаленное воображение. Это у меня-то?! – восклицала мать в гневе.
Но латышские официантки, как и продавщицы и кассирши, на контакт не шли, отказываясь понимать комплименты Спартака и принимать его ухаживания, так что единственным его шансом оставались русские курортницы, и уже на третий день он продемонстрировал нам какую-то бывшую танцовщицу народных танцев с перекаченными мышцами ног – из
Нижнего Новгорода, дамочку далеко за сорок и довольно жалкую, провинциальную, с редкими волосиками на голове, как-то слишком заметно одинокую. Пока это было все, чем одарило его побережье, поскольку на данном чинном отрезке буржуазного курорта отдыхали преимущественно семейные пары, а ночная разгульная жизнь шла в другом месте взморья, где-нибудь в Майори или Дзинтари. То есть
Спартак попал за компанию совсем не туда. Но и платного разврата он не искал, хотя бы потому, что был робок и беден, а также страдал фобиями: он как-то при мне повествовал отцу, что всегда надевает два презерватива, один на другой, на что отец откликнулся, сбивая его с темы и кося на меня глазом, что, мол, в воланы для бадминтона надо бы класть для веса сосновую шишечку. К тому же, что вовсе не странно для ловеласа в летах, страдающего одышкой, Спартак в то лето на самом деле алкал не случайного разгула, но решил жениться: собственно, с этим напутствием и отправила его мама одного на курорт, снабдив некоей долей суммы, скопленной в семье на черный день, то есть на ее собственные похороны, и мог ли выпасть в жизни этой маленькой семьи день чернее. Его мама, как Спартак рассказывал за завтраком, каждый день обещала скоро умереть, чем повергала сына в уныние и страх. Говорила, хотя это ей и будет очень тяжело и она этого не переживет, но жениться ему необходимо, потому кто будет следить за бедным мальчиком, однако, как любая женщина, тут же выдвигала и встречный мотив, в том духе, что, может быть, умирать она еще подумает и успеет увидеть внука, маленького такого Спартачка.
Была и еще одна загвоздка. При всем том, что Спартак убыл из материнского дома с брачными напутствиями, ему было велено быть постоянно настороже, потому что мама знает нынешних женщин, и всегда найдется желающая бедного мальчика окрутить. При том, что бедный мальчик занимался теоретической физикой, этот логический лабиринт повергал его в растерянность: куда ни поверни, везде маячил тупик и любой вариант выходил клином. Моя легкомысленная мать говорила, посмеиваясь, что просто-напросто твоя мама, Патрик, так его звали по-домашнему, вовсе не хочет тебя женить. И что добропорядочные женихи его происхождения и его лет подбирают себе невест из далеких родственниц, живет же где-нибудь в Херсоне или Днепропетровске – семья имела корни на юге – какая-нибудь кузина Каля, старая дева, которая с удовольствием составит ему партию. Эти шутки Спартаку не нравились, он очень не любил, когда ему напоминали о его происхождении из бывшей черты оседлости. К тому же это было бестактно, потому что, как было известно матери, многие члены его семьи во время войны погибли в гетто. Так что Спартак краснел, потел, грустнел, возражал, что родился вовсе не в Херсоне, а в
Марьиной Роще. А мой отец смотрел на жену укоризненно, хотя понимал, конечно, почему она Спартака дразнит.
Вторым заходом была довольно смазливая, хоть и неуместно спортивная, миниатюрная молодая женщина – дочь, как выяснилось, провинциального актера-трагика, из Рыбинска, кажется. Поскольку трагик был
народным, то играл в своем театре кроме Отелло еще и роль Ленина, а на городских праздниках носил во главе колонны трудящихся красное знамя: разумеется, дочь трагика таких-то голубых кровей не могла не быть самонадеянна и высокомерна и к Спартаку относилась свысока. Моя мать, узнав от самой новой пассии о ее происхождении из семьи исполнителя роли казанского стряпчего, декламировала, потешаясь и показывая на плешь на голове Спартака, когда был мальчик маленький с кудрявой головой… Но недолго ей было смеяться: пусть не с первого, но со второго взгляда дочь провинциального Штрауха – и это было неотвратимо – влюбилась в моего папашу.
Возникла неловкость и заморочка, как говорят нынче, и Спартаку было опять отказано от стола. Мать стала чаще вспоминать Лилю, отец выглядел смущенно и на пляж один не ходил, только с детьми, шахматная доска была заброшена, но дело разрешилось в течение двух-трех дней: рыбинская прелестница Спартаку решительно отказала и сгинула куда-то по более перспективному направлению. Надо отдать
Спартаку должное, он совсем не кручинился, не без удовольствия, кажется, сложил с себя полномочия жениха и опять за обе щеки уплетал взбитые сливки за семейными завтраками, на которые вновь был допущен ввиду обнаружившихся в нем зачатков нравственности и умеренности.
Я тоже не терял времени даром и в очередной раз влюбился.
На той же улице, на которой Спартак снимал комнату, но ближе к дюнам, стояла роскошная по тем временам дача, принадлежавшая какому-то рижскому сановнику. Там, за оградой, стояла на гравийной площадке бежевая Волга с оленем на капоте, совсем такая, на какой подъезжала к воротам пионерского лагеря небесная кукольная артистка, там цвели розы и зрели большие красные яблоки – может быть,
штрифель, а может, апорт, там был теннисный корт белого песка, там была тенистая беседка с резными балясинами – в ней громко пили чай с нездешним бальзамом, там через открытое окно проигрыватель
Юбилейный оглашал темнеющий сад звуками чужеземного фокстрота, короче, там шла невообразимого шика жизнь советской имперской буржуазии, и посреди этой роскоши жила и цвела плотненькая, с ножками-бутылочками, сановная дочка в немыслимой красоты панаме с цветком, которую она носила с шиком, то есть набекрень. Всего этого было вполне достаточно для крупного курортного чувства, тем более что старше она меня была всего лишь года на два-три. Впервые, впрочем, я увидел ее не из-за забора, а на пляже и проводил, незамеченный, до ворот ее соловьиного сада, вечером же отправился в городской сад, сидел на скамейке в кустах, слушал звуки заморского
Гершвина, доносившиеся из-за ограды открытой эстрады, декламировал тихим шепотом многим ты садилась на колени и немножко плакал от переизбытка невыносимого горького сладкого счастья новой любви и юной жизни.
Меж тем Спартаку, наконец, повезло. Все дело в том, что несмотря на свое неспортивное сложение он моря не боялся и вполне прилично плавал, пусть и по-собачьи. Плаванье было, конечно, каботажным, но он – не как мой отец, не умевший плавать вовсе и плескавшийся у берега, зайдя лишь по колено,– входил в воду и упорно шел по мелководью, и его поросшая черным волосом спина только в полукилометре от берега скрывалась из виду: это означало, что, дойдя-таки до относительного глубоководья, Спартак пускался вплавь.
И однажды случилось чудо: мы все были на берегу, я с матерью и сестрой – мой отец испытывал к азартным играм почти такую же брезгливость, как к курению, – пытались, лежа на одеяле, играть в
пьяницу, ловя перемазанные в песке карты, которые то и дело подхватывал ветер, когда нам открылась картина. Вдалеке от берега постепенно обрисовалась, плывя в полдневном мареве, фигура Спартака, который нес на руках кого-то, будто ребенка. Постепенно обозначались безжизненно свешивавшиеся тонкие ноги, а голова загадочного существа лежала на плече спасителя. Мы наблюдали завороженно, как тот шел по воде, медленно приближаясь. У него были стать и походка усталого героя. Наконец, он ступил на берег и положил бездыханную добычу на песок. Мы скучились. Это была отнюдь не малого размера немолодая женщина с темными от влаги разметавшимися волосами и в очень открытом тесном купальнике, из-под которого выступали складки.