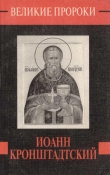Текст книги "Последние назидания"
Автор книги: Николай Климонтович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
КУДА ДЕВАТЬ СТАРЬЕ
Все видения сюрреалистов преследовали их с детства, в чем они сами с подозрительным удовольствием признавались. Действительно: женщины с бородами, беременные мужчины, волосатые ладони или морские раковины, из которых торчат ноги в башмаках, – все эти образы могло породить только инфантильное сознание. Что понятно: мир детства по природе своей искажен и имеет мало общего с реальностью. Недаром дети так любят страшные сказки, рисуют причудливые фигуры и бормочут бессвязные стихи.
Этого недостаточно, разумеется, чтобы утверждать, будто все дети суть будущие сюрреалисты; справедливо лишь обратное. Но ребенок – хотя бы из-за малого роста – видит мир иным, чем взрослые, его горизонт восприятия расположен ниже и под другим углом. Скажем, взрослым почти недоступен мир зашкафный или подкроватный, где таятся обок забытые вещи, никогда не встречавшиеся одна с другой в мире верхнем, упорядоченном: закатившийся мячик, дамский гребень, канцелярская скрепка или использованный некогда презерватив. Там – вечные сумерки и тайны, туда не достают ни веник, ни свет дня.
Когда дети подрастают, то, вылезая из-под кровати, прокладывают себе путь в подвал или на чердак. Там – то же соседство давно осиротевших вещей, брошенных как попало, вперемешку, составляющих ирреальные натюрморты, прелесть которых внятна только сознанию детскому да зрению художников не от мира сего: дырявые корыта и самовары, останки мебели, матрас с нахально выскочившими наружу ржавыми пружинами, абажур с горелой проплешиной, покоящийся в прохудившейся детской ванночке, гнутые ведра, кастрюли с потерянными крышками, рваные сапоги и отсыревший учебник ботаники для шестого класса сталинских лет. На такой, прекрасно захламленный чердак впервые меня заманил соседский лоб лет тринадцати по имени Санек, пообещав, что покажет, как на самом деле рождаются дети…
Бабушка, к счастью, скоро обнаружила мое исчезновение из ее поля зрения, по какому-то наитию поднялась на чердак, нашла меня и спасла от совращения. А соседу, фигурально говоря, надрала уши – во всяком случае, он на время исчез из моего пятилетнего мира. Однако я уяснил, что подобными соседскому, красными и большими, предметами, если их хорошенько подергать и потереть, делают детей. Я поделился этим новым знанием с бабушкой, но она упорно пыталась отвлечь меня от истины, наивно заверяя, что детей приносят аисты и прячут их в капусте. В квашеной , поинтересовался я . Нет, в огороде на грядке, а мама с папой потом их там находят . Я не поверил, что был принесен аистом и спрятан в капусте. Дело в том, что аисты в Химках не гнездовались, как не было у нас в саду и капустных грядок, одни, как сказано, клумбы анютиных глазок. Но спорить не стал, чтобы бабушку не огорчать. В конце концов всегда лучше оставить близких людей в покое, наедине с их заблуждениями. И все же по ночам мне снилось, что на одном из тополей в нашем дворе стоит в большом гнезде аист на одной ноге – я видел в книжках такую картинку. Гнездо было похоже на теплую шапку-ушанку со свалявшимся мехом – такую круглый год, не снимая, носил тот самый сторож-татарин.
Помимо того что я открыл для себя мир чердачный, хоть и запретный, я пристально изучал сам наш двор, куда меня выпускали гулять на пару с моим рыжим котом, который, пока ему вдруг не приходило в голову сигануть на забор, шел за мной как собака. А также с моим дружком
Витькой – с первого этажа нашего двухэтажного дома. Витька был семилетним крепышом, сыном столяра, служившего в молодости моряком, а потому всегда ходившего в тельняшке. Своими огромными ручищами с синими якорями отец Витьки точил симпатичных качающихся на одной гнутой деревянной рельсе расписных коняг на местной фабрике игрушек и, выпивши, порол сына флотским ремнем с тяжелой блестящей пряжкой.
Так что Витька был закаленным и пользовался у моей бабушки доверием.
Витькина же деревенская бабушка при молчаливом попустительстве отца-моряка, ее сына, и беззвучной, с мучного цвета лицом, матери заставляла Витьку ежедневно молиться. Но он не был хорошим православным и сомневался в существовании Бога, склоняясь скорее к стихийному атеизму. Это он первым, задолго до ставшей мне позже доступной антирелигиозной пропаганды, подбивал меня на рискованные эксперименты с целью выяснения божественного присутствия в мире. А именно, погожим летним днем надо было хорошенько зажмуриться и, преодолевая страх святотатства, крикнуть Бог дурак . То, что, вопреки предупреждениям Витькиной бабки, тебя тут же на месте не поражало громом, напротив, небо не омрачалось ни облачком, должно было служить верным признаком того, что бабка все врет.
Но, конечно, наше с Витькой существование на улице не ограничивалось духовными исканиями. Мир нашего двора, как и наш чердак, тоже был довольно странен и притягателен. Ведь здесь помещались две голубятни, а также взрослые парни и мужики здесь же играли в городки.
Если мне суждено будет дожить даже до сорока, я и тогда не забуду, что всякую партию следует начинать с того, чтобы распечатать конверт – выбить из квадрата из четырех чижиков пятый, стоящий в центре торчком, но не задеть при этом обрамление. Я также назову и спросонья названия фигур артиллерия из двух пушек и столбика
часового между ними , паук , крепость , серп , колодец ,
башня , дедушка в окошке. Площадка была у сараев, тоже таивших внутри груды всякой восхитительной всячины, и взрослые игроки днями здесь играли в эту восхитительно наивную народную игру, прообраз туповатого современного боулинга, со смаком и всхлипом при броске швыряли биты, а нам с Витьком иногда доверяли выставлять фигуры, и это был большой приз и великая честь.
На этой площадке шла энергическая жизнь: здесь со стуком хлопались о землю тяжелые биты, здесь замечательно матерились, пили водку, устраивали мордобой и подчас пели под гармошку песни военных лет – скажем, про фарфоровый завод или бодро-жалостливую а я мальчишка лет пятнадцать – двадцать – тридцать – сорок лежу с оторванной ногой .
Мы с Витькой тоже подпевали:
Ко мне подходит санитарка – звать Тамарка:
Давай, милок, перевяжу,
И в санитарную машину студебеккер – двадцать – тридцать – сорок
С собою рядом положу…
Эта площадка для городков заменяла мужикам из предместья нынешние гаражи, но там, в отличие от более поздних времен, не только пили и колбасились, но занимались спортом и художественной самодеятельностью.
Совершенно другими, чем городошники, были голубятники – эти одинокие артисты держались особняком и жили жизнью, которую нам с земли было не понять. Они общались между собой почти исключительно посредством полетов своих птиц, и сюжетов воздушных драм, разыгрывавшихся чуть не ежедневно в небе над нашим двором, нам, профанам, было не разгадать. Впрочем, о накале страстей можно было судить по жарким спорам между владельцами голубятен, вспыхивавшим подчас. Тогда спорящих обступали зеваки, а они кричали, мол, ты специально его увел… а ты теперь выкупи …
В городошный мужской клуб – не говоря о мире голубятен – женщины не допускались ни под каким видом. Но иногда проникали в него под предлогом того, будто им что-то понадобилось в сарае. Тогда разыгрывались забавные сценки, потому что муж, или брат, или сын тетки, позволившей себе вторгнуться в запретное пространство, подвергался насмешкам товарищей. Мужик, чтобы не потерять лицо, пытался гоношиться, а баба – от страха, наверное, что дома вечером ее будут крепко бить, – тоже вставала в позу, материлась, выставляла ряд претензий по поводу того, что она все одна, помощи не дождешься… Пока развивалась семейная сцена, сарай отпирался, и нам удавалось заглянуть внутрь. Почти в каждом там стоял велосипед со спущенной ржавой цепью, о каком мы могли только мечтать. Кое-где еще оставались дрова, вполне бесполезные, потому что уже настала эпоха парового отопления. Непременно было и корыто. Там же хранилось всяческое недоношенное тряпье, тоже весьма привлекательное…
Я вспоминаю этот мир посада, куда по прихоти истории и насмешке судьбы занесло мою бабушку и мою мать, со смешанным чувством нежности и жалости. Меня, впрочем, скорее заставляет грустить о незавидной доле моего народа химкинское воспоминание о том, как во время первой бабушкиной серьезной болезни мать, ездившая на службу в город, подыскала мне няньку. Это была замордованная тетка, жившая в рабочем бараке у станции. Вменялось ей со мной гулять , и та, конечно, знала это слово, но наверняка в другом значении. Гуляли мы с ней так: едва мать отворачивалась, а мы оказывались во дворе, моя нянька быстрым шагом вела меня в свой барак у станции, сажала на лавку и затевала стирку. Там, в клубах пара, в едком облаке испарений хозяйственного мыла, на единственной на весь длиннющий барак кухне и обнаружила меня, однажды спохватившаяся, моя наивная мамочка… Нет, меня не умиляют воспоминания о том, как ко мне иногда подходили незнакомые дядьки и просили мальчик, возьми у мамы стакан, и я, отзывчивый ребенок, тащил посуду из дому, бабушку не спросясь, – самое удивительное, что в те наивные времена стакан почти всегда возвращали. Меня как-то мало греют воспоминания о том, как старшие мальчики захватывали меня воровать яблоки в большом общественном саду, по старой памяти называвшемся совхозным , хотя никакого совхоза нигде вблизи не было, и ставили на атасе , чтобы крикнул, коли увижу приближающегося сторожа-татарина; или как я увязывался за этой же компанией на канал , но в воду, впрочем, не лез по неумению плавать. По сути, у меня нет умильно щемящих воспоминаний детства, хотя многое, очень многое я могу отчетливо вспомнить. Быть может, теперь я просто слишком далек от того бесхитростного поселкового быта, который дарил моей семье, право слово, мало радости. К тому же окружающее пространство было мне хоть и любопытно, но чуждо. Так или иначе я вспоминаю, поворачиваясь к детству, отчего-то не сцены, скажем, новогодней елки или катания на санках с горки ледяной, хотя были, конечно, и санки, и елки. Даже не сцену, которую любили вспоминать бабушка и мать, когда я увидел на улице женщину, несущую на руках младенца, завернутого точно в такое одеяло, в каком из роддома только что доставили мою новорожденную сестру, и в панике бросился домой, вопя Катьку украли . Память подсказывает отчего-то другие истории.
Наши дома стояли на улице Красноармейской, которая, начинаясь от железнодорожной станции, за который был парк с каруселями имени, я вспомнил, Маяковского, – не карусели так именовались, конечно, но сам парк, – упиралась в Ленинградское шоссе. По этой улице подчас с песнями и в ногу шел строем взвод потных солдат – в баню, а по обочинам бежали мальчишки и кричали дядя, дай звездочку . То же повторялось и на возвратном пути солдат, пахнувших теперь свежевымытыми сапогами. А в иной день шла похоронная процессия, тяжко бухал большой барабан, тоскливо звенели медные тарелки, хриплым басом рыдала туба, голосили женщины, иногда могло повезти взглянуть на покойника в обтянутом красной тряпкой гробу. Это всегда был один и тот же с восковым лицом дядька из тех, кто просил у меня стакан, он лежал молча и мертво, чутко глядя закрытыми глазами вверх, в небо, где не было никого, кроме ворон… Однажды, стоя в воротах нашего двора и глазея на пыльную, залитую полдневным зноем
Красноармейскую, я услышал истошный женский вопль. Потом мимо меня, мелко рыся, пробежал растерзанный мужик с мученическим выражением лица. За ним гналась тетка с растрепанными волосами в одной ночной рубашке и тапочках на босу ногу; она размахивала мокрой грязной скрученной тряпкой и вопила: я больная, а он, ирод, все деньги на лекарства пропил… Странным образом мне почудилось, что подобную сцену я позже прочту где-то. Или сам опишу.
Но все-таки есть одно воспоминание о моем детском химкинском дворе, которое заставляет меня улыбнуться. Это – тот самый старьевщик и его прекрасная лошадь-битюг.
Старьевщик объявлялся раз в две-три недели, иногда чаще. Он заезжал отчего-то не с улицы, а со стороны сараев – должно быть, ехал из соседнего двора. Его лошадка шла очень медленно, а он, сидя на телеге на куче тряпья, вопил во все горло свое старье берем . Все мальчишки знали, что с собой у него есть восхитительная кожаная торба, полная самой драгоценной дряни: уди-уди, ватными, обернутыми цветной глянцевой бумагой мячиками на резинке, леденцовыми петушками. Там же таился и главный приз – серебристого цвета пистолет-пугач, издававший звук взаправдашнего выстрела, когда тугой боек ударял по серенькой пробочке заряда. Все эти призы получал тот, кто сдаст старое тряпье, причем старьевщик, щурясь, взвешивал принесенное на руке и сам решал, какую дать цену. Торговаться было бессмысленно, да и тариф был внятен каждому мальчишке. Понятно, что за старую половую тряпку больше леденца не получишь, а вот мешок из рогожи мог потянуть и на уди-уди. Но страшно было даже подумать, сколько нужно добыть и нанести старья, чтобы заполучить вожделенный пугач.
И вот однажды, когда из-за сарая высунулась морда лошади и стал слышен скрип телеги, мы с Витькой стояли у нашего подъезда, обдумывая план добычи старых тряпок – хоть на леденец, который бы потом сосали по очереди. И тут откуда-то взялся перед нами Санек:
что, пацаны, старье берем? Мы промолчали: мне так вообще было настрого запрещено с ним разговаривать, Витька же промолчал из осторожности – Санек был взрослым, хитрым и мог сильно сподличать.
А пугач иметь западло , спросил Санек.
– Как это – западло? – переспросил Витька.
– А так, – сказал Санек. – Старое пальто материно есть?
– Есть, – сказал Витька. – Пороть будут.
– Будут, – согласился совратитель. – Зато пугач.
Я представил себе, как буду держать в руках пугач. Я прицелюсь в
Санька, нажму на курок, раздастся выстрел, и тот рухнет. Или напугается.
– У меня есть, – неожиданно для самого себя сказал я.
– Тащи, пока не поздно, – сказал Санек. – Не то уедет.
Телега тем временем стала перед сараями, и из двери одного из них мальчишка из соседского двора уже доставал груду тряпья.
– Уйдет пугач, – сказал Санек и вздохнул. – Не достанется.
И я – решился. Я знал, где висит материнское пальто на ватине, которое она совсем не носила. То есть она сейчас его не носила, поскольку на улице стоял август. А про зиму я как-то не подумал. Я поднялся к нам на второй этаж – бабушка была на кухне. Скоро обедать будем , сообщила она мне, помешивая в кастрюле.
– Угу, – отозвался я.
Пальто висело за дверью, закутанное в старую простыню. Когда я простыню развернул, запахло нафталином. На пальто был и воротничок с опушкой. Я не мог сам снять пальто с гвоздя и потянул вниз, повиснув на поле. Пальто какое-то время сопротивлялось, но потом соскочило с гвоздя и рухнуло вниз, накрыв меня с головой. Что там у тебя , поинтересовалась бабушка.
– Скоро обедать будем, – сказал я, выбираясь из-под пальто.
– Правильно, – сказала бабушка.
Нести пальто я не мог – такое оно было тяжелое. Мне пришлось его волочить. Я стащил его по ступенькам вниз, мои приятели ждали меня.
– Хорошее, – сказал Санек, легко перекинув материнское пальто через плечо. – На пугач тянет. И, может, еще по леденцу.
Старьевщик крякнул, когда Санек выложил пальто моей матери на телегу.
– Это откуда ж? Уворовали?
– Не, – сказал Санек, – здесь одна померла.
– Понятно, – сказал старьевщик, взвешивая пальто на руке. И полез в свою торбу. Это был честный человек, и скоро Санек держал в руке серебристый пугач. Старьевщик же достал отдельную коробочку и отсыпал с десяток зарядов. – Тронули, – сказал он своей лошади. И лошадка послушно пошла, чуть увязая копытами в мягкой траве, которой обросли за лето сараи.
Бабушка прибежала, как раз когда Санек дал мне стрельнуть, – пугач он, естественно, присвоил. Она кричала уехал, уехал , потому что старьевщика уже и след простыл, отвесила подзатыльник Саньку с пожеланием никогда ей на глаза не попадаться, выдернула пугач у меня из рук, выброси эту гадость , зашвырнула эту последнюю драгоценность в кусты и поволокла меня к дому, приговаривая Боже, что я Светочке скажу …
Впрочем, вечером говорила как раз Светочка. Говорила ведь под твоим носом… под самым носом… как ты могла не слышать с кухни-то…
– Другое сошьем, – говорила бабушка подавленно.
– На что, на что… ведь только прошлым летом Юрочка мне купил, что ему-то скажем… мне и так ходить не в чем…
И она бурно заплакала. Я сидел на кровати за ширмой. Нет, меня не выпороли, хотя надо было бы: меня никогда не били, только увещевали.
Но я тоже шмыгал носом и давился слезами. Наверное, я больше никогда так сильно не любил свою мать, как в тот раз.
КАК ДАТЬ ПЕТУХА
Любовь бабушки к кошкам стала причиной того, что у меня на всю жизнь сложился скверный почерк: я опоздал в первый класс и пропустил начальные уроки чистописания. Дело вот в чем: татарин, стороживший химкинский совхозный сад, поздним летом застрелил из своей берданки нашего рыжего кота. Ответа на вопрос, зачем он это сделал, не было и нет. Ни в каких враждебных отношениях с бабушкой татарин не состоял, кот же никак не мог угрожать урожаю яблок, поскольку не ел даже мышей, а питался филе трески. Татары же в мое время, в свою очередь, не ели котов. Быть может, совхозный сторож, охраняя мир ботаники, пребывал во вражде не с нами именно, даже не конкретно с треской и котами, но со всем животным миром, включая кошачий.
Потерю друга от меня долго скрывали, но я вскоре и сам понял, что
Рыжий отправился в какое-то чудное дальнее путешествие в духе Жюля
Верна и по примеру капитана Немо. Я скучал, справлялся, нет ли от кота вестей, бабушка меня жалела, тоже печалилась. Иногда по вечерам я слышал из-за своей ширмы, как она говорила матери, что был, мол,
совсем как собака, такой умный . Я не мог понять, при чем тут собака, Рыжий сам по себе был замечательный и спал у меня в ногах.
Так или иначе, избывая горечь семейной утраты, бабушка в августе подобрала на улице двух кошек. В нашей комнате устоялся кошачий дух, на кухне из-под рук бабушки стали исчезать редкие в те годы рыбные и мясные продукты, а у меня на голове обнаружился стригущий лишай.
Дело с этим тогда обстояло сурово и строго: если амбулаторное лечение не давало скорых результатов, паршивца отправляли в специализированную больницу. Меня забрали в Сокольники накануне торжественного дня, когда я должен был впервые отправляться в школу.
В казенном доме всё домашнее с меня сняли, облачили в байковую форменную одежду, побрили наголо, завернули голову воняющей йодом парафиновой бумагой и надели больничный колпак.
В палате было человек пятнадцать-двадцать таких же, как я, бедолаг в парше. Некоторых, впрочем, лечили от вшей. Я оказался едва ли не самым младшим, семи лет от роду, все остальные были уже школьниками и очень радовались нежданному продлению каникул. Всё это были мальчики дворовые, из рабоче-крестьянских семей, драчливые, и в палате царили совершенно тюремные порядки, но меня за малостью никто не трогал, они разбирались сами с собой: устраивали темную тем, кто воровал из тумбочек, отстаивали лидерство. Удивительным образом у нас в России сам собой воспроизводится дух тюрьмы, едва для этого есть хоть малейшая возможность. В закрытых пансионах и интернатах, в детдомах, в казармах, даже в больничных палатах. Видимо, такое мироустройство, сказал бы человек начитанный, имманентно нашему национальному характеру. К тому ж отвечает и самому строю повседневной жизни, в котором так перемешаны принуждение, стукачество, скудость и тоска.
Социология нашей палаты была такова. Верховодил Вшивый Летуч, то есть здоровый малый-переросток по фамилии Летучев, довольно свирепый и не пребывавший временно в колонии лишь по недоразумению или малолетству, – старшие его братья, как он рассказывал с гордостью, все давно сидели. У него был подручный, очень маленький, меньше даже меня, но очень крепкий четырехклассник Вован, и всю грязную работу за вожака исполнял он: сортировал передачи, бил неугодных, держал масть . Остальные малолетние больные представляли собой шоблу безгласных и бесправных рядовых, и происходи дело не в стенах лечебного заведения, а на улице, то была бы это крепко сколоченная банда юной опасной шпаны. Вне организации оказались, как сказано, только я и второклассник Мишка-Еврей, как его здесь называли. Он и вправду был тихим еврейским мальчиком из бедной семьи – и, как я, домашний. Конечно, наше положение чужаков не могло нас не сблизить.
Развлечений было мало: так, байки перед сном. Ни о каком телевизоре, скажем, тогда речи не было. Книжек здесь никто не читал. Событиями становились: утренний осмотр, процедуры, еда четыре раза в день, оправка в общей уборной – по ночам полагались подкроватные горшки – и прогулки, конечно. Забавно, что горшки выносили нянечки, но Летуч и Вован всегда вызывались им помогать. То есть носил дерьмо, конечно, Вован, а Летуч был как бы бригадиром. И вся плата знала, в чем здесь дело, – в сортире они курили. А в палате в это время клубились восхищенные шепотки: папиросы дымят…
Больничный двор, куда нас выводили гулять, был обнесен высокой кирпичной стеной, совсем тюремной, разве что без колючки поверху.
Стена была необходима, поскольку больница эта была посвящена излечению кожных заболеваний. И совершенно логично, что стеной она была обнесена для отгораживания от внешнего, здорового, мира.
Но не только этой цели служила стена. Дело в том, что за оградой нашего учреждения помещалось другое, смежного профиля, а именно – женская венерологическая лечебница. Так что стена у нас и у сифилитичек была одна, что некогда позволило устроителям этого оазиса народного здравоохранения чуть сэкономить на стройматериалах и землеотводе.
Если наш двор был гол, только чахлые кустики и редкая трава, то у сифилитичек во дворе росли два замечательных тополя с обрубленными ветвями. Это был факт, значение которого выходило за рамки чисто ланд– шафтные. Дело в том, что после отбоя, когда врачи покидали стены учреждения, а нянечка запирала нашу палату на ключ, все наше население бросалось к окнам, стремясь занять место на подоконнике и поудобней устроиться на животе – по понятной предусмотрительности начальства окна именно детского отделения смотрели на смежное учреждение.
Темнело поздно, и все было отлично видно. Именно в это предвечернее время на тополях появлялись гроздья онанистов. А сифилитички устраивали для них стриптиз. Наверное, сифилитички видели и нашу детвору, но главными зрителями для них, конечно, были гнездовавшиеся на тополях, среди которых преобладали взрослые мужики. Нам с Мишкой тоже хотелось бы взглянуть, хотя суть дела для нас оставалась смутна. Но нас, конечно, к окнам не подпускали.
У всякого представления бывает финал, хотя бы потому, что августовское небо, наконец, наливалось темнотой, и проступали звезды. Летуч заваливался на койку – он занимал, разумеется, самое почетное место, у окна, и начинал петь. Репертуар у него был небогат, и кое-что из него я до сих пор помню, благо позже эти жестокие романсы стали классикой. Это были, разумеется, Из-за пары распущенных кос, Девушка из Нагасаки, В нашу гавань заходили корабли , но самая ударная была ухарская плясовая У них походочка, что в море лодочка …
Летуч требовал, чтобы все без исключения подпевали. Даже Мишка, даже я. Через неделю лечения я знал этот репертуар наизусть и подпевал, стараясь. Странное дело, но я ощущал гордость за то, что посредством хорового пения оказывался принят в компанию этих храбрых больших ребят, которые в предночный час казались мне теми самыми моряками, которые из-за пары распущенных кос : так лихи они были, так красивы в своей нахальной и наивной грубости.
И вот в один из этих прекрасных августовских вечеров, когда окна были открыты настежь, когда сифилитички напротив, угомонившись, тоже пели что-то жалостливое, тюремное, когда и наша палата дружно горланила что есть мочи, дверь распахнулась. Все мигом затихли, но я от старательности еще продолжал фистулить.
Это был ночной обход. Такие совершались не чаще раза в месяц. Вошел главный врач в халате, с ним пара молодых врачей и какой-то дядька, у которого халат был лишь наброшен на плечи. И поскольку моя кровать была ближе других к двери, то вся компания остановилась надо мной. Я пел:
А потом мне она изменила
И куда-то умчалася с другим.
Что поделаешь, милая мама,
Коль сын твой остался один!
Конечно, когда я обнаружил высоких слушателей, то затих, но тот, в наброшенном халате, сказал с улыбкой: ты пой, пой, хоть и даешь ты петуха… И вся палата весело заржала. Я же испуганно и послушно запел опять:
Часто ее образ вспоминается,
Вижу ее карие глаза,
Вижу я ее, с другим она шатается,
Бросила, покинула меня.
Комиссия реагировала живо – сначала пофыркивал лишь тот, в накинутом халате, за ним остальные. Я продолжал, будто завороженный:
Помню ночку темную осеннюю,
С неба мелко дождик моросил,
Шел с тобой я пьяный, похудевший,
Тихо пел и все о ней грустил.
И с нарастающим от страха энтузиазмом:
В переулке пара повстречалася,
Не поверю я своим глазам,
Шла она, к другому прижималася,
И уста скользили по устам…
Тут врачи уже покатывались с хохоту, толкая друг друга локтями. Я, польщенный успехом, продолжал с некоторым неистовством победителя:
Из кармана вынул я наган,
И ударил я свою зазнобушку,
И потом не помнил, как бежал.
Когда я дошел до труп ее упал к моим ногам , тот, в наброшенном халате, уже рыдал, держась за сотрясавшуюся грудь. Веселились, разумеется, и мои сокамерники. Наконец, главный из комиссии, утирая слезы, рявкнул: молчать ! Палата мигом затихла.
– А ты, Робертино Лоретти, тоже молчи,– сказал мне доктор и погладил по парафиновой голове. Я не знал, кто такой этот самый Робертино, но чувствовал себя гордо и обласканно…
На другой день били Мишку.
С утра к Летучеву пришел посетитель. Это был его старший брат, вышедший из тюрьмы по амнистии. Он принес передачу – вареную колбасу
Любительскую и бутылку портвейна. Вечером Вшивый Летуч и Вован выпили вино, ошалели и взъярились. Надо было кого-то бить.
Мишка-еврей был самой подходящей кандидатурой. Он, будто почувствовав угрозу, зарылся под одеяло с головой, но Вован, едва нянечкин ключ повернулся в двери, легко сдернул Мишкину хрупкую защиту. Пока его били, тот вздыхал по-старушечьи. Он молча лежал на спине, поскольку Вован держал его за плечи, слезы стояли в глазах, но не текли. Заплакал он позже, когда Летуч притомился от работы и безгласности жертвы. Тогда Мишка укрылся одеялом и заплакал тихо и бездвижно, и от этой его тихой обреченности мне было особенно не по себе – лучше б он рыдал, кричал и бился. Я не мог ему ничем помочь и страдал от этого. Мне было до того жаль Мишку-еврея, что я тоже зарылся в одеяло и тоже заплакал…
Между тем лишай сошел с моей головы, меня выписали, и я пришел в первый класс с опозданием на месяц. Все уже умели окунать острое перо с дырочкой посредине в чернильницы, а я не умел. Писать-то меня в доме давно научили, но карандашом. И при этом я опоздал научиться выводить красивые вензеля вместо заглавных букв, а мои однокашники это уже прошли. Я попал в двоечники. В этом была своя выгода, ведь я мог сидеть на задней парте и считаться хулиганом, тем более что никто из моих товарищей по начальному обучению не знал тех песен, что на перемене пел я. Я оказался Робертино в масштабе первой смены первого класса, своего рода достопримечательностью. А поскольку другие здесь не знали таких замечательных слов, то я не стесняясь
давал петуха , и никто из однокашников не посмел бы указать мне на мою тугоухость.
Стояло начало теплого октября, на перемены нас выпускали на школьную спортивную площадку, где стояли два столба для несуществующей волейбольной сетки. Сюда же вываливались ватагой и ученики старших классов – со второго по четвертый. И вот солнечным осенним деньком я, окруженный толпой поклонников, пел. Когда я дошел до коронной строки, раздался голос: эй, ты чего воешь-то . Голос принадлежал четырехкласснику, выше меня на голову, здоровому и с внешностью
Летуча. А рядом с ним стояла парочка вованов.
– Я не вою, – смело ответил я.
– Нет, воешь, – сказал он и пошел на меня.
Не знаю, что со мной случилось. Но я вдруг увидел картину избиения безгласного Мишки – как на экране. И, как он плакал под одеялом, вспомнилось мне так отчетливо, что и сейчас впору было заплакать. Я нагнулся, выставил вперед голову и побежал что есть мочи вперед. Я ударился уже обросшей короткой шерстью головой в живот обидчика, и тот скорее от неожиданности, чем сознательно сильно пнул меня в грудь. Я упал на груду щебня носом, и потекла кровь.
– Пойдем, он дефектный, – сказал четырехклассник своей свите, имея в виду, что я дефективный, и они стали удаляться, временами с опаской оглядываясь на меня. Я лежал на куче щебня и был счастлив. Я даже допел себе под кровавый нос, который зажимал рукой, свою гундосую песню: труп ее упал к моим ногам. Я ведь был мал тогда, я еще не знал, что впереди меня ждет жизнь.