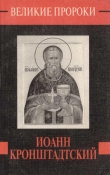Текст книги "Последние назидания"
Автор книги: Николай Климонтович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
КАК РАССМАТРИВАТЬ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Мы познакомились, разглядывая спрятанный под колпак ботик Петра. Она была старше меня года на три – лет семнадцати. В этом периоде жизни три года – большая разница, и я имел все основания опасаться, что в ее глазах я – пацан. Но, во-первых, я приврал, что мне пятнадцать, во-вторых, показал, как ей наводить ее Смену на резкость.
Собственно, она сама обратилась ко мне с этим вопросом, видя, как ловко я снимаю ботик императора в разных ракурсах своим
Зенитом-зеркалкой – хороший был аппарат по тем временам. Кроме того, я угостил ее западногерманской сигаретой HB, она таких никогда не курила, узнал, что ее зовут Светлана – как мою мать, она же узнала, что я – Николай, сказала есть у меня один гражданский,
тоже Колян. Еще одно преимущество было у меня, я был москвич, а она – подмосковная, то ли из Щербинки, то ли из Шатуры, ее ленинградская тетка давно живет у нас в доме, хворая бобылка. Тетка и дала племяннице ключ от своей ленинградской комнаты. Светлана хотела ехать с подругой, но та не смогла, денег не было, приехала одна, вот так и гуляю… Ага, смекнул я, к ней можно пойти.
Но сначала расскажу, как я оказался в городе на Неве. Это было знаменательное путешествие: я самостоятельно, один, приехал сюда в купейном вагоне поезда Красная стрела. Без родителей и сопровождающих, без вожатых и тренера, без единого попутчика – как знакомого, так и чужого. Я впервые в жизни был предоставлен самому себе, и проводница мне лично принесла сладкий чай в граненом стакане с подстаканником. Я сам, гордясь своей самостоятельностью, расплатился за напиток и за белье – отцом я был щедро снабжен средствами на путевые расходы.
Этот приз свободы и неподнадзорности я выиграл у судьбы, смертельно надоев учителям в нашей районной школе. Я толкался на переменах и шумел в классе, правда, не бил стекла в физкультурном зале, как это делали заправские наши школьные хулиганы, чего не было – того не было. Но вел себя еще несноснее, потому что был чрезмерно прыток, всякой бочке затычка, и слыл к тому же всезнайкой. Я утверждал, что в Повести о настоящем человеке раненый Маресьев в лесу съел живого ежа. Когда матушку вызвали в школу, а она потом устроила мне нагоняй, я открыл соответствующую страницу. И даже родители были потрясены, то ли вовсе не читав в свое время этот текст, то ли читав его невнимательно. Я мало того, что с ходу из-за парты первым кричал, что изображено на репродукции – Грачи прилетели, но и рассказал, будучи вызван к доске, кое-что из биографии художника. А именно, что Саврасов очень мало ел, но много пил и водку закусывал исключительно кислой моченой клюквой. Наконец, я написал за Серегу
Черного сочинение на вольную тему Встреча, которая мне запомнилась. Мы сидели за столиком со скатертью в кафе-мороженом на
Арбате, теперь в торце этого совсем парижского дома-утюга на месте кафе – продуктовый магазин. Мы пили сухое вино из графина, как большие, и я набросал на бумажной салфетке сочинение для Сережи, называлось оно Как я повстречал бешеную собаку. Помнится, там со смаком расписывались сорок профилактических уколов, и наша учительница литературы оставила нас обоих после урока. Она спросила
Сережу, сам ли он это написал. Тот горячо согласился. Нет, это написал он, сказала учительница, указав на меня, но я ставлю тебе,
Черный, четыре, потому что написано хорошо. И странно на меня посмотрела.
Эта немолодая коренастая тетка была хорошим человеком, любила детей и свой предмет, ходила в растоптанных туфлях и всегда в очень свободном балахоне: казалось, будто она постоянно беременна. Она была по совместительству нашей классной руководительницей и вызвала в школу на этот раз почему-то отца, устав, по-видимому, от матушкиной бестолковости и вечного стремления меня выгораживать с помощью высокомерных фраз типа что ж, мой мальчик рано развился…
Позже я узнал содержание этого разговора. Учительница сказала отцу, что ему, то есть мне, тесно и скучно в этой школе и что ему, то есть мне, нужен коллектив более умственно развитый. Короче, не заберет ли меня мой отец подобру-поздорову, потому что в будущем неизбежны конфликты и осложнения, а учитель химии уже написала директору две докладные записки с просьбой ее от него, то есть от меня, избавить.
Было это в самом начале восьмого класса, и отец не стал откладывать дело в долгий ящик. Он позвонил знакомому академику-математику, который курировал самую модную тогда в Москве специальную школу, я был затребован на собеседование, прошел его успешно, поскольку натаскался на всяких олимпиадах, где приходилось решать задачки на сообразительность, и был принят в этот инкубатор для особо одаренных со второй четверти. Так что это самостоятельное путешествие в Ленинград на осенние каникулы играло роль моей премии: родители были очень довольны мною. Кажется, они недальновидно надеялись, что с переходом в такое заведение, в котором мне придется догонять соклассников, в первой четверти освоивших математику за полгода, их сын волей-неволей возьмется за ум а они отчасти избавятся от лишней головной боли.
В городе на Неве мне предстояло жить у дальних родственников отца – так называемых ленинградских Щикачевых, потому что были и московские, арбатские, Щикачевы, – на пятой линии Васильевского острова в громадной по моим представлениям квартире. Все комнаты располагались по одну сторону длиннейшего коридора, справа, а слева тянулись чуть не обваливающиеся от наставленных и напиханных туда книг открытые книжные полки. Комнаты были связаны между собой, образовывая анфиладу. Здесь обитало три поколения Щикачевых: дед и бабка, их сын-актер и его жена-переводчик, двое их разнополых детей, а в углу на кухне – рыжеватой щетины морская свинка, всегда жевавшая капусту.
Наиболее колоритным, конечно, было поколение старшее. Начать с того, что старики были кузенами, троюродными братом и сестрой, и брак их был некогда заключен чуть ли не с разрешения Синода. Старший
Щикачев, заслуженный геолог и путешественник, именем которого был назван хребет на Тянь-Шане, был очень похож на Жана Габена из фильма
Гром небесный, который был до шестнадцати и подсмотрен мною в уже упоминавшемся кинотеатре Кадр. Его жена была аккуратная светлоглазая старушка с гладко зачесанными назад седыми волосами, очень похожая на тетку отца тетю Катю, которая тоже ведь приходилась ей дальней родственницей, только была, если это возможно, еще приветливее и лучистее. Из их сына-артиста уже выветрился дворянский дух, а его жена, то есть сноха Щикачевых-старших, была и вовсе простенькая. И дети уж были, в ту пору во всяком случае, самыми обычными советскими школьниками.
Но все это семейство я увидел лишь ближе к обеду, потому что не стал спешить и решил пофланировать по Невскому. На Московском вокзале я предусмотрительно съел толстую сочную сардельку с куском черного хлеба, обмазав ее горчицей, и эта вольная сарделька, самостоятельно выбранная и самостоятельно оплаченная, тоже каким-то образом повысила мое самоуважение. Я пошел по проспекту, уже отчасти представляя себе ленинградскую топографию, – проспект должен был вывести меня к Неве, справа окажется Зимний, слева – Исакиевский собор, а напротив, наискосок, – Петропавловская крепость, памятник, так сказать, декабристам. Все так и произошло, все стояло точно по местам, и этот эффект дивного узнавания ранее не виденного умилял и трогал вплоть до какого-то восторга перед открывающейся мне навстречу новой и вольной жизнью.
Еще в середине пути, пройдя мост с конями, которых отливал Клодт,
Казанский собор и памятник бегемоту на слоне, я заметил по правую руку кафе-мороженое Север с золотыми ручками на дверях и решил, что сюда непременно вернусь. В сумке через плечо помимо немудрящих пожиток были два блока тех самых западных сигарет, которых, я знал, в Ленинграде не продавали, да и в столице они случайно мелькнули лишь в отдельных местах, и я приобрел их в универмаге Москва на
Ленинском, поблизости от моей новой специальной школы, – один я потом подарил Габену. Поклажа не мешала мне прилежно фотографировать все памятники и достопримечательности, что попадали в поле зрения, – я продолжал эту сессию несколько дней, вплоть до встречи со
Светланой. Ноябрь выдался светлым и солнечным, и гранитные постаменты были подернуты серебристым искрящимся инеем. Город мне, неофиту, казался неотразимо прекрасным, ведь я ничего не знал еще о его тайном гниении.
А ведь Ленинград уже тогда был неизлечимо болен. И самые чуткие его жители уже тогда начинали перебираться в столицу – в Москву, кстати, много лет спустя переехало и молодое поколение Щикачевых, разместившись в панельном доме где-то в Новом Переделкине. Но тогда ленинградский патриотизм еще не дал явных трещин и угнетающие нервы меланхолические белые ночи еще казались романтичны. Постояльцы этого неверного города – города наводнений, чахотки, бед и самоубийств – как бы не подозревали о химеричности собственного существования, и только некие душевные зуд и тик выдавали их, насельников этого рая для психопатов. И холодный камень их набережных, и заморские колонны и столпы, посвященные отнюдь не их победам, и чужеземные дворцы, и соборы-пришлецы, и капища чужим богам, как и отвратительно неудобные разводные мосты, непреодолимо делящие по ночам этот и без того невротический город на отдельные части, отчего-то только холили воспаленное тщеславие здешних провинциалов.
Наивный и доверчивый гость, я целыми днями пропадал на улицах, покладисто снимая истуканов на набережной, таящих под внешней беспристрастностью жгучую ненависть к тем, кто лишил их родных египетских песков. Я шлялся по Марсовому полю и запечатлевал нездешних нимф Летнего сада, хлопотал не забыть бы сфотографировать литье его ограды, я добрался и до Лавры, где нашли – досрочное, как правило, – успокоение столько славных покойников. Я покорно таскался по бесконечным анфиладам эрмитажных залов, зачем-то занося в блокнотик имена авторов и названия картин, на которых не было изображено ни единого лица русского человека. Я стоял перед избыточно сочными, но от этого не менее мрачными натюрмортами больших голландцев, разглядывал рубенсовские мясные телеса, как у той лагерной поварихи, и пышные воротники испанских грандов, косившихся на меня с высокомерным прищуром. И все фиксировал – откуда только взялась у меня, безалаберного, такая бездна прилежания! Должно быть, я отравился псевдоевропейским духом всей этой декорации колыбели революции и испытывал прилив благоговения – ведь я просто обязан был трепетать и восхищаться, иначе чего стоило бы мое славное путешествие в распахнувшийся мне нечаянно самостоятельный мир.
Мне и в голову не приходило шага ступить в сторону с туристической тропы, где в нос шибанул бы запах помоев и душу перевернули бы виды обшарпанных подъездов с побитой мозаикой и потрескавшимися витражами времен ар нуво, ржавых свай, торчащих из гнилых каналов, зассанных подворотен, запущенных дворов-колодцев, никогда не видевших солнечного света, всей страшной и убогой изнанки этого призрачного города, построенного по прихоти одного медного человека, чей бронзовый вздыбленный конь навсегда наступил копытом на русскую змею,– построенного на болотах и на человечьих костях…
Я подхватил Светлану и повел ее в тот самый Север, куда уж проложил тропу. Я ухаживал за ней, невзначай касаясь то руки, то коленки, предвкушая. Эта девица, наверняка, была давно не девочкой и вполне доступна. Она курила, иногда подпускала в своей речи матерка, да и я сам, потеряв невинность на летней даче, чувствовал себя хватом. Она даже не была вульгарна, но простовата, из рабочей, наверное, семьи, и досугом ее были гуляния с такими же, как она сама, подругами в парке и танцы в клубе. Сухое вино она пила залпом, а мороженное ела, напротив, жеманясь, высоко поднимая ложечку и отведя в сторону мизинец. Она легко согласилась пригласить меня к себе, сказала пленку мне перекрутишь.
Ее обиталище тоже было на Васильевском, но дальше от центра, ближе в гавани. И моя-то линия не сверкала чистотой, в ее же районе было что-то разбойное, опасное, фонари горели один через два, остальные были разбиты. В подъезде пахло кошками, помоями, ступени были щербаты, а лифт не работал. Мы, поддерживая друг друга, добрались до ее третьего этажа, она отперла замок, в прихожей было тепло. Ты куртку с собой возьми, прошептала она и подтолкнула меня налево,
мне тетка сказала, чтоб не думала водить… Сама же повесила пальто на вешалку, и я заметил краем глаза, что там висит милицейская шинель с погонами, и на погонах было по одинокой желтой звезде. Она на цыпочках подошла к двери в комнату, открыла, ввела меня, прикладывая палец к губам, – какая-то неясная тревога охватила меня.
Но когда дверь закрылась и она прошептала у меня и выпить есть, мое волнение улеглось. Она достала початую бутылку 777, заткнутую скрученным клочком газеты.
Выпив, она заявила, что пленку перезарядить не умеет. Я подсказал, что надо бы выключить свет и накрыться с головой – чтоб не засветило, поняла она. Мы забрались под одеяло, она пахла сдобной чистотой сушившегося во дворе белья, дешевым мылом, и волосы у нее оказались легкими и мягкими, она посапывала, пытаясь угадать, что делают с фотоаппаратом мои руки. Конечно же, пленка скоро была забыта и началась пододеяльная возня. Мне удалось стянуть у нее из-под вязаной кофты лифчик, а также расстегнуть резинки от чулок.
Но трусы она не желала отдавать, сжимала ляжки, бормоча с первого раза не приучена. А ведь наша дворовая любовная наука гласила, что если трусы сняты, то дело, считай, сделано. Борясь, мы скатились с громким стуком с дивана на пол, она брыкалась, я умолял, она громко шипела пусти, кому говорю. Но все-таки трусы были стянуты, и в дверь громко и властно постучали. Ну вот, панически прошептала она, я же говорила, дурак, теперь прыгай во двор, куртку бери…
Дашь – тогда прыгну, прошептал и я, весь в поту, со спущенными штанами, задыхаясь от желания, страха и отваги. Она обреченно раздвинула ноги, и сию минуту моя капель оросила ее лоно. Дверь распахнулась, и вспыхнул яркий электрический свет.
На пороге стоял коротко стриженный седой мужик в голубой майке, домашних тапочках и синих галифе с красными лампасами. Из подмышек у него торчали рыжие пуки. Попались, сказал он мрачно и крикнул, не отрывая от нас, жмущихся к стенке, глаз: Люся, звони. Застегивая штаны, я понимал, что меня постигла катастрофа. Светлана всхлипывала, забившись в угол дивана, и безуспешно пыталась застегнуть на спине застежку лифчика. Милиционер тем временем говорил будто сам с собой в том духе, что, мол, до какого разврата дошли, а за стеной дети. Впрочем, очень скоро в квартиру вошли два молоденьких милиционера и нас вывели на улицу. По тем же темным проулкам мы вскоре достигли околотка. Она все повторяла у нас ничего же не было, а я, горя лицом, понимал, что меня сейчас посадят в колонию. Мне было очень стыдно и страшно, до тошноты, и особенно стыдно отчего-то перед стариками Щикачевыми.
В милиции с дежурным был разговор короткий. Дежурный спросил, что майор сказал с ними, то есть с нами, делать. Проверить желательно, стеснительно произнес один из молоденьких конвоиров, жадно на Светлану поглядывая. Тут она опять заголосила свое у нас ничего не было, что было, конечно, бесполезно в этой ситуации.
Вот мы сейчас и проверим, сказал дежурный, проведем экспертизу.
И подвывающую Светлану куда-то повели. Ты кто такой, спросил офицер у меня, учащийся, а документы есть? Я дрожащими руками извлек из внутреннего кармана куртки справку из школы, взятую для того, чтобы приобрести железнодорожный билет за полцены. В восьмом классе, а уже по блядям шастаешь, констатировал дежурный, равнодушно и понимающе, и стал что-то писать, прижимая справку левой рукой к столу. При этом он качал головой и хмыкал, скорее с удовлетворением. Ну вот, сказал он, возвращая мне справку, в школу твою сообщим. И тут я, потрясенный всем случившимся, стыдясь себя и этой перспективой огласки еще больше, чем видением тюремных решеток, представил себе, как читает мой покровитель академик протокол моих подвигов. И позорно разрыдался. Простодушно я применял подсознательно старый детский прием, имеющий целью разжалобить взрослых, но это, я понимал, все равно было чудовищно малодушно, а ведь еще недавно я был герой. Свободен, сказал дежурный, ну иди-иди… На улице меня проняла дрожь, охватила слабость и я принялся блевать.
Было-то всего десять часов вечера, когда я позвонил в квартиру моих хозяев Щикачевых. Они, конечно, разглядели, что мое лицо, несмотря на фальшивую улыбочку, совсем заплакано. Да и портвейном от меня, скорее всего, попахивало. Но ни о чем меня не спросили. И я им ничего не рассказал…
Никто ничего в школу, разумеется, не прислал. И я почти забыл об этом случае, но иногда, как бывает, когда ни с того ни с сего вспомнишь что-нибудь постыдное, с тобой случившееся, меня бросало в жар и пот. Особенно стыдно мне бывало за то, что я бросил в беде эту девочку, ведь не нужно иметь особой фантазии, чтобы понять – что в околотке милиционеры с ней сотворили. Я уговаривал себя, помнится, как свойственно всем подлецам, что, мол, сама во всем виновата. И я никогда об этом случае никому не рассказывал, даже своим закадычным дружкам.
КАК ХЛЕБНИКОВА ЧИТАТЬ
…И даже козни умных самок,
Когда сам Бог на цепь похож
Холоп богатых, где твой нож?
О, девушка, души косой
Убийцу юности в часы свидания
За то, что девою босой
Ты у него молила подаяния…
Беда была в том, что даже на улице, когда мы всей нашей небольшой стайкой выпархивали из дверей Юношеского зала Ленинки на улицу
Маркса и Энгельса и шли в сторону Пушкинской, пересекая Горького у
Телеграфа, а потом вдоль по Столешникову, в голове само собой складывалось и звенело, выпевалось чуть не хором:
И где твой дядя честных правил?
Ужо и этот занемог,
И больше тетю убийца ранний
Уж не спасет в часы свиданий,
А только выдаст под расписку анемон…
Кто первым придумал читать Хлебникова, сматываясь с уроков? Быть может, я сам, а может быть, и Юрочка. Дело в том, что вольные, не по программе,– Песню о соколе я так никогда и не прочитал – уроки литературы нашего обожаемого Якобсона, что он давал нам в специальной математической школе, начинаясь с Блока, с дрожали желтые и синие, неуклонно утыкались в раннюю Ахматову, в Цветаеву средних пражско-парижских лет, а на позднем Пастернаке и вовсе пробуксовывали и замирали, хотя нам по первой глупости больше по сердцу были не любовные причитания доктора, а ранний и витиевато-метафоричный поэт, так что и за возом бегущий дождь соломин звучало, и исчадья мастерских, мы трезвости не ищем имело место. Но поскольку из детской мы приволокли с собой и Маяковского с
Есениным, и какого-нибудь Луговского с Тихоновым, то не могли не натолкнуться на лакуну: все-таки рядом с Маяковским возле Бурлюка маячил и Председатель Земного Шара. Мы не знали его, а наш учитель, по всей видимости, его не жаловал, как не любил и Маяковского, разве что раннего, задолго до РОСТА, когда вошла ты, резкая как нате.
Так что заполнять пробелы приходилось самостоятельно.
А путь в Ленинку той весной был прочно проторен. Там в те баснословные годы оттепели давали в наши неверные юношеские руки бесценные прижизненные издания Мандельштама и позднего Волошина,
Демоны глухонемые, – и это была одна из бесчисленных иронических гримас советских будней, – распространялись лишь в самиздате в виде перепечатанных на машинке на плохой папиросной бумаге неудобочитаемых расплывающихся строф, однако официально не переиздавались. Позже оплошность была исправлена, все эти ранние издания упрятали в спецхран почти на два десятка лет, но тогда – то ли по вредительской прихоти какого-нибудь библиотечного либерала, то ли по привычной советской расхлябанности – их запросто можно было заказать в любой читальный зал, хоть для аспирантов, хоть для школьников, выписав шифр из генерального каталога. Вот так Хлебников и залетел в наши пустые головы, мы даже его письма родне в Астрахань штудировали, при случае говорили родителям деньги получил, излучил, спасибо.
Впрочем, отнюдь не все в нашей компании, в которой готовились поступать в МФТИ, в Бауманский или на физический факультет университета, так уж любили литературу. Хотя Хлебников был всей ватаге по вкусу, потому что, как сказала бы следующая за нами генерация, под него, рифмовавшего Тютчева с тучами, отлично можно было стебаться, причем так, что было уж не понять, где строки великолепно косноязычного Велемира, а где нескладухи нашего домашнего пиита, десятиклассника и самодеятельного художника, Юрочки
Коржевского:
И дева пойдет при встрече,
Объемлема волосами своими,
И руки положит на плечи,
И, смеясь, произносит имя,
И она его для нежного досуга
Уводит, в багряный одетого руб,
А утром скатывает в море подруга
Его счастливый заколотый труп.
Этот счастливый заколотый труп приводил нас в полный восторг. Мы не верили Юрочке, когда он божился, что не сам придумал, забив косяк дури, и это что ни на есть самый подлинный Хлебников. Вы темные, говорил он, вот угадайте, кто написал:
Там будут барышни и панны,
Стаканы в руках будут пенны…
Северянин, угадывали мы хором. А вот и нет, он же, Велемир. А это:
Очи Оки
Блещут вдали.
Фет, орали мы, уже подлаживаясь к его стебу. Нет же!.. И нам хватало этой игры и на весь путь до Ямы, и на первые три кружки.
Потому что помимо Хлебникова мы любили разливное жигулевское с солеными сушками. Любили хотя бы потому, что эти застолья бывали дешевыми и в обратно пропорциональной дешевизне зависимости – долгими, до поздних весенних сумерек.
Пива мы, с еще не изношенным ливером, как выражаются нынче, со здоровыми мочевыми пузырями, выпивали страшно много. Кружек по десять на брата – считалось нормой. Хмель, поначалу приятный, по мере увеличения на столе количества пустых кружек, становился все тяжелее, мозги работали все туже, строки смазывались, комкались строфы, заедало рифмы, оседало тело, и подгибались ноги.
Пошатываясь, мы то и дело по очереди бегали в туалет, реже всех – единственная в нашей компании свой парень девочка Танечка, моя подружка с начала девятого класса. И мы часто стебались, иногда в рифму, на тему о безразмерности дамских мочевых пузырей.
Здесь приходится сделать небольшой вираж, чтобы рассказать о Танечке побольше. Она училась в параллельном классе Б – ароматная, желанная шестнадцатилетняя женщина. У нее были милые веснушки, прелестная, чуть застенчивая улыбка, лакомые губы и развитая фигура. У нас была любовь, то есть страсть, то есть неразлучничество. Как раз той осенью девятого класса под какими-то кронами мы впервые слились и не размыкали рук до самого выпускного бала, после которого потоки жизни неумолимо понесли нас в разные стороны мира, прочь друг от друга. Но тогда – тогда мы были столь парой, что даже учительницы из старых дев умилялись, на нас глядючи.
Танечку, когда б не ее страсть к пиву и не ее привязанность ко мне, можно было бы назвать строгой и серьезной девушкой. Во всяком случае, она не материлась, курила, не затягиваясь, от похабных анекдотов морщилась и обладала лучшими среди нас способностями к математике. Сдувая пену, она на спор брала логарифмы в уме, тогда как я, к примеру, так и не освоился по лени и любви к поэзии даже с логарифмической линейкой…
Столь молодых посетителей, кроме нас, в этом подвальном заведении с полукруглыми грязными и оттого тусклыми окошками под потолком, как правило, не бывало. Попадались какие-то одиночные поношенные мужички, прилежно чистившие на газетке принесенную из экономии с собой магазинную воблу,– в заведении тогда не подавали горячего, но закуски к пиву были в ассортименте,– компании из трех человек, под столом наливавшие себе в пиво водку из поллитровок, и вечно сидели по пять, а то и по десять человек за сдвинутыми вплотную несколькими столами бородатые художники в свитерах, те самые исчадья мастерских, с грязными от набившейся краски ногтями, с плохо отмытыми разбавителем разноцветными руками. Юрочка, охмелев и осмелев, иногда подсаживался к ним и задавал профессиональные, как ему казалось, вопросы. Они молча подвигали ему кружку пива – всегда заказывали впрок, и полными кружками был заставлен стол, – но не слушали его, конечно, как бы не замечая подмастерья. Кстати, потом
Юрочка набился-таки к кому-то из них, писавшему на заказ портреты по фотографиям, в подвальную мастерскую на Суворовском, бегал за водкой в Военторг, но вскоре разочаровался в продажном искусстве -
халтура, – разуверился в водке, устал от кваса с хреном на похмелье, вернулся к своей дури и поступил в институт нефти и газа им. Губкина…
Бывало, мы с Танечкой за столом принимались целоваться, лизаться, как говорили недовольные наши товарищи, и если бы они только знали, что после пива мы с ней, удирая от них, забивались в какое-нибудь парадное и наспех предавались торопливой неловкой любви, то умерли бы от зависти. Что ж, мы тогда любили друг друга без оглядки, не думая о будущем.
Так же бездумно и счастливо мы все вместе сидели за мокрым от пивной пены столом, болтали глупости, травили анекдоты, на которые тогда еще была память, делились сюжетами просмотренных фильмов и рецептами изготовления шпаргалок – по основным предметам в нашей школе применялась вузовская система, чтобы мы, будущие абитуриенты, загодя привыкли сдавать зачеты, тянуть билеты на экзаменах и обманывать преподавателей. И несносно раздувались наши мочевые пузыри, а вставать из-за стола не хотелось, да и сил не было, тянули до последнего.
И здесь требуется маленькое отступление, иначе не оценить важности для меня одного пустякового, в общем-то, события, вполне рядового, случившегося однажды в гардеробной этой самой пивной. Этой же зимой моего отца впервые выпустили за границу по приглашению
Брюссельского университета. Он отбыл на две недели, до этого месяца два слушая пластинки с французскими уроками, и потом мне говорили общие знакомые французы, что в языке натаскался он вполне сносно.
Семья жила в ожидании, потому что никто никогда в нашем семействе еще не пересекал государственную границу. Волновались и мать, и сестра – мать больше, поскольку пережила за свою жизнь много больше разочарований и, наверное, предвкушала очередное, хорошо зная несколько эксцентрический характер супруга. Она не ошиблась, подарки, как оказалось, он привез только мне – и себе. Возмущенной матери он сказал невинно, в ответ на ее претензии, у тебя же,
Светочка, все есть, чем вызвал бурю праведного негодования. Это она еще могла бы как-то перенести, сжав зубы. Но к форменному припадку какого-то бессильного бешенства привело ее созерцание диковинной вещи, которой папаша одарил самого себя. А именно – он приобрел себе ярко-оранжевый пробковый жилет яхтсмена.
По прошествии лет мать могла говорить об этом предмете, долгие годы пылившемся на антресолях, с оттенком юмористическим, подведя эту тему под рубрику его причуды. Но тогда она зарыдала, взывая неизвестно к кому, поскольку в Бога она не верила, зачем, зачем ты это сделал… Ее реакция несколько озадачила отца. Ведь она прекрасно знала, что он не умеет плавать, а вода, если он окунается, попадает в уши, что ему категорически вредно. А в жилете яхтсмена его тело будет сохранять положение поплавка, голова будет оставаться сухой, и таким образом он пополнит отряды пловцов или даже спасателей на водах. У нее не хватило сил спросить, куда, собственно, он собирается плыть и кого спасать. Этот вопрос непременно задал бы пытливый я, однако моя ирония была мигом погашена, когда я получил ярко-алый роскошный свитер-реглан толстой вязки и без горла, бесценный по тогдашней повальной моде тончайший плащ-болонья
воздушного палевого цвета и глянцевый диск со смеющейся простецкой рожей Сальвадоре Адамо впридачу – в СССР этот французский испанец тогда тоже был на пике популярности, все подпевали его мелахолической песенке про снег, под которым ты не придешь сегодня вечером, хотя болонья, конечно, котировалась выше.
Примерив свой новый прикид, как стали выражаться много позже, я просто раздулся от гордости. Ничего подобного не носил не только никто из моих дружков, но никто в школе, включая десятиклассников и педагогический персонал. К тому же у меня уже были выторгованные у матери и сшитые в ателье роскошные ядовито-зеленого цвета брюки-клеш, что тогда тоже было модно и в которых меня и так-то не пускали в школу. Так что вкупе с ярко-красным свитером эти зеленые штаны должны было составить просто убийственный ансамбль, вполне тянущий на отдельное заседание педагогического совета.
Так вот, во время очередного посещения Ямы я по дурости сдал свой бесценный плащ-болонью в гардероб, хотя он складывался в невесомый комочек и помещался в кармане. И сильным ударом было для меня, когда на выходе я получил плащ, но совсем не тот и не мой – какое-то грубое толстое изделие производства Румынии грязного темно-коричневого цвета. Я испытал не прилив скорби, но приступ отчаяния и пьяного негодования. Короче говоря, я стал препираться со швейцаром, который кричал что сдали, то и даю, милицию вызову, хулиганы!..
Дебош действительно разгорался. Мои дружки тоже лезли на рожон, и неведомо, чем дело кончилось бы, когда б не рассудительная Танечка.
Она произнесла сакраментальное а вот Хлебников даже не заметил бы…
Все примолкли. Я же с тоскою подумал, как буду выглядеть в глазах отца, он может подумать чего доброго, что я поменялся с кем-нибудь не без выгоды для себя. Танечка читала мои короткие мысли. Отец тоже не заметит, шепнула она. Я сдался и, чертыхаясь, напялил чужой некрасивый, такой обыкновенный, затрапезный плащ. Мы вышли из подвала, поднялись на Пушкинскую, компания была подавлена моей подавленностью, все молчали. Облакини плыли и рыдали… Отец и вправду ничего не заметил.