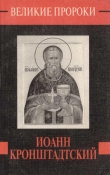Текст книги "Последние назидания"
Автор книги: Николай Климонтович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
КАК ВОЛКА ПРИРУЧИТЬ
Наши квартиры были на одной лестничной площадке, дверь Майи с красивой табличкой витиеватого восточного стиля соседствовала с нашей дверью. Соответственно, стена большой комнаты, где был рабочий стол моей матери, а спали бабушка и сестра, была общей с гостиной
Майи. Там у нее – я знал – стоял импортный мебельный гарнитур, который хозяйка приобрела по специальной разнарядке на своем основном месте службы, в Центральном Совете Профсоюзов,– она занимала там не самую верхнюю, но заметную должность,– а также ковер
по спискам и цветной телевизор по блату. Впрочем, она еще и подрабатывала: читала лекции по марксистско-ленинской философии, состоя доцентом философского факультета МГУ, откуда и происходило это ее двухкомнатное жилье.
Майя могла бы быть весьма важной советской теткой с меленькими глазами и сухим ртом, не подступись,– когда б чванилась. Но она оставалась смазливой кокеткой уходящего бальзаковского возраста с умопомрачительной бабеттой на голове – советская номенклатурная мода, подсмотренная у молоденькой Бриджит Бардо еще в те времена, когда секс-символ тогдашней Франции любила в Париже знаменитых красавцев, а не на ферме в Провансе – котов, козлов и овечек.
Впрочем, Майя изредка дополняла свой причесон, как тогда выражались, игривой челкой не по возрасту. И это была, конечно, вольность, тогдашняя министр советской культуры, скажем, такого себе позволить не могла. Майя к тому же всегда была неумеренно накрашена и удушливо надушена. В старину про таких говорили фря, позже -
чува, нынче сказали бы не без цинизма бабец не сдается.
Мне тогда только исполнилось семнадцать, и Майя с замиранием рассказывала моей матери какой у вас красивый сын, а поднимаясь со мной в лифте, краснела и принималась натурально дрожать, глаза отводила, казалось, могла упасть. Чувствуя градус ее страсти, я мысленно не раз представлял себе, как звоню в ее дверь, застаю ее на кухне полуодетой, с вялыми ляжками, прижимаю к кухонному столу, или к стене, или даже к плите с опасно кипящей за ее спиной кастрюлей, отстегиваю резинки от ее пояса. Она всегда упорно грезилась мне занимавшейся готовкой, желательно в бигуди, какой я ее никогда не видел. Причем в наряде не домашнем, но то ли циркачки, то ли исполнительницы канкана, и эти фантазии рождались у меня скорее всего по контрасту с серьезностью и официозностью ее служебных занятий и обильностью партийной нагрузки. И кухонный секс с ней был бы профанацией всего строя советской партийной жизни и его разоблачением.
Быть может, улучив момент, я бы и нагрянул к ней, – полагал самоуверенно, что она мне не откажет, – если б не ее молодой муж, по счету третий, кажется: от первого брака у нее осталась взрослая дочь, уже устроенная машинисткой по линии МИДа и пребывавшая в данное время в германской восточной республике. Дело не в том, что этот самый муж казался таким уж непреодолимым препятствием, хотя действительно был скорее домоседом. А в том, что он ее, кокетку в маске советской номенклатурной дамы, нещадно и сладострастно колошматил. Ее сдержанные крики по вечерам отлично были нам слышны, ничуть не менее отчетливо, чем его вопли го-о-о-ол, доносившиеся из соседской гостиной, когда муж смотрел там футбол по телевизору. И эта ее избитость при внешней шикарности меня расхолаживала, ведь жалость к стареющей даме никак не способствует похоти.
Низкорослый армянин из Нагорного Карабаха, муж Майи, и сам имел номенклатурный пост, будучи заместителем главного редактора не то
Гудка, не то Труда. И, может быть, в партийной иерархии занимал даже более заметное место, чем его жена, весьма далекая по своему нраву от кротости Пенелопы. И это ее, скажем, жизнелюбие, возможно и воспрепятствовало некогда еще более блестящей карьере, к каковой она, казалось, была предназначена самой природой. Так или иначе, но по утрам за ним приезжала черная Волга с шофером, а за Майей – нет.
Это был вообще довольно странный тип: он стремился со мной дружить, тогда как сама Майя на меня лишь облизывалась, а конфиденткой своей выбрала матушку, приходила с плохо замазанными синяками на физиономии плакаться. Армянский же муж зазывал меня в гости – откуда мне и был знаком их интерьер, – с гордостью показывал картины маслом, до которых был охотник. Изюминкой его небольшой коллекции был Яковлев, но не тот, который из подполья, писавший вслепую акварелью рыб и цветки, а настоящий, из племени героического раннего русского авангарда. К тому же муж обменивался со мной самиздатом.
Скажем, я помню, ко мне каким-то чудом попало одно из первых заокеанских изданий Набокова, это была, кажется, Защита Лужина, книжка безвредная на мой взгляд, хоть и забугорная. Ее я дал армянскому соседу, а вот машинописный Котлован – побоялся, все ж таки он был партийный бонза и вряд ли владел техникой интеллигентской конспирации, в которой я уже был дока. Впрочем, я отчего-то был уверен, что он не станет на меня стучать, наивно полагая, что ему как-то не по чину доносить на юного соседа, только заканчивающего школу. То есть я думал о нем в моральных категориях, тогда как советская буржуазия, как, заметим, и любая другая, руководствовалась в своих поступках лишь целесообразностью. Тот же факт, что он нещадно колотил свою жену, хоть и повыше его ростом, но не умевшую дать сдачи, попадал в моем сознании не в моральный ряд, а шел по разряду особенностей его горского менталитета, хотя никаких других этнографических признаков ни в его поведении, ни в его речи не наблюдалось вовсе. Кроме разве что вполне трубадурского имени, какие любят давать детям в каменистой Армении: он звался Роланд. В нежные минуты, которые у них, кажется, становились все более редкими, Майя называла его Ролик.
Как раз на эту весну моих экзаменов и пришелся кризис в этом добром семействе, закончившийся разрывом, отставкой Роланда, его полным исчезновением во мраке бытия вместе с картинами Яковлева, с табличкой с двери, где была выгравирована его армянская фамилия с дефисом, и с люстрой чешского стекла, по которой Майя особенно долго горевала. Мне неведомо, куда он сгинул и обрел ли этот симпатичный карабахский парень свой Грааль, но Майя простаивала совсем недолго, и уже к июлю в ее квартире поселился следующий муж, еще моложе прежнего, но тоже с менестрельским именем: Артур. Этот рыцарь не был армянином, но – евреем, для разнообразия, что ли, и государственная черная Волга за ним не приезжала, поскольку он владел весьма редкой по тем временам прибыльной профессией и ездил на собственной белой.
А именно – он был пластический хирург. И этот факт, как вы сейчас увидите, оказался причиной резкого переворота в жизни Майи – в сторону добропорядочного тихого старения. Да и самому красавцу
Артуру любовь к Майе обошлась весьма дорого. Но это случилось чуть позже, когда они уже завели собаку.
Познакомились Артур и Майя в мае в одном из бесчисленных партийных подмосковных пансионатов Березка, испытали прилив взаимной страсти, ненадолго расстались с тем, чтобы уладить дела с прежними супругами – Майя была, разумеется, поколочена, но не сильно, обозвана развратной старухой и лишилась, как сказано, люстры.
Артур же управился и вообще легко, оставив прежней супруге квартиру со всеми пожитками, и его чемоданы были аккуратно уложены. Уже в июне эта счастливая чета стала неразлучна. Артур был с изюмными, как у булочки-жаворонка, глазами, профессионально улыбчивый, литературно мало вменяемый, в отличие от предшественника, но ухоженный, вежливый, очень предупредительный к женщинам, и за фразу, адресованную моей матушке, ни разу не видел такую свежую кожу она его приняла, хоть и незло над ним подтрунивала. Ну да это по привычке, наверное. Потому что это был настоящий нежный красавчик, из тех мужчин, кого в детстве наряжали в девичьи платьица. У него к тому же были совершенно девичьи пышные ресницы, но маленький упрямый рот, и лишь эта деталь свидетельствовала, что под конфетной оберткой скрыта сильная воля. Хотя, глядя на его робкие руки с чуткими, тонкими пальцами, трудно было представить их сжимающими грубый колюще-режущий инструмент… Майя помолодела, охладела ко мне и обнаглела настолько, что однажды светски и безразлично справилась у меня в лифте хорошие ли в школе отметки, как будто еще недавно не готовилась отдаться мне на кухне, о чем, впрочем, сама, скорее всего не подозревала.
В июле она и Артур отправились в свадебное путешествие в Ессентуки.
Оттуда, утомленные отдыхом и любовью, они привезли похожего на немецкую овчарку приблудного пса довольно свирепого вида. Майя утверждала, что пес так привязался, поедая ее обеды возле столовой, что бросить я его никак не могла, не могла никак… Артур ведь такой добрый, добавляла она, сразу согласился, он любит животных. Артур не возражал, когда слышал эти разговоры, косился на псину с опаской. Моя мать как-то натужно острила, что детишки, конечно, им нужны, Майе же самой рожать поздновато, так что и собака сгодится, но пес на Артура совсем не похож, наверное, внебрачный.
Быть может, она пыталась таким образом скрыть свой страх перед этим новым нашим соседом, который все наше семейство, как, впрочем, и всех остальных обитателей нашего этажа и нашего подъезда, решительно невзлюбил. А уж когда ветеринар сообщил счастливым молодоженам, что, по-видимому, это не совсем овчарка, а скорее всего помесь овчарки с диким волком, и Майя с воодушевлением поделилась этой новостью с моей матерью, мы и вовсе скисли. Хотя бы потому, что у нас была обожаемая всей семьей фокстерьериха Топси, которую волк решил загрызть непременно. А заодно с ней и все наше семейство.
Дело осложнялось и еще одним обстоятельством. Поскольку квартирка
Майи была совсем мала, а волк был большой, то простоватый Артур со своей обворожительной улыбкой и со словами извинений, что, мол, пес еще не стал совсем домашним, выставлял волка на лестницу, привязывая к ручке своей двери. Мы не могли ни войти в квартиру, ни выйти, потому что зверь скалился и рычал, топорща холку. Более того, привязь была достаточной длины для того, чтобы волк мог удобно улечься посередине площадки, перед дверью лифта. И бывал крайне недоволен, если лифтом пользовались. Однажды он, когда кто-то попытался выйти из кабины на нашем этаже, с лязгом зубов бросился на металлическую сетку шахты. На отчаянный крик пассажира Артур отозвался и волчару убрал. Но убрал на недолгое время, и через пять минут пес опять лежал на своем месте.
Здесь можно было бы сказать пару слов о традиционной русской интеллигентской беспомощности. Вспомнив, скажем, Куприна, с его боевым офицером, терявшимся от наглости швейцара. А можно и не вспоминать, лишь констатировав, что никому на площадке, ни нам, ни семейству профессора права из квартиры напротив, ни еще одной одинокой пожилой даме, вдове профессора астрономии, не пришло в голову жаловаться и каким-либо образом приструнить обворожительного балбеса Артура.
Но и без нас расплата за безалаберность этой четы была ужасна.
Видно, завистливое провидение не смирилось с тем, что на долю этой пары выпало слишком много безмятежного счастья и полного достатка.
Однажды, когда вечером с волком пошла гулять Майя, тогда как обычно это делал муж, песику что-то не понравилось и он вцепился хозяйке в лицо. Дело, быть может, кончилось бы и еще хуже, однако Майя так страшно закричала, что волк, не став ее доедать, дал деру и больше никто никогда о нем ничего не слышал.
Я не видел своими глазами во что превратилось лицо Майи, но слышал душераздирающий ее вой – наверное, в это время она смотрела на себя в зеркало. Через день Артур забрал ее в свою клинику, моя мать ее, забинтованную и закутанную, провожала. И мужественная Майя нашла в себе силы пошутить, что вот, мол, заодно муж ей бесплатно и пластическую операцию сделает. Стану лучше прежнего, сказала Майя с удивительным присутствием духа и верой в свою звезду. И матушка моя потом жестоко острила, что, мол, Бог даст, такой беды не случится.
Но беда пришла с другой стороны. Когда Майя лежала на операционном столе и Артур уже закончил одну операцию, причем сложную, с наложением многих швов, выяснилось, что у пациентки были повреждены кроме тканей еще и лицевые кости. Непонятно почему – то ли не желая откладывать новую операцию, то ли вняв мольбам жены – Артур продолжал свое дело. И его разбил обширный инфаркт прямо перед столом с телом Майи. И в больницу увезли теперь его самого…
Я, признаюсь, сомневался, нужно ли рассказывать здесь эту печальную историю, и лишь ее несомненная назидательность заставила меня написать эти строки. Ведь тогда, в юности, мне впору было бы задуматься над всем этим. Над тем, как один-единственный неверный шаг, сделанный в момент очарования и любви к миру, может повлечь самые грустные последствия. И выверенная, тщательно выстроенная жизнь двух взрослых людей, мало того что любящих весьма глубоко самих себя, но и друг друга, неведомо отчего вдруг начинает подтачиваться и сыпаться, сначала медленно, почти незаметно, а потом по нарастающей и неостановимо. А ведь это были прочные постройки, и, соединяясь, сливая вместе свой жизненный капитал, оба могли надеяться, что возводят еще более основательное здание…
Этим дело не кончилось. Узнав о том, что мама больна, из германской республики прибыла Майина дочь – со многими чемоданами.
Впрочем, Майя переоценила сердобольность дочери: оказалось, что возвращаться в ГДР та вовсе не собирается. Это была довольно жесткая девица, а ее матери как раз жесткости и не доставало. Как-то невзначай выяснилось, что начальство в Берлине самое сволочное и что девица собирается замуж. Ужаснувшейся мамаше она заявила не все тебе замуж выходить и сообщила, что с молодым мужем будет жить именно здесь, в квартире Майи, хотя прописана была у бабушки, бывшей
Майиной свекрови. Когда Майя пыталась возражать и посылать ее к этой самой бабушке, молодая захватчица парировала в том духе, что вот сама и живи в коммуналке.
А ведь росла хорошей девочкой, всхлипывала Майя, когда заходила к нам, что же делать… Наверное, в этот момент она вспоминала свою
Людмилку стоящей на линейке по случаю первого сентября строгой пионеркой в белом фартуке, которой мама к празднику купила шоколадные конфеты. Причины отчаяния были в другом: Майя боялась, что Артур ее бросит. Куда ж с инфарктом он денется, успокаивала ее мать. Майя же плакала и говорила, что столкнулась в последний раз в больнице, где она навещала мужа, с молоденькой медсестрой из его клиники. С цветами, твердила Майя, ты представляешь, Света, с цветами…
Но Артур не бросил ее. Он, оправившись, все еще мучился угрызениями совести, что не смог жену перетянуть как следует, и увез ее на дачу в Голицыно, которую, разводясь, оставил-таки за собой. Они заходили попрощаться. Обворожительная улыбка не сошла с лица Артура и после приступа; он оптимистично утверждал, что на свежем воздухе
Майе будет хорошо; говорил, что хоть и ездит теперь тихо,
шестьдесят не больше, но все равно до дачи от Москвы не больше часа… И они уехали из этого города, уехали навсегда, чтобы там, в
Подмосковье, вести тихую голубиную жизнь двух симпатичных старичков.
Майя изредка навещала дочь, безуспешно пытаясь вывезти кое-что из оставшихся дорогих ей вещей, заглядывала к нам. Меня-то, как правило, не бывало дома, но мать рассказывала с ироническим удивлением отцу, что Майя расспрашивала ее, как солить огурцы, и даже поинтересовалась рецептом шарлотки, потому что в этот год так много яблок. И потом, в следующий визит, благодарила Артуру очень понравилось.
КАК ДЕРЖАТЬ СТАКАН
Мать любила вспоминать эту историю, не про Майю, конечно, а про мои школьные приключения, и при случае подавала ее гостям – к чаю.
Впрочем, она пересказывала лишь комическую часть, в то время как целиком, особенно учитывая финал, вряд ли история могла казаться ей такой уж забавной. Матушка рассказывала, как понурым осенним утречком, в половине восьмого, на цыпочках, боясь разбудить гостя, она обогнула его раскладушку, подошла к моей кровати и шепнула мне на ухо:
– Пора в школу, сынок.
И так же, тенью, вышла из комнаты.
В ванной были приготовлены для гостя чистые полотенца. На кухне дымился кофе. Всем прочим членам семьи было заказано покидать свои убежища до срока. Потому что гость был больно важен. А именно – это был завуч моей специальной математической школы, где я обучался тогда уже в десятом выпускном классе, и по совместительству мой следующий после Якобсона учитель литературы.
Фамилия его была Мурзаев. Звали – Александр Владимирович. Накануне мы с ним напились вдрызг дешевым портвейном, которого был закуплен вагон и маленькая тележка. Мы пили вместе не в первый раз, но пьяная идея ехать ночевать в дом моих родителей пришла нам впервые. И таким образом впервые были афишированы перед моей матушкой наши, как нынче выражаются, нештатные отношения.
О чем мы говорили, хлеща красный дрянной портвейн? О литературе, конечно же, о чем же еще! То есть, говорил, как и подобает учителю, он. Школьный учитель Мурзаев состоял у судьбы, ясное дело, будущим ученым-литературоведом – закончил филологический факультет университета и готовился в аспирантуру, – предметом его ненаписанной диссертации был Салтыков-Щедрин. Поэтому, наливая, он всегда приговаривал надо бы, батенька, погодить. Была у него и литературная идея-фикс: он намеревался послать в станицу Вешенская телеграмму, что, мол, один школьный учитель недорого продает подержанный портфель… Как многие его идеи, и эта осталась не воплощена.
Он преподавал у меня еще в восьмом, потом его, переростка, забрали в армию на год, и он уступил место Якобсону: была в те годы такая практика, коли студент, обучаясь без военной кафедры, до учебы не прошел срочной службы. Таким образом, мой девятый класс обошелся без
Мурзаева, а в сентябре десятого он вновь появился – неприятно загорелый, омужичившийся, с усами, ржавыми от никотина,– чтобы стать моим учителем, классным руководителем и потом – как-то подозрительно быстро – завучем нашей школы.
Сегодня, задним числом, я могу догадываться, что назначили его сверху на ответственный пост не за красивые усы. В армии он вступил в партию – до того был бескомпромиссным либералом,– и скорее всего
хорошо себя зарекомендовал. Говоря попросту, сломался, по-лагерному – ссучился. Скорее всего теперь на него была возложена миссия приглядывать за нашим директором, человеком редкого мужества и дерзания, и, наверное, доносить по инстанции. Потому что наша школа на излете шестидесятых стала уже бельмом на глазу высокого образовательного начальства. Как я уже говорил, занятия были построены по принципу вузовских. Программы районо игнорировались. Нам читал диффуры сам Колмогоров, а на школьные лекции Якобсона о поэзии двадцатых годов – о том, как стихи раннего
Светлова предвосхитили тридцать седьмой год, – съезжалась вся
Москва. А если учесть, что КГБ наступал в те годы Якобсону на пятки
– он был другом Даниэля и диссидентом, – то остается лишь поражаться, сколь велика была еще инерция оттепели, коли контора
не могла враз пресечь все эти безобразия… Впрочем, школу и прикрыли вскоре после того, как мой поток получил аттестаты, через год, что ли, в самом начале семидесятых.
Но всего, что касается Мурзаева, я по молодой дурости, конечно, не понимал, да и понимать не мог. Что говорить, я и теперь не вполне уверен, что он играл какую-то двойную роль, копая под нашего директора, – одни предположения. А уж тогда, глотая учительский портвейн, я, разинув рот, слушал об эзоповом языке Щедрина, которого с тех пор терпеть не могу, о всяких там премудрых то ли карасях, то ли пескарях, а также о том, кто на самом деле сочинял за Шолохова.
Нельзя сказать, чтобы после якобсоновых лекций я оставался совсем уж лопухом, и некоторые поливы Мурзаева казались мне если не банальностью, то и не откровениями вовсе. Но напор, но страсть, но пафос разоблачения, но совместный портвейн! И не было ли распивание алкоголя знаком высшего ко мне доверия? Ведь не мог же я не понимать, что Мурзаев совершает своего рода должностное преступление, по тяжести сравнимое с совращением малолетних. И что именно мне поручено охранять эту нашу с ним сокровенную тайну совместных выпивонов. При желании, в проекции, теперь в его поведении действительно можно подметить ноту совращения, своего рода латентный гомосексуализм… Тем более загадочно, зачем он поперся ночевать в дом моих родителей: быть может, после пережитого в армии он был чуточку не в себе…
Так или иначе, но надо было отправляться в школу, а мой завуч был в беспамятстве. Я теребил его и повторял Александр Владимирович, вставайте, мы опаздываем. Именно комичность этой ситуации и веселила матушку: не он меня, нерадивого ученика, струнит и загоняет в класс, а я пытаюсь воззвать своего завуча к исполнению им должностных обязанностей.
Рано или поздно он все-таки очухался, прошел в ванную, набычившись, благоухая перегаром и пoтом, и кое-как собрался. И для нашего дома все эти запахи, все эти похрюкиванья, когда он лил на себя холодную воду, были так же странны, как если бы мой отец привел ночевать автомеханика Михайлова, запив с ним с получки. Матушка перенесла все стоически и, как сказано, не без юмора, а отец так и вовсе не вышел из своего кабинета, не без оснований считая все происходящее форменным безобразием. Но и не желая вступать, как выразились бы нынче, во время прифронтовое, в зону ответственности супруги… Так или иначе, проглотив кофе, давясь и решительно отказавшись от омлета, мучительно мечтая об опохмелке, завуч бросил мне короткое
пошли, толком не поблагодарив мою мать, и мы с ним выкатились на осенний холодок.
Меня чуть обидело, помнится, когда, сойдя вместе на нужной автобусной остановке, мы по его требованию разошлись. Так режиссеры, проснувшись в постели актрисы, требуют идти на репетицию в театр разными дорожками. Но не являться же нам было в школу полупьяной парой. Впрочем, уже на второй перемене меня вызвали к завучу.
Мурзаев сидел в своем кабинете, за своим столом, из-за которого он распекал ленивцев, велел мне закрыть дверь на ключ. Он был розов – видно, догадался я, в шкафу у него была припрятана бутылочка коньяка: может быть, врачеватель юных душ принимал дары от благодарных родителей. Я повернул ключ, и он, рассеянно улыбаясь, предложил мне закурить. В сравнении с прошлым вечером, в котором была известная разудалость, сейчас ощущалась натянутость. Курить я отказался. Он сказал равнодушно как хочешь и дернул плечом: была у него такая манера, напоминающая нервный тик.
Значит, молчок, сказал он. И подмигнул, шевельнув усами. Мне стало неприятно. Он что же, считает меня идиотом? Или, хуже того, доносчиком? Он что же, не понимает, что я отлично знаю, какую ответственность несу. Конечно, сказал я. Ну иди, сказал он уже вполне добродушно, даже махнул рукой и посмотрел на шкаф поощрительно, как смотрят на третьего: чего ждешь, наливай. А я пошел, бережно неся нашу с ним тайну, курить в туалет…
С этим курением был до того один случай. Как-то раз меня прихватил за этим делом учитель физкультуры и отправил к завучу, то есть к
Мурзаеву, что считалось большим наказанием: в школе завуч пользовался славой мучителя, ученики боялись его даже больше, чем самого директора. Он показательно заорал на меня, но, едва физкультурник покинул кабинет, точно так же, как сегодня, повелел мне запереть дверь и точно, как теперь, предложил сигарету: до того мы уже выпивали с ним пару раз… Эта двойная игра, помнится, давалась мне, отроку открытому до полного прямодушия, с большим моральным трудом. Уже тогда здесь была заложена мина. С одной стороны, мне льстила, конечно, дружба Мурзаева, то, что я был не как все, выделен, обласкан, облачен доверием. С другой – это положение мучило меня: я испытывал чувство вины перед товарищами, от которых должен был скрывать все происходящее. А пуще я стыдился самого себя: трудненько в те далекие годы давалась мне ложь, претили скрытность и двоедушие, которые я смутно ощущал, как неудобство и нечистоту…
Но потом все как-то притерлось, грех жаловаться. И посвящена была в инфернальную тайну моих отношений с завучем одна Танечка – что ж, она была единственной моей конфиденткой, и я ничего от нее не скрывал. Ну разве что наличие соседки Наташи, несколько перезрелой лаборантки с биологического факультета, – ведь мы жили в
университетском доме, – обладательницы умопомрачительной груди… Но это к слову.
Мы сильно выпивали с Мурзаевым осенью и на коченеющих Ленинских горах, и в ротонде в облетевшем Нескучном саду; потом – в зимнем
походе, переночевав как-то в лесу у костра в двадцатиградусный мороз; и на его кухне, где гуляли сквозняки. Он снимал эту квартиру в доме на Ленинском, который и посейчас народ упорно называет дом с изотопами. Помню, сидит он в одной майке на табурете,– темно-русые клоки из подмышек, – плотный, коренастый, скуластый – кровь далеких предков-степняков явственно пульсировала в нем, – нервно дергает плечом, страшно шевелит усами, курит одну за другой сигареты
Шипка; на кухонном столе недоеденный винегрет из кулинарии, банка из-под только что съеденных сардин в масле, в которой он, попадая мимо пепельницы, тушит окурки. Масло дымит и воняет. Мурзаев одинок и не ухожен. Я вижу это и жалею своего учителя. А он рычит, что выведет подлеца на чистую воду, но я с грустью понимаю, что нет, не выведет, и подлец получит своего Нобеля…
На время зимних каникул Мурзаеву пришла в голову такая идея: собрать
отряд из десятка своих учеников и махнуть на неделю в заволжские леса – нашлись у него какие-то знакомства в тамошнем охотничьем хозяйстве. Мурзаевская команда была сформирована из моих приятелей, любителей Хлебникова, ну и, конечно, взята была и Танечка, подруга, так сказать, атамана. Но – не знаю, было ли это неожиданностью для моего учителя, – к этой группе директор присоединил и другую группу из параллельных классов, которую сопровождала их учительница – и тоже литературы. Это была дочь известного советского поэта-песенника, писдочка, как некогда было принято выражаться, молодая довольно смазливая дамочка с премерзким характером. Нынче-то она давно живет далеко за пределами страны, которая так долго и обильно кормила ее папочку… Думается, от директора она получила задание присматривать за Мурзаевым, и он скорее всего об этом прекрасно знал. Что ж, как говорит наш мудрый каторжный народ, и на хитрую жопу… Короче говоря, наступили для Мурзаева тяжелые дни в снегах Заволжья – дни вынужденной трезвости.
Для него да, но не для нас! Уж на что его ученье было не в тягость – в бою так оказалось совсем хорошо. Сладить с нами никто не мог: ни писдочка, которая вообще была не наша, не сам Мурзаев. Ватагой лыжников мы удирали в лес, пробирались на опушку, все обсыпанные снегом, которым обдавали нас еловые лапы, и шли по целине, по припорошенному жнивью, к околице ближайшего села, курившегося дымками над белыми крышами. В сельпо продавались рыбацкие сапоги, двухтомник Леонида Андреева, синька, пряники, серая лапша и
солнцедар. Мы покупали рюкзак этого дикарского напитка, буханку черного и несколько банок частика в томате, набирали беломора и уходили обратно в лес. Там, точно в согласии с уроками моего учителя, вытаптывалась поляночка, потом лыжи снимались и втыкались в сугробы так, что получался своего рода частокол. Разводился костер, и начиналась пьянка… Стоит ли говорить, что приходили мы в расположение отряда в самом развеселом виде.
До поры до времени Мурзаев, как мог, прикрывал нас. Он орал, выносил какие-то наказания, строил и раздавал подзатыльники, и все под взглядом своей коллеги, которая молчала, не вмешиваясь, но наблюдала пристально. Но что-то потешное чувствовалось в этом его гневе, напускное, будто он украдкой усмехался в усы, – и чувствовалось не только мною, но и моими приятелями. Будто бы он тайно поощрял нас, едва ли не гордясь своими ученичками: мол, много обещают эти профессорские по преимуществу детки, которых папочки и мамочки прочат на мехмат… Странно, что он не чувствовал, на какую зыбкую почву ступает. Ведь чем распекать нас, он должен был самым решительным образом пресечь эту тайно поощряемую им анархию.
Юношам в таком возрасте, любой учитель знает, нельзя класть палец в рот. Мы распоясывались все больше. И вот, наконец, на третий или четвертый наш поход в село мы так перепились, что заблудились.
Рассказывать об этом муторно, всякий знает этот гаденький холодок страха, который подкатывает к сердцу, когда уж смеркается, а такой ласковый еще утром, пронизанный низким солнцем снежный лес вдруг оказывается зловеще лукавым и начинает водить вас за нос; и в какой-то момент вы понимаете, что последние полтора часа усилий были напрасны – вы вернулись на то же место, и вот ваша солнцедарная пустая посуда. И вот банки из-под частика… Нашел нас егерь с лайкой, когда, обессиленные, мы сбились, как собаки, тесной кучей, а
Танечка ткнулась мне в шею холодным носиком и дрожала, хоть я и прижимал ее к себе тесно-тесно… После этого Мурзаеву не оставалось ничего другого, как по решительному требованию писдочки отправить троих заводил в Москву – списать за пьянку. И меня, к которому она питала особую неприязнь, в первую очередь, разумеется.
На следующее же утро Мурзаев нас отконвоировал в Горький, на железнодорожный вокзал. Не буду описывать расставание с Танечкой: она порывалась со мной, ее не отпустили, она плакала, а ведь она плакала так редко, моя храбрая девочка… Город был покрыт какой-то гарью, быть может, недавно был артобстрел, черные сугробы, темные люди, вокзал заплеван и загажен, конечно же, туалет. Здесь, в ожидании поезда, Мурзаев допустил еще одну, ставшую для него роковой, ошибку: он не умел пить один, но не умел и не пить так долго, поэтому купил пару бутылок водки и распил с нами на четверых.
Чуткими юными носами мои приятели уловили, что дело здесь нечисто: уж очень слаженно и привычно мы с Мурзаевым разливали. И если я, повязанный клятвой верности учителю, всегда во время наших возлияний вел себя сдержанно, то мои дружки, опьяненные вседозволенностью, принялись хлопать своего завуча по плечу и едва ли не переходить на
ты. Конечно, он резко пресекал такого рода фамильярности, одергивал, но куда там – приятели, не имея моей школы, быстро осовели, и мы едва затолкнули их в общий вагон…
В Москве меня ждала неожиданность: моя матушка уже все знала.
Позже выяснилось, что, пока Мурзаев пил с нами водку на обшарпанном горьковском вокзале, писдочка дала подробную телеграмму директору, что, мол, такого-то и такого-то из-за систематического пьянства отправили вон из отряда. Директор обзвонил родителей всех четверых, и начался нешуточный переполох. Во всем этом вот что было самым тяжелым: директор воспринял происшедшее как самое возмутительное событие и принял решение всех нас из школы исключить. Это была катастрофа: за полгода до выпускных и вступительных экзаменов быть исключенными из школы означало с большой вероятностью получение плохого аттестата, как следствие – непоступление в институт, а там армия, а там большая жизнь… Короче, родители были в ужасе. И тут моя матушка, ничего, разумеется, мне не сказав, отправилась выручать свое чадо. А именно – она рассказала директору о том, как принимала у себя дома пьяного Мурзаева – на пару с пьяным же его ученичком.