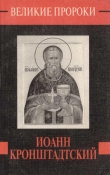Текст книги "Последние назидания"
Автор книги: Николай Климонтович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Только теперь стало ясно, как сдержанны были до сих пор эти люди, как деликатно они подавляли в себе классовое отвращение, сколько разного накопилось у них на душе. Жена кричала, намеренно не прикрывая дверь в свою комнату, что она знает – это бабка отравила рыб , потому что никогда не здоровается. Здесь, к слову сказать, жена автомеханика была отчасти права. Не в смысле бабушкиного рыбоборства, но в том, что бабушка, коли была надобность покинуть комнату, скользила по квартире неуклюжей тенью, пытаясь оставаться незамеченной, и прятала глаза. Они нас ненавидят , кричала
Михайлова, они считают нас ниже себя – вот до каких глубин психологии может дойти в час несчастья набравшаяся сил за время отпуска простая русская женщина. Сам автомеханик стал больше пить, сидел всякий вечер на общей кухне перед пустым аквариумом, безысходно качая ногой в тапочке. Отец предлагал ему денег с целью приобретения новых экземпляров скалярий, цихлозом или принцесс
Бурунди – механик обычно называл их бурбунди , но теперь лишь скорбно смотрел на соседа, молчал, крепче сжимал в зубах измусоленную папиросу. Он немо давал понять, сколь черство это предложение, потому что друзей ни за какие деньги не купить и старых уж не заменишь. Один лишь Сявка не поддавался семейному горю, подмигивал мне, коли ему удавалось слямзить у отца курева, но протирать совместно со мною пол ему было отныне запрещено, только по очереди. Поганенькая и прежде наша жизнь теперь превратилась в тоскливый вседневный ад.
И тогда стало ясно, сколь мудра была моя мать, заставляя отца не только витать в облаках теории, но и прозаически зарабатывать деньги на земле: из этих сбережений решено было купить Михайловым отдельную кооперативную квартиру с тем, чтобы освободить для нашей семьи третью комнату. Это не был простой план, но у отца имелся приятель на кафедре, активный человек по фамилии Филимонов, он три года работал в Афганистане, привез оттуда Волгу и являлся членом профкома факультета. При поддержке ректората, путем сложных комбинаций фамилия автослесаря Михайлова была внесена в кооперативные списки, причем дом-башня уже был возведен по соседству, буквально метрах в пятистах от нашего. План был пусть и дерзким, но довольно скоро оказался близок к исполнению.
Мы жили в предвкушении. Была уже распределена новая площадь, утверждена планировка. Было решено, что родители переместятся в
михайловскую комнату, бабушка с Катькой – в маленькую, а я останусь в большой, которая в случае прихода гостей – прежде некуда было пригласить – будет служить и столовой. Подчас наша семья сладко фантазировала, что из мебели нужно будет прикупить, я настаивал на телевизоре. Дело казалось решенным, однако мои родители плохо знали неизъяснимую душу малых сих: семья автомеханика Михайлова наотрез отказалась переезжать.
Как ни странно, совершенно непреклонен оказался именно глава семьи – даром что подкаблучник. Его жена-колобок время от времени еще давала слабину, иногда в коридоре было слышно, как она увещевает мужа в их комнате жарким шепотом, что, мол, у нас ведь кухня будет своя. Но чаще она кричала в отворенную дверь они хотят избавиться от нас , и в этом была ее горькая правда. Но тысячу раз был прав и сам автомеханик, потому что он будто предчувствовал муки, на которые его обрекало грядущее новоселье. Скорее всего он боялся, как последней беды, остаться со своей семьей наедине, его страшило будущее: ведь он никогда не жил сам по себе, но только среди людей. Он еще больше затосковал, стал огрызаться даже на жену, та тоже сделалась нервной, подчас плакала, можно было решить, глядя со стороны, что эту семью постигло какое-то внезапное несчастье. Мои родители ничего не понимали, пытались обрисовать соседям все выгоды отдельного их от нас проживания, но механик, всегда бывший смирным, теперь научился хлопать дверью, даже матерился сквозь зубы, едва моя мать пыталась исполнить поручение отца поговори с ним ты, Света . Родители впадали в отчаяние от собственной беспомощности. Они ведь наверняка считали свой план справедливым и благородным, раз всем будет только лучше: и нам, и Михайловым, и даже государству, которому в этом случае не придется тратиться на улучшение жилищных условий своих граждан, все окупят квантовые генераторы .
И вот, видя полную растерянность моего отца, который пошел все-таки на вполне разорительные финансовые жертвы, чтобы выпутаться из квартирной ловушки, прощелыга Филимонов придумал совершенно иезуитский план. Он явился на университетскую автобазу и рассказал коллегам автомеханика Михайлова, что тот не желает ехать в отдельную квартиру. Коммунальная пролетарская общественность, для которой отдельная квартира была скорее мечтой, чем явью, была потрясена и возмущена. И, по-видимому, наш сосед был подвергнут столь суровому товарищескому остракизму, что буквально через неделю семья
Михайловых уже паковала вещи. Супруга автомеханика, едва скарб был вынесен и погружен на машину, подогнанную с той же автобазы, вернулась на кухню, взяла банку с грибом и вышла, не прощаясь.
Скорбный автомеханик, неся пустой аквариум, буркнул простите коли что не так и, никому не глядя в глаза, тоже исчез. Сявка же давно уж беззаботно крутился во дворе, не ведая еще, что преподнесет ему в скором времени суровая судьба.
Не знаю, как у моих родителей, но у меня от того весеннего дня осталось чувство вины, будто мы выгнали Михайловых на улицу из их теплого гнезда. Вины и пустоты,– так сиротски глядел опустевший кухонный подоконник без банки с грибом, так мрачен оказался голый, с серой грязью на линолеуме, угол из-под соседского кухонного стола, на котором когда-то стоял аквариум с юркими яркими рыбками… Это чувство осиротелости не обмануло меня. Дело в том, что история эта закончилась трагически: автомеханик Михайлов повесился уже через месяц жизни в своей новой однокомнатной квартире. Мне неизвестна судьба его родных, знаю лишь, что много позже Сявку забрали в армию, из которой он вернулся старшим сержантом с полноценными усами. А бывшая некогда соседской средняя комната со временем, после смерти бабушки, превратилась в отцовский кабинет…
ВМЕСТО ПОСВЯЩЕНИЯ
Меня спасла рассеянность отца. Потому что, прибыв на дачу, он вспомнил, что оставил предназначенные мне деньги в запертом кабинете, и на другой день приехал меня выручать…
Я не помню сейчас, что следовало за чем, но знаю только, что, как водится, раньше “скорой помощи” прибыла милиция. В приемном покое отделения травматологии Первой градской на каталке у стены коридора лежала седая женщина, у которой было вдребезги разбито лицо. Здесь же сидел парень, то и дело наваливаясь на мать, которая выглядела деревенской старухой, хотя наверняка была не старше моей матери. Та поминутно стирала у сына со лба пенящийся кровавый пот. Стыдясь смотреть на чужие несчастья, когда сам оказался в беде лишь по собственному капризу, я вспомнил, как отец спас мне жизнь в первый раз.
Летом мы жили в палатках в расщелине на берегу моря неподалеку от
Геленджика. Мне было пятнадцать, я перешел в девятый класс и томился от скуки в компании дядек-физиков, бегавших в трусах туда-сюда по берегу с подводными ружьями наперевес, их раскрасневшихся жен в купальниках, всегда варивших на костре уху с лаврушкой, всегда жаривших в сухарях на постном масле развалистые куски толстого лобана, всегда мывших эмалированные миски, и их слабовозрастных и малоразвитых для меня детей.
От безделья я днями плавал в море. Однажды меня напугал дельфин. Он неожиданно шумно вынырнул рядом со мною из пучины, играя и едва не касаясь моего тела, и это внезапное появление морского чудовища поначалу вызвало у меня панику. Наверное, дельфин понял, что имеет дело с пугливым идиотом, и исчез так же, как возник, а я, придя в себя, долго звал его и пытался отыскать в океане. Все было тщетно, и я поплыл, почувствовав себя ихтиандром, поплыл вдаль, пересекая бухту, туда, где в палатке с подругой и мужем подруги жила одинокая студентка из Иванова с большими бедрами и маленькой грудью, с которой я познакомился, когда мы с отцом и с его другом, свердловским физиком Кобелевым, ходили в поселок за продуктами.
Поселок назывался мило – Криница.
Я хорошо плавал, к тому же на мне были ласты, но, преодолев эти пять километров, совсем выдохся и на берег буквально выполз – к ногам предмета подвига. Студентка из Иванова – что-то связанное с текстилем – несколько удивилась, но налила мне горячего супа, дала чаю и шоколадку. Больше не дала ничего, хоть мы и ходили вдвоем
гулять в цепкие и колючие заросли дикого кизила. День клонился к вечеру, как сказал бы эпик, мне пора было домой, где меня, как я понимал, не представляя, конечно, всей картины, уже хватились. Но нечего было и думать идти босиком километров двенадцать по горячим и острым камням. Оставалось опять плыть.
Конечно, на этот раз я непременно утонул бы. Мы уже обменивались долгим прощальным платоническим поцелуем с текстильщицей, как появились мой отец и Кобелев, белые лица которых вмиг порозовели, когда они увидели меня живым. В руках отец нес мои тапочки. То есть он до последнего не верил, что меня поглотило море, хотя это казалось очевидным, к тому же тут сработала интуиция заправского холостяка Кобелева, который так и сказал: да нет, Юра, он хорошо плавает, просто пошел по девочкам… И был по-своему прав.
КАК КРУТИТЬ ЛЮБОВЬ
Звонок застал меня в квартире родителей случайно: я давно жил отдельно холостым нищим богемцем и приехал съесть тарелку борща и тайком от отца перехватить у матери червонец. Трубку снял я сам.
Женский голос сказал: ни за что не угадаешь, это Оля Агафонова. И после паузы: давай повидаемся, я сегодня дома одна. Я даже не успел удивиться, что она помнит меня, ведь прошло так много лет. Но, странное дело, я терпеть не могу, когда мне так бесцеремонно назначают свидания дамы, лишая любовной инициативы. Выписывают, говоря циничным мужским языком. Я довольно грубо сказал, что рад, но сегодня занят. Положил трубку и тут же пожалел, что отказал ей. Хотя у меня действительно были на этот вечер другие планы.
Конечно же, я тоже сразу вспомнил ее. Последний раз мы виделись, когда ее семья уезжала из этого дома и из этого двора. Это было лет десять назад. Тогда, в свои шестнадцать, Оля Агафонова была уже вполне сложившейся женщиной. С тяжелым красивым неподвижным лицом, какие бывают у слишком сосредоточенных на своей вагине юных дам. С черными глазами вола, чуть навыкате, и с замечательной каштановой гривой. Но в те поздние школьные годы я редко сталкивался с ней.
Так, мимоходом, встретившись во дворе, мог обронить какую-нибудь двусмысленность, намекая на наше общее отрочество, потому что, начиная с восьмого класса, учился в другой, специальной, школе, и у меня была уже другая компания и совсем другие интересы.
Теперь ее неожиданный звонок напомнил мне то время, когда нам было лет по двенадцать-тринадцать. Я выглянул из окна во двор. Там, внизу, на асфальте она когда-то прыгала через скакалку, а я вот так же подглядывал за ней и за стайкой соседских девчонок. Я не знал ее нового телефона. И позвонил в справочную. Агафоновых в Москве оказалось пруд пруди. Я знал ее полное имя и ее возраст, но ситуацию это не меняло: скорее всего телефон был зарегистрирован на ее отца-ботаника, профессора биологического факультета. Так что я бросил свои поиски, пожав плечами: что ж, жаль, но – не сложилось. А между тем у нас с ней было одно важное незаконченное дело, и, оказалось, она тоже жалеет об этом. А именно, мы с ней так и не переспали.
Сейчас я вспомнил, когда мы познакомились. Мы учились классе в шестом, наверное: Агафоновы приехали в этот дом позже, чем мы, переселившись из коммуналки в четырнадцатиэтажном – этот дом напротив кинотеатра Прогресс так и назывался в университетском фольклоре – в отдельную квартиру. Они появилась, когда наш двор уже зарос кустами сирени, прижились липы и тополя, несколько березок, были разбиты под окнами первого этажа цветники с золотыми шарами, а зимой каток на спортивной площадке, обнесенной стальной сеткой, почему-то бросили заливать. Что ж, катание на коньках было привычкой многих юных поколений, но наше, кажется, было едва ли не последним.
И мы уже выросли из своих детских снегурок, которые приматывались веревкой прямо к валенкам, из фигурок, намертво прикрученных к подошвам высоких шнурованных ботинок, из гаг с выступающим передом, из высоких шикарных хоккейных канадок и даже из доставшихся по наследству от отцов с длинными лезвиями и острыми носами, опасных в спортивных схватках, беговых норвежек.
Никто не пришел нам на смену. Следующие генерации отчего-то отказались от радостей конькобежного спорта, когда на иллюминированном катке под звуки голоса какой-нибудь Далиды так ловко было приставать к девчонкам. Теперь в нашем детском дворе появились рядом с заброшенной спортплощадкой самостройные лавочки и стол для домино, за которым забивала козла компания, состоявшая из обслуживающего персонала: слесарь Витя, живущий в гражданском браке с нашей техником-смотрителем Валей, отец Филиппка, – он тоже был с автобазы, дворник Вася. Интеллигентные же жильцы, тогда еще кандидаты наук, уже не выходили, напялив линялые пузырящиеся на коленях треники, на апрельские ленинские субботники, как было поначалу, когда горячим еще оставался энтузиазм новоселов. Короче, жизнь наладилась и устоялась, подросли девочки, мои ровесницы. А ведь когда-то они играли на асфальте в классы, прыгали через веревочку, модничали, нося все как одна одинаковые кофточки и притворно воротя от нас носы. Среди них была и самоуверенная, неуемно болтливая, как бывают говорливы интеллигентные неумные женщины, красавица Таня Скокова, моя первая любовь, и ее фамилия гармонировала с семейным преданием, будто ее мать – внучатая племянница балерины Ксешинской. И плотненькая Люба Чернова, жившая на первом этаже, – вечером, уцепившись за решетку ее окна и подтянувшись, удобно было подглядывать, как она раздевается перед сном. И умница Лиза Каракозова, отличница с прямыми некрасивыми волосами и дурными зубами. Наконец, эта самая Оля Агафонова, которую создала природа не для любви, как Таню Скокову, но для страсти и похоти.
Она будто и сама это понимала. А потому не была романтична, ловко заманивала в свои сети, чаруя статью, формами, так странно развитыми у нее уже на тринадцатом году. В ней уже тогда была сонная нега восточной наложницы, ленивая поступь и равнодушная готовность себя дарить. Дарила она себя нам на пару с Серегой Гвоздевым – он уж как-то попадался нам на футбольной полянке за домом. Нет, это, конечно, не был групповой секс, мы все были малолетними девственниками, мы просто хором лапали и щупали ее, что, кажется, доставляло ей большое удовольствие.
Этот самый Гвоздев был ничем не выдающимся парнишкой. Разве что тем, что и учителя, и одноклассники никак не могли не скаламбурить, произнося его фамилию. А учитель физики так вообще начинал каждый урок с того, что тыкал в него пальцем: назвался Гвоздевым, полезай в кузов. А поскольку Серега был завзятый троечник, уроков не учил, а гонял в футбол, то по физике у него выходила за четверть круглая двойка. Это был худой, невысокий, темненький, с рано проступившим кадыком и темными пучками над углами губ мальчишка на пару лет старше меня. Но одна отличительная особенность у него все-таки была: половое созревание, период вообще мало приятный, томительный и хлопотный, давалось ему как-то особенно мучительно. Он, что называется, был всегда тревожно озабочен, никакой футбол не помогал, к тому же он был не просто некрасив, но неопрятен и физически неприятен, с плохой кожей и всегда слюнявыми губами, и девочки сторонились его. Он пытался подкатываться к взрослым теткам, однажды подстерег в темном проходе за гаражами какую-то маляршу-строительницу в заляпанном ватнике, возвращавшуюся, видно, с работы, наставил на нее пугач и отчаянно крикнул раздевайся. Она обернулась и устало сказала: а вот я тебе сейчас уши-то надеру, щенок. И Серега позорно бежал.
Был и другой случай. За нашими домами проходила железнодорожная ветка, по которой некогда от цементного завода возили бетон на строительство здания МГУ на Воробьевых горах. Университет давно построили, но ветку не сняли, как не упразднили и сам заводик. И пару раз в сутки по ней проходили несколько вагонов, которые тянул электровоз. На этой ветке однажды была построена декорация дореволюционного вокзала, и именно здесь, под наблюдением всей окрестной пацанвы, бросалась под паровоз Анна Каренина в исполнении любимой нами за Альба-Региа, где она изображала советскую шпионку, татарского шарма красавицы Татьяны Самойловой.
Так вот, на пересечении окончания Мосфильмовской улицы и железнодорожных путей был шлагбаум, а при нем будка смотрительницы – с ситцевой занавеской на единственном окошке, с зеленым цветком в горшке на подоконнике. Вот в эту самую будку с одинокой ее обитательницей как-то и постучался Серега. Ему открыли. И спросили, разумеется, что ему надо. Пусти к себе, попросил Серега жалобно,
я ученик, мне надо… Его, конечно, прогнали.
Оля Агафонова, строго говоря, была моя пассия – это определялось по понятному признаку кто с кем целовался. Но старшему товарищу по футбольной площадке я не мог отказать и лишить его невинных удовольствий, которых он так алкал. Так что, когда старшие Агафоновы были на работе, мы после уроков заваливались к ней на пару. К тому же они, биологи, часто укатывали и с ночевкой на опытную станцую
Чашниково по Октябрьской железной дороге…
Впрочем, Гвоздев оказался довольно галантным кавалером. Прежде чем начать нещадно тискать и зажимать хозяйку, он читал стихи. Отчего-то в его репертуаре решительно преобладал Маяковский. Причем целиком он знал лишь довольно пространное и отнюдь не революционное и даже не любовное стихотворение, а именно Невероятное приключение, случившееся с автором на даче, так приблизительно называется этот опус. Серега становился в позу и начинал что-то в духе:
– А за горою той дыра,
И в ту дыру, наверно,
Скрывалось солнце каждый раз
Медленно, но верно…
По мере чтения он распалялся и переходил на ор. Он с истинным героизмом и вызовом кричал солнцу:
– Чем так без толку заходить,
Ко мне на чай зашло бы…
Наконец, краснея и тужась, заканчивал победно, сильно жестикулируя, потея и крича:
– Светить всегда, светить везде,
До дней последних донца,
Светить, и никаких гвоздей -
Вот лозунг мой и солнца!
Увы, кажется, Оля Агафонова была глуха к поэзии, а любила мороженое и шоколад. Поэтому, несмотря на весь его раж, не давала Гвоздеву себя поцеловать. Так, пощупать. Причем она не стеснялась меня, показывая глазами, как противно ей даже подумать о поцелуях с другим. В ней уже тогда было всегда изумлявшее меня и свойственное многим недалеким девушкам разграничение: то-то и то-то они могут позволить любому, но какой-то один способ любви они сохраняют лишь для избранника. И считают при этом, что хранили верность любимому, у которого, верно, волосы бы встали на голове, узнай он, что за его спиной его избранница вытворяет с соперниками. Так вот, поцелуи в губы у Оли Агафоновой были зарезервированы за мной, а Гвоздеву было позволено лишь тыкаться слюнявым ртом ей в шею, шаря при этом у нее под юбкой дрожащими, жадными руками. Иногда – я слышал, не глухой – он прерывистым шепотом просил ее на ухо Оля, дай пое…ся, и тогда она отталкивала его и произносила вот еще, причем, трудно сказать, понимала ли она вообще в свои двенадцать с небольшим лет значение этого слова. Хотя сам звук, конечно же, был нам всем знаком – запретный, из срамного лексикона пьяных дядек-матерщинников.
Взрослый же Гвоздев уже отлично понимал, что да как, его просвещали другие, еще более взрослые, футболисты, хваставшиеся половыми своими победами, и там, на футбольной площадке, часто можно было услышать загадочные, но интригующие фразы типа а что, Булкина, хоть и кривоногая, а хорошо подмахивает.
Однако я не ревновал: что бы ни стояло за гвоздевскими поползновениями, я был к Агафоновой сердечно равнодушен. Таня
Скокова – вот был мой романтический идеал. И Маяковского я не любил
– хотя бы потому, что нас принуждали его изучать в порядке
внеклассного чтения. Что-то вроде я и Ленин на белой стене, скука смертная. Я больше склонялся к Шаганэ, ты моя, Шаганэ, и прилежно переписывал эти строки в тетрадку. Там содержались и другие хорошие стихи, скажем Когда фонарики качаются ночные, которые считались народными, причем столь любимыми, что автора, когда он в ленинградской пивной спьяну стал бахвалиться, что эти строки написал он, сильно побили. Переписаны были также те незабвенные песни, словам которых меня обучили во вшивом отделении кожно-венерологической больницы, когда я, шестилетний, лечился от лишая. А именно Из-за пары распущенных кос и сопутствующие произведения, изобретенные русским каторжным народцем…
Был томительный и жаркий июньский день. Кажется, именно тогда я готовился к отправке в пионерский лагерь, отчего-то недальновидно этому радуясь, предвкушая свободу от родительской опеки, ничего не зная еще о лагерной муштре. Вся мужского пола ребятня нашего двора, еще не развезенная по дачам и не распиханная по лагерям, толпилась вокруг стола для пинг-понга, а девочки играли в мяч на выбывание.
И жизнь эта дивно отличалась от повседневной тем, что погода стояла летняя, летел тополиный пух, и не нужно было готовить уроки, потому что начались каникулы. Конечно же, появилась и Таня Скокова в милом сарафанчике, гордая, с индивидуальной скакалкой в руке. Мне она снисходительно кивнула, хотя мы с ней тоже уже целовались – на лавочке у подъезда, зимой на лестничной площадке последнего этажа перед дверью на чердак. И тогда мне, уязвленному, пришла мысль чем-нибудь ее сразить. Выкинуть какое-нибудь коленце, которое должно было бы ее бесповоротно уничтожить и окончательно покорить. Я повернулся к Оле Агафоновой и крикнул громко, по-хулигански:
– Олька, пошли е…ся. – И добавил уже шепотом: – За гаражи.
Двор затих.
– Пошли, – спокойно согласилась Ольга. А Скокова равнодушно бросила через плечо вот дурак, отвернулась и принялась скакать.
Ольга Агафонова пошла впереди.
Для меня это ее равнодушное публичное согласие стало большой неожиданностью. В конце концов, выкрикнув свой революционный для всей дворовой ребятни лозунг, к конкретным действиям я был никак не готов. Но дело в том, что я был старше и слыл заводилой. Я понимал со страхом, что ответственность, которую я взял на себя, для меня непомерна. И вот вам картина, нелепая и ужасная. Впереди идет Ольга
Агафонова, гордо неся свою тяжелую голову, за ней плетусь я. А за нами идет ватага заинтересованных зрителей, заинтригованная и взволнованная столь неожиданным происшествием. Всем было любопытно, куда мы направились и что же произойдет, потому что обещанное таинственное и запретное действо грозило случиться прямо здесь и сейчас.
Ольга направилась к железным гаражам, выстроившимся с краю двора. Я за ней. Толпа малолетних болельщиков – лет от шести до десяти примерно – за моей спиной неумолимо росла. Присоединялись все новые зрители. Эта масса дышала мне в затылок и, кажется, начинала роптать. Раздавались уже голоса в том смысле, что нечего тянуть и незачем идти так далеко. Ольга остановилась, обернулась ко мне и немо спросила: и что делать? Я было вознамерился шепнуть давай убежим, как произошло какое-то мгновенное изменение в воздухе, и двор потряс страшный удар, похожий на взрыв, и звук бьющегося стекла.
Оказалось, ушастый “Запорожец”, въезжая во двор, со всего маху угодил в фонарный столб. Удар был такой силы, что бетонный столб накренился, фонарь посыпался, и сам автомобиль странно сплющился и сжался, как маленькая гусеница. Из гаражей высыпали мужики и после немалых усилий достали из кабины и положили на брезент, который они расстелили на асфальте, бездыханное окровавленное тело. Правая нога была без ботинка, в одном сером носке с малиновыми ромбами на щиколотках. Вся ребятня, разумеется, повалила смотреть на столь редкую картинку. И мы с Ольгой, забыв про любовь, пошли смотреть на смерть.