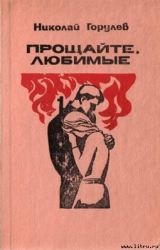
Текст книги "Прощайте, любимые"
Автор книги: Николай Горулев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
– А я – то думаю, откуда такой русский язык...
– Это от отца. Знал он и разговаривал по-белорусски, а меня с детства учил русскому. Мечтал побывать на родине и меня па Волгу свозить.
– Побывали?
– Папа умер в тридцать восьмом.
– Побываешь... – пообещал Иван. – Вот закончится война и первым делом съездишь на родину отца.
– Ты думаешь, она когда-нибудь кончится? – задумчиво спросила Данута, и на переносье ее круглого подвижного лица собрались складочки.
– Я не думаю, а знаю, – твердо сказал Иван
Глава седьмая
В РОДНОЙ ДЕРЕВНЕ
Устин Адамович не давал хлопцам отсиживаться в лагере. Вскоре ушел с заданием под Гребенево Зайчик, а затем Устин Адамович позвал к себе Федора.
– Придется тебе продолжать свою комсомольскую работу в масштабе района. Начнешь с создания и восстановления первичных организаций в деревнях. В наших условиях даже два-три человека – большое подспорье. Начни со своей деревни.
Федор весело улыбнулся, сверкнув черными быстрыми глазами.
– Обрадовался?
– А как же, Устин Адамович. Не был с тех пор, как ушел в ополчение.
Сборы были короткими. Федор оставил винтовку, положив в нагрудный карман стеганки пистолет, попрощался и пошел знакомой проторенной тропинкой через болото.
«Удивительный человек этот Устин Адамович, – думал Федор. – Не иначе читал он мои мысли, если послал в родную деревню». Домой – это значит к Кате, думки о которой не покидали Федора ни во время ранения под Луполовом, ни в лагере военнопленных, ни здесь, на партизанской базе. Заговорить о ней с Устином Адамовичем Федор не решался – время было трудное, и кто знает, как истолкует этот разговор комиссар отряда – подумает еще, что Федор бежит из лесу под теплое родительское крылышко. И он молчал, выполняя одно задание за другим. Удалось захватить две подводы с мукой и консервами, награбленными полицаями в сельмаге, вывезти со склада потребсоюза несколько тысяч школьных тетрадей для партизанских листовок, отбить группу пленных, которых вывезли в лес для заготовки дров.
Приближалась зима, а с нею вести, одна тревожнее другой. Гитлеровцы подошли к самой Москве, и не сегодня-завтра бои начнутся на улицах города. Федор не слыл стратегом, но был уверен, что Москва выстоит. Откуда бралась эта уверенность – он и сам не знал, но чувствовал – отдать Москву, значит, отдать все, а ведь в такой огромной стране можно собрать силы, чтобы наконец остановить врага. Он рисовал в своем воображении Московский Кремль, где, наверное, заседает сейчас Генеральный штаб, колонны танков, идущих на помощь столице, эскадрильи наших самолетов над любимым городом. Нет, с Москвой ничего плохого не случится – говорил он себе. Потому что без Москвы – вечная оккупация, а как жить в вечном унижении, под вечными Пытками? Такую жизнь не скрасит даже Катя, милая и добрая Катя, ради которой. Федор мог пожертвовать жизнью. В дороге особых приключений не было, если не считать, что недалеко от родной деревни Федора задержал конный полицай. Лицо его, квадратное, молодое, было очень знакомо Федору, он даже мог поручиться, что с этим парнем они ходили в одну школу.
– Документы! – потребовал полицай, не снимая с плеча винтовку.
Федор мог запросто застрелить этого представителя власти, но решил, что спешить не надо, что парень этот, хоть и с повязкой полицая на рукаве поношенного немецкого мундира, может еще пригодиться.
– Какие документы?... – вздохнул Федор. – Вот иду домой, а там будут и документы.
– Откуда? – незлобно полюбопытствовал полицай.
– Отступал вместе со всеми, да немцы вернули назад – говорят, некуда уже отступать.
– Значит, правда, что они Москву и Ленинград взяли? – спросил полицай.
– Может, и правда, – уклончиво ответил Федор.
– А ты сомневаешься?
Федор посмотрел в глаза парню и увидел в них слабую искорку надежды. Казалось – скажи ему, что все это враки, и он сбросит повязку и придет с немецкой винтовкой к партизанам.
– Как тебе сказать, – опять уклонился от прямого ответа Федор. – Пока я не знаю так же, как и ты.
– А докуда ты дошел? – спросил полицай. Он достал сигареты и протянул Федору. – Кури.
– Почти до Смоленска, – солгал Федор.
– Значит, точно... – Полицай закурил и тронул коня. – А я тебя помню, Осмоловский. А ты меня не признал.
Федор хотел признаться, что тоже припомнил его, но полицай пришпорил коня и завернул в перелесок.
Федор поднялся по дороге на холм и увидел издали хаты своей деревни. Сердце его радостно и тревожно забилось. Он пытался отсюда угадать, на месте ли дом Кати и его дом, но с этой дороги он деревню видел впервые. Он торопливо спустился в лощину и едва сдержался, чтобы не побежать. «А если в деревне полицаи из местных, которые хорошо знают его как студента и комсомольского секретаря института. Надо быть осторожнее». Он решил, что не пойдет по улице, а гумнами проберется к своему дому…
Тишина, царившая вокруг, поразила Федора. Тишина на колхозном дворе, на улицах, в домах. Деревня словно притаилась, испуганная и неуверенная. Притаился за стеной своего гумна и Федор. Осмотрелся и пошел через двор в хату.
Он не стал стучаться, а тихонько открыл дверь и вошел в сени.
– Кто там? – услышал Федор голос матери. – Проходите в хату!
Федор взялся за клямку, открыл дверь, шагнул за порог и остановился. Мать убирала со стола посуду. Она выронила из рук тарелку, и та со звоном разлетелась на мелкие кусочки.
– Федя! Феденька, сыночек, живой! – Мать бросилась на шею Федору, обняла и повисла на нем, обессиленная. Федор гладил мать по густо седеющей голове и молчал.
– А я все во сне тебя видела, маленьким совсем, когда ты по полу ползал... – Мать села с Федором на скамью у окна и крепко держала его за руку, то и дело заглядывая в глаза. – Ну, думаю, раз снится дите, значит, будет какое-то диво с тобой... вот оно и есть диво... – Она снова обняла сына и заплакала тихо, спокойно, словно освобождаясь от пережитой тревоги.
– А где отец? – тихо спросил Федор. – Он эвакуировался?
Мать долго не отвечала. Только еще крепче сжала руки сына. Федор не стал повторять вопроса – он понял все.
– Схоронила я нашего отца, – чуть слышно прошептала мать. – Погиб он на Буйничском переезде. – Некоторое время она посидела на скамье рядом, а потом вдруг поднялась и торопливо начала собирать на стол.
– Я не голодный...
– Вон щеки как ввалились, одни глаза да брови... и обносился... Я покормлю тебя да истоплю баньку.
– Есть в деревне полиция?
– Бог миловал. Один Кузьма Кузьмич за все начальство. – Староста, что ли?
– Он остался в деревне со страху, согласился со страху быть старостой...
– Он со страху и продать может.
– Не думаю.
– А зря. Они, эти трусливые, на многое способны, а мы почему-то жалеем их за трусость.
– Не жалеем мы, сынок. А думаем, что супротив своих он все-таки не решится... Так я тогда баньку сперва... Отцовский костюм тебе достану, белье новое...
– А Катя с матерью живы, здоровы? – спросил Федор и отвернулся, чтобы мать не заметила, как краска залила его лицо.
– Живы, чего им станется. Когда фронт проходил, в ямах прятались, а теперь пока тихо...
Банька стояла за гумном, на берегу небольшого ручья, поросшего ольшаником. С ней было связано много детских воспоминаний. Мать перестала его купать дома и взяла впервые с собой в баню, когда ему было годика четыре. Пошел он охотно. Ему правились камни в углу печи, которые из черных становились красными от огня, нравилась огромная деревянная бочка в другом углу, в которой было так много воды, что можно было напоить всю деревню, правились беленькие дощатые полки, по которым можно было подняться до самого потолка.
Все это потеряло сразу свою привлекательность, когда мать плеснула на горячие камни ведро воды. Банька сразу наполнилась густым туманом, от которого стало трудно дышать, и в этом тумане пропали из виду печь, бочка и полки: Федя испугался и закричал. Мать пыталась успокоить его, по он кричал изо всех сил, пробуя прямо голышом выскочить на улицу. Мать торопливо набросила на него рубашонку, штанишки, и он босиком по теплой податливой пахоте помчался домой.
Федю еще долго не могли уговорить идти в баньку, пока отец не пристыдил его, что никто из ребят в деревне не будет с ним играть, а учитель не примет в школу того, кто не моется в бане. Последний аргумент был самым сильным, и Федор покорился. Правда, с отцом было не так страшно. Он даже забрался на третью или четвертую полку, но когда отец начал размахивать веником, Феде показалось, что его обдали огнем. Он скатился с полок вниз и начал плескаться в деревянной шайке с холодной водой, а отец хлестал себя веником и весело хохотал в густом облаке пара, где-то под самым потолком.
Федор вспомнил все это, когда надевал в предбаннике отцовский, почти не ношенный костюм. Набросив стеганку, подаренную Светланой Ильиничной, он не спеша пошел к дому.
Хотелось пить. В сенях он набрал из ведра алюминиевую поллитровую кружку. Вода колола холодком зубы и освежала. Федор открыл дверь в хату и остановился – у окна увидел Катю.
Катя ни капельки не изменилась. Может, только чуточку похорошела. Да глаза были не такими грустными, какими запомнил их Федор, прощаясь с Катей в конце июня.
Федор ждал этой встречи, часто думал о ней, а увидев Катю, растерялся. Он не знал, как поступить – подойти к ней и, как прежде, просто по-дружески подать руку или броситься к ней и обнять. Пока Федор стоял в нерешительности, Катя подошла к нему и улыбнулась:
– Живой?
– Я ведь тебе говорил – не прощай, а до свидания.
– Ну, ладно... – Катя протянула ему руку и, когда Федор взял ее в свою широкую ладонь, прильнула на мгновение к нему и поцеловала в щеку. – Здравствуй, Федя. Я рада, что ты вернулся.
Федор хотел было обнять Катю, но она снова отошла к окну, с любопытством рассматривая Федора,
– А ты изменился. Повзрослел, что ли.
– Повзрослеешь... – криво улыбнулся Федор. – Если б не добрые люди – богу душу отдал бы.
– Я про Могилев знаю. Вы там были настоящими героями.
– Ты бы посмотрела на него сейчас, – вздохнул Федор. – Сердце кровью обливается. И не потому, что разрушены дома или целые улицы. Изменились люди. Ушли в себя, затаились, стали бояться друг друга. Каждый думает – кто тебя знает – может, ты теперь уже не тот, кем был раньше?
– А меня ты не боишься? – спросила Катя и улыбнулась. Федор повесил стеганку, подошел к Кате вплотную, взял ее за руку:
– Боюсь, Катюша... Честное слово. Мне казалось, что после всего пережитого тобой и мной я приду и обниму тебя... потому что... ты знаешь почему...
– Ну и обними, – шепнула Катя.
Федор не поверил своим ушам. Он посмотрел в повлажневшие теплые глаза Кати, и кровь бросилась ему в лицо. Он крепко прижал к себе Катю и неловко, торопливо, задыхаясь от радости, стал целовать ее губы, лицо, глаза, волосы.
Катя стояла притихшая, обессиленная, не отвечая на горячие ласки Федора.
– Катюша, милая... я люблю тебя...
Катя легонько отстранила Федора, села на скамью и, положив голову на стол, расплакалась. Она громко всхлипывала, вздрагивая всем телом, а Федор стоял рядом и не знал, как утешить ее.
– Катюша, что с тобой, ну не плачь... прошу тебя... я не могу видеть, как ты плачешь...
Эти неожиданные слезы снова поставили Федора в тупик. О ком сейчас плачет Катя? То ли, как прежде, при воспоминании о Владимире, то ли о себе и своей неудавшейся жизни, то ли... Он не знал, что думать, и от этого еще больше терялся.
– Ну что ты, ну успокойся...
Катя подняла голову, посмотрела на Федора покрасневшими глазами и сказала с дрожью в голосе:
– Я плачу, потому что... я потом тебе расскажу... потом... – Она поднялась и торопливо, словно боясь, что ее будут удерживать, вышла в сени, а потом на улицу.
Федор смотрел в окно. Катя шла не оборачиваясь, придерживая на груди незастегнутое тоненькое демисезонное пальто. Точно так ходила она к подругам, когда училась в школе. Только тогда у нее не было этого демисезонного пальто, а коротенький серый жакет, рукава и воротник которого были отделаны заячьим мехом. Именно в это окно смотрел тогда Федор, чтобы увидеть, как Катя будет возвращаться домой.
– Что же случилось?
Вернулась мать, пристально посмотрела на возбужденного Федора, предложила;
– Ты ляг, сынок, отдохни после баньки, а я тебе свежих картофельных оладей испеку.
– Спасибо, мама.
– Ты, наверное, уже забыл, какие они на вкус?
– Забыл.
Федор лежал за дощатой перегородкой на кровати и думал. Мать постукивала чепелой, наливала на горячую сковороду тертую картошку, а она шипела, потрескивая, напоминая Федору безмятежные дни детства, когда он, уже проснувшись, лежал с закрытыми глазами и слушал, как хлопотала в доме мать. Это было всегда, было привычно и вселяло спокойствие – раз мама хлопочет, значит, все в порядке, значит, ничего особенного не случилось.
За столом мать сидела задумчивая, не притрагиваясь к еде.
– А ты, мама?...
– Я сыта, сынок. Да ты же знаешь, что я эти самые драники не очень уважаю... А ты без них никак не мог...
Федор улыбнулся и замолчал.
– Я вот что, Федя... – продолжала мать. – Встретила я Катю, когда она от нас шла... Глаза у нее были на мокром месте... Ты бы не обижал ее, сынок. У нее и так не получилась жизнь... Вдову каждый может обидеть, а заступиться некому, кроме родной матери, пока она есть... Так ты уж... не обижай ее, не надо этого тебе... да и время сейчас такое трудное, что не мне тебе рассказывать... а Катя...
Федор встал из-за стола, молча посмотрел в окно, потом свернул цигарку и закурил. Мать смотрела на него, ожидая ответа на свои слова, а Федор думал и не знал, что сказать матери. Неужели она никогда ничего не замечала?
Федор ушел за перегородку, снова лег и сказал тихо, но так, что мать его услышала:
– Я люблю Катю, мама. Давно. Еще до того как она уехала с Владимиром на Дальний Восток. И ничего не изменилось теперь, когда она возвратилась с ребенком. Ничего. Мне кажется, наоборот, она стала для меня еще ближе... – Федор впервые говорил с матерью об этом, и откровение сына тронуло мать.
– Ты не думай, – сказала она, – что я такая слепая... я давно замечала, но думала... детское, еще от школы... а ты, оказывается... Да разве я против? Она хорошая, умная, только разве сейчас время говорить об этом? Никто не знает, что будет завтра... Вот и ты... ты тоже не знаешь?
Федор не ответил. Он чувствовал, что мать говорит правду, от которой никуда не уйти, и от этого появлялись злость и обида. Какие планы строил он накануне войны... И все, казалось, выходило так, как спланировал Федор. Катя переехала в Могилев, стала учиться в институте. Они каждый день виделись, а на выходной ехали в родную деревню.
Федор докурил папиросу, вышел из боковушки и увидел, что мать сидит за столом и смотрит на семейные фотографии, которые висели на стене.
– Как погиб отец?... – спросил он. Мать вздохнула:
– Я и сама толком не знаю, сыпок. Говорят только, что райком собрал весь актив коммунистов и поставил их вместе с красноармейцами в окопы... А потом мне передали через знакомых там, в Буйничах, моих подруг много... Я привезла его и похоронила, как могла, на нашем кладбище...
Федор надел стеганку.
– Я хочу сходить к нему, мама.
Мать достала из сундука отцовскую каракулевую шапку-ушанку с кожаным верхом и подала Федору:
– Ты один не найдешь... Там сейчас столько свежих могил.
Они медленно шли по улице, и Федор смотрел по сторонам, стараясь заметить, что изменилось в родной деревне. Нет, как будто ничего. Правда, видны пепелища двух-трех построек да сломанные снарядами деревья на околице. На месте колхозный гараж с запертыми воротами, колхозная канцелярия, окна которой крест-накрест забиты досками. Не было только людей на улице. Правда, и прежде в такую декабрьскую пору старики уже не сидели на завалинках, но молодежь и дети бегали из дома в дом, наполняя деревню веселыми голосами. Теперь Федор видел людские лица только в окнах – наблюдали за ними. Но никто не вышел, не поздоровался, словно Федор с матерью были чужими, не деревенскими.
Федор постоял у могилы, обложенной дерном, над которой возвышался деревянный крест.
– Крест надо убрать, мама, – тихо сказал Федор, – отец был коммунистом.
Мать помолчала, а потом так же тихо заметила:
– Когда вернутся наши... если они, дай бог, вернутся, тогда уберем крест и памятник со звездочкой как коммунисту поставим. А теперь... тот же Кузьмич доложит по начальству и разнесут эту могилку по косточкам. Нельзя сейчас, сыночек. Подождем. Авось дождемся.
Федора радовала уверенность матери. Он чувствовал, что в деревне она не одна верит в возвращение своих, и его уже не очень трогала замкнутость односельчан, которые поглядывали на них только из окон.
По пути домой мать сказала Федору:
– Да, совсем запамятовала. Катя просила, чтобы ты вечерком зашел к ним.
Горячая волна обдала сердце Федора.
– Я обязательно зайду. Сейчас же... Ему открыла Ксения Кондратьевна.
Федор удивился, что дверь была заперта средь бела дня – такого в деревне никогда не бывало. Он поздоровался и остановился у порога.
– Проходи, проходи, Федя, – пригласила Ксения Кондратьевна, и в голосе ее Федор не услышал прежнего холодка.
В просторной Катиной хате было шумно и весело. Маленькая дочурка ее бегала вокруг стола, ступая по полу круглыми нетвердыми ножками, а в сторонке сидел на корточках незнакомый лысый человек с приветливыми живыми глазами и, хохоча, играл с девочкой.
– А я догоню Аленушку, вот сейчас догоню, – весело приговаривал он.
Аленушка визжала от удовольствия и топала вокруг стола мимо сидящего на корточках лысого дяди.
Катя вышла из-за перегородки, взяла девочку на руки:
– Балуете вы ее, дядя.
Федор внимательно посмотрел на Катю. Впервые слышал он, что у нее есть такой родственник. Много лет, после смерти отца, Катя с матерью живут одни, и Федору, который всегда хорошо знал их семью, ни разу не доводилось видеть у них кого-нибудь из близких. Кто знает, может, именно в войну случилось так, что кому-то из них понадобилось приехать сюда, в дом Кати. Федор решил не думать о родственнике, хотя любой человек, появившийся рядом с Катей, был для него не безразличен.
– Знакомься, Федя, – сказала Катя. – Михаил Тимофеевич... – и, немного запнувшись, добавила: – Брат отца. Пришел из-под Минска да так и остался у нас.
Федор заметил смущение на лице Кати и поспешил успокоить ее, протянув руку Михаилу Тимофеевичу.
– Зовите меня просто Федор. Мы с Катей старые друзья – одноклассники.
– Очень приятно, – сказал сочным грудным голосом Михаил Тимофеевич. – Друзья детства – это, по-моему, всегда настоящие друзья... – Он почему-то посмотрел в сторону Кати: – Правильно, я говорю, племянница?
Катя зарделась и не ответила, а только молча кивнула головой, унося Аленушку за перегородку.
– Мама, – позвала она Ксению Кондратьевну, – дай я ее покормлю да буду укладывать...
Михаил Тимофеевич пригласил жестом Федора за стол. Федор сел и вынул из кармана кисет, предложив закурить и Михаилу Тимофеевичу.
– Нет, нет, здесь нельзя – Аленушка, – сказал Михаил Тимофеевич и развел руками. – Спасем его от никотина. Вот поговорим, а потом выйдем в сени и надымимся в свое удовольствие.
Федору стало неловко, что он сам не догадался об этом. Он спрятал кисет и замолчал.
Михаил Тимофеевич пристально посмотрел Федору в глаза и спросил: – Слыхал, ты был в ополчении?
– Был, – поторопился ответить Федор, обрадовавшись тому, что Михаил Тимофеевич сам ведет беседу. – Был, но когда уехал за оружием и боеприпасами под Чаусы, ранило в ногу. Лежал до излечения в деревне за Луполовом, а потом... – Он глянул на Михаила Тимофеевича и удивился – на лбу его от напряжения, с которым он слушал Федора, собрались густые морщинки, глаза горели живым беспокойным огнем. «Вот балда, – подумал про себя Федор, – первому встречному, пусть даже Катиному родственнику, я выкладываю все про себя. А если этот дядя...»
– Ты не беспокойся, – угадал его сомнения Михаил Тимофеевич. – Говори откровенно. Клянусь жизнью Аленушки – все останется между нами.
– Потом из Могилевского кольца пришло в деревню два человека – старший лейтенант с сержантом. Я вместе с ними пытался пробиться на восток, но нас схватили раз – мы бежали, затем второй – и в лагерь военнопленных на Луполово...
Михаил Тимофеевич встал и беспокойно заходил по горнице. В доме было тихо-тихо. Только слышно было, как за перегородкой, завешенной куском выцветшего сатина, Катя и Ксения Кондратьевна кормили девочку.
– Ты помнишь, как звали того старшего лейтенанта? – неожиданно спросил Михаил Тимофеевич.
Федор удивленно посмотрел на него:
– Конечно, помню. Зайчик его фамилия. Он еще рассказывал мне, что присутствовал на последнем совещании у генерала Романова, перед тем как...
– Какого же рожна он перемахнул через Днепр, когда пункт сбора был назначен в Ямницких лесах?...
Федор посмотрел на возбужденного Михаила Тимофеевича, который, видимо, знал лучше его обстановку в окруженном Могилеве и, наверное, сам принимал в этих боях участие, и понял, что его обманули. И где? В доме любимого человека, к которому шел он всегда с открытой душой. Федор молчал, и горькая обида заполняла его душу. Молчал и Михаил Тимофеевич, смекнув, что сказал лишнее. «Ну, ладно, – подумал Федор, – он человек чужой, а Катя...»
Федор встал и предложил Михаилу Тимофеевичу:
– Выйдем в сени, подымим?
– Да, да, обязательно, – оживился Михаил Тимофеевич. – Самое время покурить.
Они вышли в сени. Федор молча достал кисет, кусок пожелтевшей немецкой газеты. Михаил Тимофеевич ловко свернул козью ножку, вынул из кармана кресало, ударил кусочком железа и стал раздувать искру.
Федор с восторгом посмотрел на такую радикальную замену спичек, прикурил и облокотился о косяк двери.
– Вы не обижайтесь на Катю, – вдруг на «вы» заговорил Михаил Тимофеевич. – Я вижу – у вас настоящая дружба. А Ксении Кондратьевне на каждом шагу мерещатся страхи – зайдет как-нибудь Кузьма Кузьмич и онауже бог весть что подумает. А мы с ним поболтаем о жизни да разойдемся. Все он выпытывает у меня, где я жил да что делал. – Вы с Кузьмичом осторожно. Скользкий он человек, – предупредил Федор.
– Я знаю, – успокоил его Михаил Тимофеевич. – Так что же все-таки с Зайчиком? Боевой был командир. Его батальон первым завязал бои с противником, и довольно успешные бои.
– С Зайчиком все в порядке. А сержант умер в лагере. Нам с Зайчиком помогли уйти. Теперь он в безопасности.
Они покурили и вернулись в хату. Катя накрывала на стол. Ксения Кондратьевна, наверное, сидела возле дочки. Из-за перегородки слышен был ее убаюкивающий голос.
Катя подошла к Федору, положила ему руку на плечо:
– Ты прости, Федя, что так получилось. Мама у нас великий конспиратор. Михаил Тимофеевич – генерал, командовал 172-й Тульской дивизией, которая обороняла Могилев...
– Я бы тоже не отказался от такого дяди, – улыбнулся Федор. – А обиды тут не может быть. Ксения Кондратьевна права, – твердо сказал Федор, – сейчас даже самому близкому человеку и то...
Сели за стол. Михаил Тимофеевич сразу стал серьезным и задумчивым. Вышла из-за перегородки Ксения Кондратьевна.
– Спит. Ну, давайте ужинать, – предложила она. – Так ты, Федя, одобряешь мою осторожность?
– Безусловно, – ответил Федор. – Больше того. Я считаю, что дядя, который задерживается в гостях, тоже человек подозрительный. Особенно если учесть, что до войны о его существовании никто в деревне не знал.
– Да, да, – оживился Михаил Тимофеевич. – Мне бы найти связь с нужными людьми.
– У нас в деревне насчет этого глухо, – заметила Катя. – Уж я приложила все старания...
– Я и есть нужный человек, – улыбнулся Федор. – Пришел вот навестить родных, а потом опять в лес.
– Вы от партизан? – Михаил Тимофеевич не скрывал своей радости.
– Знаете, как вам обрадуются в лесу! – воскликнул Федор. – У нас самый опытный командир – это Зайчик,
– Так он с вами? – Михаил Тимофеевич отложил вилку и встал из-за стола. – Ну, Федя, это просто здорово, что вы появились у нас. Это невероятно хорошо. А то от сознания, что ты стоишь в стороне, можно сойти с ума. Я и сам бы давно ушел, но куда? Один, как бродяга, от деревни до деревни? Нет, это отлично, что вы появились. Когда в обратный путь?
– Мне тут надо одно задание выполнить и тогда можно возвращаться...
Когда Федор встал из-за стола, Катя оделась и вышла его проводить. Она взяла его под руку, и они пошли по улице. Деревня словно вымерла. Ни огонька, пи голоса, ни скрипа калитки.
– Ты правду говорил о задании или просто так, чтоб не брать с собой Михаила Тимофеевича?
– Мне надо создать комсомольскую организацию, – прошептал Федор. – А я пока не знаю, что тут у вас и как с людьми.
– Помнишь шофера Николая? – спросила Катя. – До сих пор не может оправиться от ранения. Дома лежит. Вот тебе один комсомолец. Потом я – второй, потом Анисья Зотова – зоотехник, потом... – Катя задумалась. – Был один такой боевой паренек Венька Новиков, да ушел в полицаи...
– Рыжеватый такой с квадратным лицом?
– Точно.
– Значит, его я встретил, когда шел в деревню. Узнал он меня. А я вижу – что-то знакомое, а вспомнить не могу.
– Для начала уже неплохо... – сказала Катя,
– Где мы соберемся?
– Наверное, у Николая. Ходить ему трудно, а мы по твоему возвращению наладим вечеринку.
– Катюша, милая... – Федор остановился, и сердце его замерло от нахлынувшей нежности. – Спасибо, что ты есть на свете... Я не знаю, как бы я жил без тебя... – Он прижал к себе Катю и поцеловал.
Как и днем, в хате Федора, Катя не отвечала на его ласку. Стояла какая-то притихшая, слабая, и Федор боялся, что она опять горько расплачется.
– Что с тобой, Катя? – прошептал Федор. – Почему ты такая?
– Не знаю... Наверное, потому, что пытаюсь вспомнить Владимира. Прежде он стоял у меня перед глазами. А теперь нет. Я ругаю, проклинаю себя последними словами... плачу... а вспомнить не могу. Ты не обижайся, Федя, что я говорю о нем... Я нарочно... чтоб себя убедить, что любовь еще живет. Другой раз просто места себе не нахожу... Как ты можешь, говорю я себе, любить другого, когда у тебя был муж, когда у тебя ребенок от него... Я беру Аленушку на руки, пытаюсь в лице ее рассмотреть черты Владимира, и у меня ничего не получается.
– Ты сказала – другого? – с дрожью в голосе переспросил Федор. – Этот другой был первым, Катюша. И он с ума сходил оттого, что случилось. Он и до сих пор не понимает, что произошло тогда.
Катя положила голову на плечо Федора и молчала. Федор тоже молчал. Оба они словно ушли в прошлое, стали снова юными и беззаботными.
– Я это сделала назло, – вдруг сказала Катя. Федор замер.
– Да, да, назло всем. Девчонкам, которые помирали от зависти, классной и директору, которые считали меня глупым ребенком, тебе, который трусливо сбежал в день самого первого, пускай, детского свидания, когда в классе появилась техничка...
Федор весело рассмеялся. Он не мог сдержаться. Потому что радость, которую ждал он столько лет, пришла и заполнила его всего до краев. Она вырывалась веселым и безудержным смехом... Вот оно, пришло его время. И не надо писать записочек, не надо ходить в тревоге вокруг ее дома. Можно вот так прямо смотреть в ее повлажневшие глаза, целовать родное лицо.
– Только ты больше не плачь, Катюша... – просил Федор. – И не терзай себя. Жизнь нельзя остановить на каком-то определенном одном месте, чтобы, как на застывшую картину, смотреть на нее, отходить и возвращаться вновь...
– Я это понимаю... сердцем, а разум возмущается, потому что это несправедливо... нельзя, чтобы жизнь была устроена таким образом. Любовь должна быть одна на всю жизнь, а не так, как у меня...
Ночь была беззвездной, холодной. Федор отогревал Катины руки в своих руках, целовал ее мягкие круглые пальцы. Они ходили по улице уснувшей деревни, потеряв счет времени, забыв обо всем на свете. Это были прежние Федор и Катя, которые случайно расстались на несколько лет, а потом снова встретились, чтобы уже никогда не расставаться...
... После того как Федор ушел с Зайчиком и сержантом в сторону Чаус, Нина жила как потерянная. Все у нее валилось из рук, по ночам она ворочалась в постели, не в силах сомкнуть глаз. Тревога, вошедшая в ее душу, не давала покоя. Нина рисовала самые страшные картины того, что может случиться в этой опасной дороге с Федором, и ругала себя, что так легко отпустила его из дому. Фронт, говорят, докатился до самой Москвы, и Федор с друзьями уже не догонят его. Возвращались же в их деревню некоторые из тех, кто принимал участие в обороне Могилева. Нина слышала даже, что в лесах появились первые партизаны. Значит, можно было воевать и здесь, а это для Федора было самым главным, и если бы он знал, он, конечно, остался бы.
Однажды утром мать сказала со вздохом:
– Ты бы не убивалась так... Молодая... Если все обойдется с войной, встретишь еще своего суженого.
– Не надо мне никого.
– Вот и хорошо. А я думала, что ты все по нем убиваешься. Недалеко ушел твой Федор с этим командиром. Недели две тому назад везли их немцы через деревню в машине.
– Что ж ты до сих пор молчала, мама?
– Не хотела тревожить. Да вижу – сходишь с ума.
– Ты это точно видела, мамочка?
– Вот как тебя. Сидят, головы поднять не могут. Там еще были пленные, а они сидели аккурат с краю, рядом с конвойными.
– Я на Луполово пойду, – заторопилась Нина и стала собираться.
– Никуда не пойдешь, пока не поешь. И так уже сделалась – кожа да кости.
– Были бы кости, а мясо нарастет... – впервые за последнее время улыбнулась Нина и стала переодеваться.
– Ты не слишком старайся. Забыла, что не на свидание идешь? В городе солдатни много...
Торопливо перехватив отварной картошки с соленым огурцом, Нина нарезала хлеба с салом маленькими порциями и завернула все это в узелок, потому что в лагере, говорят, люди мрут от голода.
Она шла в своих мальчуковых ботинках по обочине пыльной разбитой дороги и представляла, как она сразу увидит Федю среди тысяч пленных, а он бросится к ней навстречу и будет плакать от радости, что она освободит его. Обязательно освободит. Это разрешается, если ты жена, мать или родственница. Зайчика и сержанта тоже, конечно, надо вывести на свободу, но это потом, позже. Они с Федором придумают, как это сделать. Федор вернется к ней, они свяжутся с партизанами, потому что он ни за что не будет сидеть сложа руки, и пойдут вместе в лес. Девушек, наверное, тоже принимают. Пусть только попробуют отказать. Идет война, и каждый, кто может держать оружие, должен бороться. А она не только может держать оружие, она еще и «ворошиловский стрелок», и если в отряде потребуют, она покажет значок и удостоверение к нему.
Нина вышла на перекресток дорог. Здесь главная улица Луполова поворачивала в сторону авторемонтного завода и дальше на Оршанское шоссе. Перекресток был на высотке, и пологое Луполово с его деревянными домишками, кое-где уцелевшими от пожара, просматривалось до самого Днепра. Но не эти домики привлекли внимание Нины. Весь огромный луг слева был огорожен колючей проволокой и заполнен людьми. Отсюда нельзя было различить отдельного человека – луг залило людское морс то ли серого, то ли зеленого, то ли грязно-белого цвета. Это море колыхалось, двигалось, создавая причудливые волны, и на гребнях этих волн Нина явственно видела белые пенистые барашки.








