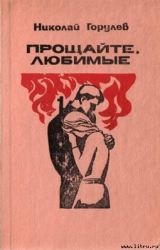
Текст книги "Прощайте, любимые"
Автор книги: Николай Горулев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
– Он умер? – не веря себе, не то воскликнул, не то спросил Иван, и услышал в ответ гневный голос Михаила:
– Это они так задумали, гады. Задушить и заморить нас голодом на колесах.
– Кто там умер? – крикнул Семенов.
– Капитан Феоктистов, – ответил Михаил.
– Добрый був мужик, – сказал Гречиха. – Знимитэ, хлопци, шапки...
– Может, крикнем конвой, пусть заберут умершего и по глотку воды дадут... – Этот голос Иван услышал впервые.
– Не смейте, – строго предупредил Михаил. – Они будут стрелять.
– Как стрелять? – возмутился тот же пленный. – За что? Мы только просим снять труп товарища и выдать по глотку воды.
– Вы слышали, что я сказал? – крикнул Михаил, но люди уже стучали в дверь и настойчиво требовали:
– Эй, вы, оглоеды, снимите нашего товарища и дайте воды... Васер, васер, васер!
Послышался скрип шагов, а потом автоматная очередь в дверь.
– Убили, сволочи. Петьку Злобина убили! – простонал кто-то у двери.
– Тихо вы! – громким шепотом прошипел Гречиха. – Щоб без Михала ничого такого не робылы. Вин лагерную жизнь добре знае и хвашистов тоже...
Чуть ли не весь день стояли на запасных путях или в тупике.
Царила такая тишина, что слышно было, как скрипел снег под ногами конвойных, которые прогуливались вдоль состава.
Иван стал ощущать голод. Он противно подкатывался под ложечку, вызывал тошноту. Сначала обильно выделялась слюна, которую Иван проглатывал с удовольствием.
Потом во рту пересохло, и к вечеру появилась жажда...
Подали паровоз, и вагоны, покатавшись взад и вперед по станции, снова закачались и загремели в пути.
За работу взялись еще злее. Первым приступил Иван. Он углублял выемку вокруг болта, стараясь не оглядываться на труп капитана Феоктистова, который по-прежнему стоял, зажатый между своими товарищами.
Ночью его сменил Михаил. Иван снова забывался коротким сном, но Виктории больше не видел. Падал в какую-то черную пропасть и ничего не помнил. Разве что боль, вызываемую судорожными глотками, жесткими и безводными.
Потом был еще день, который странно ворочался и. кружился у него перед глазами, потом еще ночь. А поезд уже не останавливался. Он неистово гремел, словно боялся опоздать к месту назначения, а сердце Ивана сжималось от тревоги, что они не успеют открыть эту проклятую дверь и пропадут в каком-то неизвестном лагере не то с немецким, не то с польским названием.
Он уже потерял счет времени и больше не оглядывался на капитана Феоктистова, потому что таких Феоктистовых в вагоне было уже много. Иногда ему казалось, что и он уже Феоктистов и голова его тоже безжизненно опускается на плечо. Он испуганно спохватывался и принимался за работу.
«Какой сегодня день? – думал Иван. – Может, воскресенье? Удалась ли ребятам эта операция с Милявским?». Сергей поначалу не придал значения ни крикам, ни выстрелам, которые слышал на путях. И прежде случалось, что охрана поездов открывала пальбу по подозрительному человеку, и прежде любой из гитлеровцев мог стрелять просто потому, что ему так хотелось. Но посланный за инструментом Иван не возвращался.
Сергей сам побывал в сарае путейцев, словно между прочим обошел окольные пути, но следов Ивана не обнаружил. Он постоял некоторое время у площадки пакгауза, наблюдая за погрузкой военнопленных, и ушел.
После работы он заглянул к Ивану домой. Увидев, что за Сергеем нет сына, мать сразу заволновалась:
– Что с ним? Сергей пожал плечами:
– Вы только не волнуйтесь... Я и сам не знаю. Ушел за инструментами и как в воду канул. Я кругом все обошел, был даже на вокзале. Знакомые говорят —день прошел спокойно, никаких происшествий не случилось.
Мать обессиленно опустилась на стул. В эту минуту она напомнила Сергею его маму, и горький комок невольно подкатил к горлу.
– Вы не беспокойтесь, – мягко сказал Сергей. – Он объявится. Обязательно объявится. Не такой Иван человек, чтобы зря пропадать. Может, дело какое срочное подвернулось и он не успел предупредить...
Сергей видел, что эти слова не утешили мать, но говорил, чтобы этим предположением успокоить и себя...
Операция началась без Ивана.
Субботним днём Вера пришла в городскую управу и нашла кабинет Милявского. Она постучалась и услышала знакомый баритон Ростислава Ивановича:
– Входите.
Вера вошла и остановилась. Кабинет был просторный, вдоль стен стояли полумягкие стулья для посетителей, посредине традиционный дубовый стол, покрытый зеленым сукном. За столом сидел Милявский, а возле стула сверкали его начищенные до блеска туфли.
Увидев Веру, он ловко надел туфли, словно домашние шлепанцы, и пошел ей навстречу.
– Вера? Боже мой, какими судьбами? Я уж и надежду потерял увидеть вас...
– Ах, Ростислав Иванович, – вздохнула Вера, – Я разве думала, что найду вас в этом кабинете?
– Я и сам, знаете... – запнулся на мгновение Милявский. – Я и сам не предполагал, что мне будет оказана четь...
Кто-то открыл дверь без стука, но, увидев в кабинете Веру, снова закрыл. Так повторилось несколько раз. Милявский начал проявлять беспокойство.
– Мне надо с вами поговорить, – догадалась Вера, – но я вижу, что здесь это неудобно. Давайте встретимся завтра в Театральном скверике.
Милявский подумал и тут же улыбнулся: – Великолепно! В какое время?
– Днем. Часа в два. Пообедаем у меня.
– Да, да, – обрадовался Милявский, – это будет великолепно, голубчик.
Кто-то снова открыл и закрыл дверь. Вера встала, подала Милявскому руку.
– Боже мой, – говорил Милявский, провожая ее до двери, – неужели я снова буду держать в своих ладонях эти необыкновенные пальчики?
– До свидания, – улыбнулась Вера. – До свидания, моя радость...
На углу ее ожидал Сергей. Увидев, что Вера открыла дверь на улицу, Сергей медленно пошел вперед, ожидая, когда Вера его догонит. Миновав Дом Советов, Вера взяла Сергея под руку:
– Знаешь, он охотно согласился. Даже не верится.
– А он не заметил, – спросил Сергей, – что ты слегка поправилась?
– Кажется, нет... К нему в кабинет, без всякого стука, заглядывали какие-то люди, и он почему-то беспокоился. Как бы нам не допустить ошибки.
– Что ты имеешь в виду?
– Как бы нам не ошибиться и это согласие не посчитать за легкомыслие.
– Операцию отменять не будем. Как условились, Эдик наблюдает за вами и за тем, чтобы он не привел хвостов. Я буду ждать в квартире Устина Адамовича... Может, ты усложняешь, и все обойдется...
Когда Вера пришла в Театральный скверик, она еще издали заметила Милявского, который гулял по боковой аллее.
Был холодный декабрьский день. Бесснежный, ветреный, он поднимал мелкую пыль, клочки бумаги и мусор и кружил всем этим добром в воздухе, ослепляя прохожих.
Вера поглубже спрятала руки в муфту, где в кармашке, рядом с пудреницей, покоился миниатюрный подарок Маши. Милявский шел медленно, поставив от ветра каракулевый воротник, пряча руки в карманах,
Вера поравнялась с ним, взяла под руку.
– Верочка? – повернулся Милявский. – Как я рад, вы даже не представляете себе, как я рад...
– Только бог против нас, – криво улыбнулась Вера. – Послал такую погоду.
– Дело не только в погоде, – заметил Милявский, – вы знаете, нам не придется сегодня с вами отобедать. Совсем неожиданно дела, связанные с выездом.
«Все, – подумала Вера. – Сорвалось. Сам догадался или кто предупредил, чтоб не ходил на подобные встречи?» Вера почувствовала, как сердце ее застучало чаще. Она вынула руку из муфты, поправила волосы, выбившиеся из-под шапочки, соображала, как поступить.
– Я не мог не прийти, – продолжал Милявский. – Слово, данное женщине, – свято.
– Ну что ж, – вздохнула Вера. – Такова моя судьба. Может, тогда просто пройдемся?
– С удовольствием, – обрадовался Милявский.
Они вышли мимо театра из скверика и пошли вниз по Виленской. Незаметно оглянувшись, Вера увидела, как вслед за ними на приличном расстоянии шел Эдик в демисезонном пальто с отцовского плеча и нахлобученной на уши кепке.
– У вас ко мне дело? – спросил Милявский.
– Я нуждаюсь в вашей помощи, – тихо произнесла Вера и чуть не заплакав оттого, что план их так просто и бездарно провалился. Наверное, с самого начала они все продумали не так, как надо было, понадеялись на старые знакомства.
Милявский услышал слезы в голосе Веры.
– Ну зачем же расстраиваться, голубчик... Я предупреждал, я знал, что все эти ребячества пройдут, как только город займут германские войска. Помните, как вы бегали с пистолетом в моем дворе? Не обижайтесь, но вспомнишь и становится смешно...
– А вы никогда не были ребенком? – Вера отвернулась, чтобы Милявский не заметил ее гневного взгляда.
– Ну, ладно, ладно... Какова же судьба вашего юного покровителя?
– Он погиб,
– Жаль. Такой талантливый мальчишка. Я хотел вместе с ним работать на одной кафедре.
– До войны?
– И до войны и теперь.
– Разве наш институт будет... – Вера искренне удивилась.
– Не педагогический, а медицинский. Дело в том, что в городе остались крупные научные кадры медработников. В управе возникла идея создать на базе бывшей областной больницы медицинский институт.
– Я видела медицинские кадры на виселице.
– Это не ученые, а солдаты, фанатики, не способные проявить свою лояльность к новой власти.
Вера замолчала. Она шла по своей привычной дороге вниз по Виленской, по мосту через Дубровенку, потом наверх, на холмы, где некогда стоял ее дом. Она еще не знала, что будет делать. Ненависть к Милявскому захлестнула все ее существо. Она помнила – там, наверху, были глухие, укромные переулки. Она повернулась, словно для того чтобы поправить съехавшую от ветра шапочку, и увидела – за ними неотступно шел Эдик. Значит, все будет как надо. Жаль только, Сережа переволнуется, ожидая ее и Милявского в квартире Устина Адамовича.
– Простите, куда мы идем? – спросил Милявский, и Вера почувствовала в его голосе беспокойство.
– Вы забыли этот переулок? – улыбнулась Вера. – Помните, вы меня проводили несколько раз домой вот по этому дощатому тротуару... Мне захотелось сегодня снова пройти с вами весь этот путь и вспомнить...
Они поднялись еще выше и вошли в аллею, густо поросшую молодыми тополями. Эти деревья сажала Вера с подружками еще в седьмом классе, а теперь они вытянулись и шумят голыми ветвями под холодным декабрьским ветром.
– Я помогу вам, – задумчиво сказал Милявский. – Больше того, возьму в свой отдел инспектором – у вас ведь законченное высшее образование. Только, пожалуйста, не проговоритесь, что вы некогда были связаны с этим комсомолом... – Ну что вы, – успокоила его Вера. – С прошлым покончено.
– Я вам так благодарен за сегодняшнюю прогулку, – улыбнулся Милявский, – и в этом смысле я не хотел, чтобы вы забывали прошлое, когда...
Вера остановилась. Место как будто подходящее. Здесь аллея уходила в сторону, а внизу желтел высокий обрыв и шумела непокорная Дубровенка.
Вера прислонилась спиной к стволу молодого тополя. Милявский взял ее руки и стал отогревать их своим дыханием.
Вера видела, как Эдик подошел совсем близко и стал за соседним деревом. Вера дала Эдику чуть заметный знак и оглянулась. Вокруг было безлюдно.
– Спасибо вам, Ростислав Иванович... – Вера положила руки на плечи Милявскому. Он обнял Веру и впился губами в ее шею.
Вера не сопротивлялась и ждала. Ей показалось, очень долго. Наконец почувствовала удар. Милявский ткнулся головой в ее плечо и обмяк.
– Помоги мне... – прошептал Эдик.
Они подтянули Милявского к обрыву и столкнули вниз. Эдик подхватил Веру под руку.
– Я тут каждую улочку знаю, – дрожащим голосом сказала Вера. – Идем сюда. А потом повернем на Виленскую, к Сергею.
– Ты успокойся, – прижимал ее руку Эдик. – Успокойся. Тебе теперь нельзя волноваться...
Эшелон долго стоял на какой-то небольшой станции. Иван слышал, как во сне, разговор конвоиров, которые ходили вдоль вагонов, сытые и веселые, и, прислонившись к стене, дремал в каком-то полузабытьи. День за днем, ночь за ночью... Сколько их было, этих изнурительных дней и ночей, Иван не помнил. В этом вагоне смертников никто не помнил. Никто не стучал в дверь, не просил пить и есть. Все знали – эти сытые и веселые ждут их смерти. От этого появлялось настойчивое непреодолимое желание жить. Оно поддерживалось надеждой на то, что им наконец удастся открыть эту заветную дверь.
Сегодня утром работа подошла к концу. Иван уже не чувствовал рук – ладони горели от лопнувших мозолей и ссадин. Оставалось только вытолкнуть болт с поржавевшими гайками, но эшелон стоял словно привязанный.
– Как бы они не надумались сами открыть дверь, – сказал про себя Михаил, и все живые еще насторожились. Они поняли, что пока эшелон не движется, может произойти самое страшное – каторжная, нечеловеческая работа их пропадет, как пропадают они в этой смрадной душегубке на колесах. Люди со страхом ловили каждый звук за дверью, не дышали, когда слышали приближающиеся голоса конвоиров.
В сумерках послышался паровозный гудок. Вагоны дернуло, колеса скрипнули на стыках.
– Михал, ну, що ты там?... – нетерпеливо сказал Гречиха.
– Погоди, дай хоть семафор миновать... – клапаном от Ивановой ушанки Михаил стал выталкивать болт.
– Ну?! – Иван прижался к Михаилу.
– Пошел, пошел, милый... вот так...
За стуком колес никто не услышал, как звякнул крючок, открыв ровное круглое отверстие. Михаил уперся в стенку руками, отодвинул соседей и посмотрел.
– Лес! – радостно объявил Михаил. – Кругом, как окинуть глазом, лес. Ну что ж, ребята, пришел наш черед. Не спешите, осторожно. Спасетесь – идите в деревни, ищите связи с партизанами. Ну, ни пуха ни пера! – Вдвоем с Иваном они сдвинули дверь с места, а потом из последних сил толкнули ее, и она распахнулась.
В вагон ударило ветром и запахом снега, свежего, белого, до боли в глазах. Почувствовав головокружение, Иван на минуту задержался, а потом прыгнул в эту ослепительную белизну.
Он долго катился по откосу. В рот набивался снег, а он ел, глотал его с жадностью, обжигая гортань.
Иван задержался у края большого рыхлого сугроба. Лежал на спине и смотрел в высокое звездное небо, а оно перемещалось, как живое, – то пряталось за лес, перенося на свое место деревья, то снова появляясь над головой, отодвигая лес на горизонт. Было так хорошо и спокойно лежать, вдыхая свежий аромат леса. Лежать впервые за много дней.
Стало холодно затылку. Иван протянул руку и обнаружил, что потерял шапку. Он сел, осмотрелся. Шапки рядом не было.
«Шут с ней, с шапкой», – подумал Иван и стал воспоминать, кто прыгнул первым – он или Михаил. Так или иначе, они должны быть недалеко друг от друга. Иван встал, хотел закричать, но сдержался – фашисты патрулируют дорогу и можно попасть впросак. Тем более что убежать от них у Ивана нет никаких сил.
Он поднялся. В голове зашумело. На какое-то мгновение перед глазами поплыл лес с насыпью, но вот снова все вернулось на место, и Иван пошел какими-то чужими, не своими ногами, которые плохо слушались его. А тут еще эта вырубка. Он увидел торчащие из-под снега толстые и тонкие пни. Он старался обходить их, но они, как назло, цеплялись за ноги, задерживая его. Иван злился на себя, на свои ноги, на эти цепкие пни,
Уже далеко в лесу он осмелился крикнуть:
– Михаи-и-ил!
Крикнул и не узнал своего голоса – такой он был слабый и хриплый. Конечно, никто не услышит его в этом большом и дремучем густолесье. Иван остановился, обнял сосну, с жадностью вдыхая смолистый запах, который он любил с детства. Вспомнилось, как, возвращаясь с грибниками, он набивал карманы длинными еловыми шишками, а дома, разламывая их пополам, наполнял комнату неповторимым лесным воздухом.
Он держался за сосну, и кора ее, шершавая, мшистая, была теплой. Иван прижался щекой к этой коре и заговорил с деревом, как с другом:
– Здравствуй... Видишь, все-таки нам удалось... А многие так и остались в вагоне... остались навсегда... ты понимаешь меня... а нам удалось...
Рядом он заметил небольшую пушистую ель. Он отломал лапку и начал жевать хвою. Она была колкой, упругой и горькой. Ломило челюсти, а он жевал и жевал, с жадностью проглатывая горькую слюну. Когда хвоя превратилась в мягкий податливый комок, он проглотил ее. От запаха леса, от приятной горечи во рту Ивану стало легче. Не так сильно кружилась голова, не подкашивались ноги. Но зато он стал ощущать холод. Мороз был, наверное, большой, потому что Иван слышал, как в лесу потрескивали деревья. Мерзли щеки, уши, нос, руки. Он поплотнее застегнул стеганку и начал растирать снегом уши и лицо. Тер, пока не почувствовал, что они начали гореть. Потом оторвался от сосны, у которой стоял, и пошел вглубь, чтобы найти какую-нибудь дорогу или тропу.
Он шел, спотыкался, падал. Во рту пересыхало. Он брал горсть снегу и долго держал его под языком, пока он не таял. Жажда на некоторое время проходила. Потом появлялась вновь. Иван пытался сдерживаться, не есть так много снега, но руки сами тянулись к белым хлопьям, что висели на ветвях.
Ночь была светлой, и если бы он натолкнулся на тропку или дорогу, не прошел бы мимо. Но ни тропки, ни дороги не было. Выбившись из сил, он снова прислонился к шершавому стволу встречного дерева и начал жевать хвою. Какая-то тяжесть навалилась на веки. Хотелось сесть, прижаться к дереву и уснуть. Но он знал – уснуть на морозе – значит погибнуть. Он оттолкнулся от дерева и пошел. Сейчас путь его был не таким прямым, как прежде. Он начал петлять по лесу, и случалось, что возвращался на то место, где был раньше.
Иван остановился и замер. Он прислушивался к ночи. Если недалеко жилье – залает собака или запоет петух. Но ночь стояла безмолвная, глухая, и Ивану стало страшно.
– Ого-го-го! – крикнул он, и от этого хриплого эха, раздавшегося рядом, по спине пробежали мурашки.
«Неужели после всего, что пережил в Могилеве и в этом проклятом вагоне с пленными, – подумал Иван, – придется так бездарно погибнуть». Он вспомнил маму, которая не знает, куда пропал ее сын, вспомнил друзей, вспомнил брата Виктора. Вот кто, наверное, ничего на свете не боится и находит выход из любого, самого трудного положения. При воспоминании о Викторе ему стало стыдно за свою слабость.
«Нет, я буду идти, – говорил себе Иван, – только вперед. Не может быть, чтоб железная дорога находилась бесконечно далеко от людей... Я буду идти только вперед...»
Он натолкнулся на просеку, прорубленную некогда лесниками. Это была ровная светлая полоса, уходящая к звездному горизонту. Иван пошел по ней, словно по дороге.
Он шел, стараясь беречь силы, а они, как назло, покидали его. Не хотелось ни снега, ни жеваной хвои. Отяжелели ноги, руки, голова. Все тело налилось свинцом.
– Не сдаваться! – шептал себе Иван. – Не сдаваться. Эх, ты, а еще мечтал о советской власти во всем мире. Да с такими хлюпиками, – ругал он себя, – мы не только ничего не добьемся, а растеряем то, что имеем. Не будет силы идти – ползи, но только не стой на месте...
Он зацепился за пенек, торчавший из-под снега, и упал. Лицом в снег. И он показался ему совсем не холодным. Только почему-то щипал лицо. Иван с трудом поднялся на четвереньки, потом встал на ноги и снова увидел над собой лес, а под собою небо. Он протер глаза – небо было над ним, лес – рядом. Шатаясь из стороны в сторону и шумно дыша, он снова поплелся по просеке.
И вдруг далеко впереди явственно услышал лай собаки. Этот лай прозвучал, как прекрасная бодрая песня, вернувшая его к жизни. Он зашагал увереннее, даже быстрее, хотя по-прежнему его, словно пьяного, водило из стороны в сторону.
Он еще раз упал и больно ударился коленом. Почувствовал, как ноют от холода пальцы правой ноги. Он сел, подтянул к себе ногу и увидел рваный ботинок без подошвы. Он пожалел, что не нашел у насыпи свою шапку, которая сейчас так бы ему пригодилась.
И снова он поднялся. И снова услышал лай собаки, которая словно звала его. Задыхаясь, он вышел на поляну и увидел впереди темные ряды хат, от которых тянулись к небу первые утренние дымы.
Сердце его забилось часто-часто, и ноги сами подкосились. Он опустился на колени прямо в снег и смотрел на эти хаты, на эти дымы, как на картинку из необыкновенной сказки. Потом он снова поднялся, и хаты передвинулись на небо, а дымы шли в землю. Он закрыл глаза, постоял немного, снова открыл глаза – голова перестала кружиться.
Идти не было сил. Теперь, когда он был у цели, каждый шаг давался ему с огромным трудом. Болело ушибленное колено, ныла нога, та самая, которая была совсем босой.
Он не помнил, как добрался до крайней хаты, постучал в дверь и упал. Он слышал, как звякнула щеколда, открылась дверь и грудной женский голос позвал:
– Данута, нехта на нашым ганку ляжыць... Вышла та, которую звали Данутой, и Иван почувствовал, как его потянули в сени, а потом в хату.
– Божухна мой, – простонала женщина с грудным голосом. – Што зрабили з чалавекам!
Иван открыл глаза. Увидел низкий закопченный потолок, такие же почерневшие балки, маленькие окна, иконы в углу, обрамленные белым кружевным полотенцем. «Свои», – обрадовался Иван и хотел было сесть.
– Что ты, что ты! – подскочила к нему Данута – крепкая невысокая девушка с длинными толстыми косами, которые упали Ивану на лицо. – Я сейчас снегу принесу... Ты же весь обмороженный... Я сейчас... – Она схватила ведро и, как была, в одной кофточке и юбке выбежала на улицу.
Иван лежал и молчал. Не было сил ни шевелиться, ни говорить.
Вернулась Данута.
– Вот сейчас мы тебя разотрем... – сказала она. – Как следует...
– А можа, ён не разумее па-нашаму? – спросила женщина с грудным голосом, наверное, мать Дануты.
– Ты кто? – глядя в глаза Ивану, спросила Данута. – Русский, поляк? Как тебя зовут?
Он слабо улыбнулся:
– Иван...
– Ну, раз Иван, значит, русский, – говорила Данута, а сама оттирала снегом уши и лицо Ивану, потом сняла ботинки, или то, что осталось от них, и принялась за ноги.
Иван застонал.
– Вот это хорошо, – обрадовалась Данута, – значит, уцелели твои ноги, Иван. Пленный? – спросила она, продолжая растирать его ступни.
Иван кивнул.
– Мама, заприте дверь на всякий случай, а то кто-нибудь надумает зайти...
– Ах, божухна мой, – заторопилась мать. – Што гэта на свеце робицца. Свае сваих баяцца.
– У своих длинные языки, – сказала Данута и вынесла ведро в сени. – Сейчас же донесут войту... Ну, – обратилась она к Ивану, – живой? – Живой, – снова слабо улыбнулся Иван и попытался сесть.
Данута помогла ему, поддерживая Ивана под мышки, и подтянула к печи. Он прислонился спиной и сидел прямо на полу, молча рассматривая хату. Длинная лавка вдоль окон, стол возле лавки, тоже длинный. Стены оклеены пожелтевшими от времени обоями, на которых уже нельзя различить рисунка.
– Мама, где-то у нас капля самогонки стоит... – попросила Данута.
– Ты не спрабуй хлопцу налиць. Ен можа, тыдзень не еу.
– Что ты, мама! – воскликнула Данута. – Я хочу еще его ноги натереть.
До боли горели уши, лицо, руки и ноги.
– Ты когда ел? —спросила Данута. Иван подумал и хрипло ответил:
– Не помню.
– Тады дай яму Tpoxi малака, скарынку хлеба, i даволи.
Иван двумя руками схватил алюминиевую кружку молока, хлебнул, поперхнулся и закашлялся так, что чуть не разлил молоко.
– Ты спокойно, не хватай так, – сказала Данута и поднесла ему кружку ко рту, как маленькому.
Иван пил небольшими глотками и смотрел в лицо Дануте. Круглое, подвижное, с быстрыми, чуть раскосыми глазами и припухлым ртом, оно казалось Ивану каким-то знакомым, своим, словно он где-то когда-то встречал это веселое лицо.
Он выпил молоко и только теперь почувствовал голод. Он почти вырвал хлеб, протянутый Данутой, и начал торопливо запихивать в рот.
– Э, да ты так и помереть можешь, – вздохнула Данута. – Ешь аккуратно, по кусочку, пережевывай как человек... Мама, где это твой старый платок? – Она завязала голову Ивана большим шерстяным платком, как повязывают детей, когда они выходят на мороз, натянула на его ноги мягкие валенки, достала с печи старый дырявый кожух.
– Ты куды яго апранаеш? —спросила мать.
– Не будет же он сидеть посреди хаты, как пан какой. Пусть лезет пока на горище. Там солома, сено. Ты поднимешься? – спросила она Ивана.
– Поднимусь. – Опираясь о печку, Иван встал и, поддерживаемый Данутой, вышел в сени. Оттуда невысокая лестница вела на чердак.
– Давай помогу...
– Я сам... – Иван, едва переставляя ноги, пополз по лестнице наверх. Толкнул головой небольшую дощатую дверцу и увидел, что через слуховое окошко на чердак падает солнечный свет, освещая соломенную крышу и сено в углу чердака. Когда он в последний раз видел. солнце? Кажется, в сентябре.
– Ну, чего остановился? – подтолкнула его Данута.
Иван перевалился с края лестницы на чердак и, не поднимаясь, дополз до охапки сена. Он не помнил, как Данута укрывала его, потому что сразу уснул тяжелым беспокойным сном. Ему мерещилось, что в темном непроходимом лесу его догоняли конвойные, а он, цепляясь за сучья и за пни, бежал и падал, бежал и падал... А потом, когда выбился из сил и хотел остановиться у сосны, увидел – на пути стоит капитан Феоктистов. Голова его упала набок, глаза смотрели испуганно и выжидающе. Иван бросился в сторону и почувствовал, что капитан Феоктистов не отстает—он слышит позади его тяжелое дыхание. Иван бросается в другую сторону и вдруг слышит, как Феоктистов говорит голосом Гречихи:
– Хто казав, що бога немае? А хто нам прислал этого парубка?
– Отпустите меня, отпустите домой, – просит Иван. Он падает в снег, а снег совсем не холодный, а мягкий и теплый, и Ивану не хочется вставать.
– Не трогайте его, пускай идет домой, – слышит он знакомый голос и видит у сосны заросшего Михаила. Он стоит и режет кору перочинным ножиком, который дал ему Иван. Иван благодарен ему за эти слова и не решается попросить нож, а тут из зарослей появляется мать Ивана. «Как она постарела, а я и не заметил», – думает Иван. Он встает и идет навстречу матери, а она обнимает его за голову, и ему хорошо и тепло на груди матери и почему-то хочется плакать.
Когда он проснулся, на чердаке было темно. Лишь слегка синело слуховое окошко. Через него Иван увидел звездное небо и понял, что проспал весь день. А может, два или три? Он попытался повернуться и не мог – каждое движение отдавалось болью, все тело горело, как в огне. Дышать было трудно. Иван отвернул шерстяной платок, которым укутала его Данута, но облегчения не почувствовал.
«Ничего, самое страшное позади», – подумал Иван. Он успокоился и задышал ровнее. Разгреб сено и широко раскинул руки. Правой коснулся чего-то гладкого и холодного. Это была поллитровая бутылка с молоком. Значит, он спал, а сюда приходила Данута. Он поднес горлышко ко рту и стал пить. Молоко не освежало. Он отставил бутылку и закрыл глаза.
Да, с ним уже было такое в могилевской больнице. Вот так же нестерпимо ныло тело, такими же свинцовыми казались веки. Он лежал, и картины прошлого, как кадры старой киноленты, мелькали перед ним, расплывались и исчезали.
Вот в палату входит фашистский офицер. Он подтянут, чисто выбрит, даже элегантен.
– Это кто? – спрашивает офицер па чистом русском языке, указывая на Ивана.
– Подобран на улице после бомбежки, – спокойно говорит Кузнецов, который стоит в дверях палаты.
– Я спрашиваю, кто он. Коммунист, комсомолец, беспартийный?
– Несоюзная молодежь.
– Как?
– Несоюзная молодежь, – повторяет Кузнецов. – Так называли у нас тех, кто не состоял в комсомоле.
Иван смотрит на офицера сквозь прищуренные веки, и злость закипает в нем. Он чувствует, как приливает к голове кровь, как руки под серым солдатским одеялом сжимаются в кулаки. Еще минута, и он плюнет в это холеное, чисто выбритое лицо. Но офицер уже подходит к следующей койке...
А вот сидит у его изголовья Эдик. Странный, совсем не похожий на того Эдика, которого привык видеть Иван. В халате сомнительной белизны, которым прикрывает он потертые на коленях брюки. Сидит и молчит, двигая густыми темными бровями. Рука его лежит на руке Ивана. Говорить открыто нельзя – в палате свидетели, – и Эдик тихонько пожимает руку Ивана. Она, словно телеграфный ключ, принимает сигналы друга, и все становится ясно – ребята на месте, ни с кем ничего не Случилось, он, Эдик, рядом и если потребуется – поможет. Иван растроган этим дружеским участием, и рука его благодарно пожимает руку Эдика.
Эдик не засиживается. Он молча встает и уходит, на мгновение останавливаясь в дверях, чтобы ободряюще подмигнуть Ивану...
Потом возникает перелесок у противотанкового рва. Иван чувствует теплое тело Виктории и запах ветра и солнца от ее волос, которые! мягко касаются его лица.
– Вам хорошо, Ваня? – спрашивает Виктория, а он еще крепче прижимается к ней, заколдованный этим запахом ветра и солнца, близостью, от которой так часто и сильно стучит сердце.
Иван хочет, чтоб на этом месте старая лента прошлого остановилась и он еще раз полюбовался бы своей Викторией, но она расплывается и рвется. Иван пытается крикнуть оскорбительные слова незнакомому киномеханику, но слова застревают в горле, а экран все темнеет и темнеет, пока не становится черным, как сажа. Иван падает в эту черноту и замирает...
Просыпается оттого, что кто-то толкает его в плечо. Он открывает глаза и видит Дануту, которая держит в руке недопитую бутылку молока.
– Так нельзя, Ваня, – с укором говорит Данута. – Так и умереть можно. Я ж оставила тут еще и кусочек хлеба.
Иван смотрит на Дануту и молчит. Она вскидывает голову, забрасывая за спину свои толстые косы, и ждет, что скажет Иван. А Ивану хорошо вот так лежать и молчать, рассматривая свою новую знакомую, такую заботливую и беспокойную.
– Прости, – пробует улыбнуться Иван. – Мне было здорово не по себе...
– Мы с мамой слышали, как ты кричал во сне, и боялись, что кто-нибудь услышит. Неделю назад за советских пленных сожгли соседнюю Ляховку. Дотла. Вместе с людьми.
– Я уйду, – тихо говорит Иван. – Если вы с мамой дадите мне вот эти валенки...
Данута смеется. У нее красивые ровные зубы белее снега.
– Чудак ты. Честное слово, чудак. Ты ж сейчас как дитя малое. – Она присматривается к Ивану и с неожиданной тревогой говорит: – Постой, постой, что-то щеки у тебя слишком красные. – Она касается мягкой прохладной ладонью щеки Ивана, потом кладет ее на лоб, – Ого, да у тебя жар, мой миленький...
– Пройдет, – успокоил Иван.
– Я знаю, – согласилась Данута, – но держать тебя здесь не могу. Я тебе в гумне вырыла такую нору, что ни один староста не найдет. Да и теплее в норе, вот посмотришь.
Иван почувствовал, что Данута боится его обидеть.
– Конечно, теплее, – согласился Иван. – Мы в детстве делали такие убежища.
– А ты сам откуда?
Иван назвал городишко у бывшей границы.
– Ты почти дома! – воскликнула Данута.
– Лет пятнадцать тому назад я уехал отсюда.
– А мы остались, – вздохнула Данута. – Мама рассказывает, что беженкой в империалистическую была она в Поволжье, вышла там замуж и вернулась с мужем сюда.








