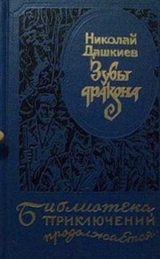
Текст книги "Зубы дракона. "Властелин мира""
Автор книги: Николай Дашкиев
Жанр:
Детективная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
Случайность кажется непредвиденным, неконтролируемым явлением только потому, что не удается учесть все до мельчайших обстоятельств, проанализировать и прошлое и настоящее.
Нет, не случайно попали в имение Сатиапала Чарли Бертон, Андрей Лаптев и, наконец, профессор Калинников.
Не к какому-то другому радже, а именно к Сатиапалу в один прекрасный день после дождя приехал седобородый солидный мужчина, назвал себя и, когда Сатиапал наморщил лоб, вспоминая, сказал:
– Господин Сатиапал, вы меня не знаете. Вернее, не помните. Я – тот, кто помог вам похоронить академика Федоровского на христианском кладбище Стамбула.
Сатиапал вздоргнул. Из всех случайных встреч, какие он мог представить, эта была самой неприятной.
Глава XIII
ЗАВЕЩАНИЕ АКАДЕМИКА ФЕДОРОВСКОГО
Кочегар товаро-пассажирского парохода «Императрица Мария» Михаил Калинников попал в тифозный барак Стамбула накануне нового тысяча девятьсот двадцать первого года. Служились неожиданное, досадное приключение, но, может быть, только благодаря ему, Михаил избежал и белогвардейской контрразведки, и турецкой полиции.
В те дни принадлежность кочегара Калинникова к составу служащих бывшей пароходной компании Дунаева была чисто формальной. Большевик Калинников в свое время получил приказ организовать восстание на захваченном белогвардейцами пароходе, успешно осуществил его и глубокой ночью повел "Императрицу Марию",– а вернее "Зарю революции",– курсом норд-ост-ост на Новороссийск, отколовшись от эскадры, уходившей на всех парах из Крыма.
Это был неплохой подарок для молодой Советской России: "Императрица" везла приличный запас золота и обмундирования. Кроме того, на ее борту находилось несколько десятков высших чинов белогвардейской армии и бесчисленное количество всяческой мрази в трюмах.
Операция проходила четко; офицеров и белогвардейскую охрану удалось обезоружить без шума, однако среди восставших нашелся предатель – телеграфист искровой радиостанции. Тайком от всех он передал сообщение о восстании на корабле, и уже через несколько часов "Императрицу Марию" догнала канонерская лодка. После короткого боя восстание подавили. Многих из восставших расстреляли на месте, а Калинникова и нескольких членов ревкома заковали в кандалы и привезли в Стамбул, чтобы повесить прилюдно.
Арестантам удалось бежать. Они оказались на чужбине, без средств существования, рискуя ежеминутно попасть в руки преследователей, хотя Турция кишела белоэмигрантами и, на первый взгляд, в пестрой толпе спрягаться было не трудно.
Где-то в ночлежке Калинников схватил сыпной тиф, долго сопротивлялся болезни, но тридцатого декабря потерял сознание прямо на улице и пришел в себя уже в большом сарае, полном стонов, смрада и паразитов.
Турки боролись с эпидемией весьма своеобразно. Каждого больного, не пытаясь даже установить диагноз, считали тифозным и немедленно сплавляли в изолятор, который походил скорее на морг, чем на больницу.
Тот, кто попадал туда здоровым, как правило, обязательно заболевал. Больные почти с такой же закономерностью умирали. А мертвые валялись рядом с полумертвыми до тех пор, пока кто-нибудь из выздоравливающих не вытаскивал трупы в огороженный колючей проволокой двор на растерзание хищным птицам.
Михаил Калинников выжил наперекор "турецкой медицине". Тиф для него стал не страшен; а так как деваться было некуда, он, едва поднявшись на ноги, начал наводить порядок в карантине.
Имея очень слабое представление о медицине, кочегар тем не менее повел себя, как опытный врач. Прежде всего он разыскал среди выздоравливающих медиков и с их помощью устроил изолятор, в изоляторе "рассортировал" больных по болезням и создал "похоронную команду". Смелый и настойчивый, он добился от турков разрешения проводить все необходимые дезинфекционные мероприятия, сумел добыть кое-какие медикаменты и в бараке смертников организовал настоящую больницу.
Турки начали поддерживать его: как-никак, этот русский избавлял их от лишних хлопот, а требовал немногого. Больные называли Калинникова "профессором". Он не возражал, понимая, что в медицине подчас играют роль не только профессиональные знания, а умение своевременно поддержать дух больного, его веру в выздоровление. Со своими "коллегами" Калинников обращался с уверенным превосходством, не вникая в ненужные разговоры, а это, как известно, нередко воспринимается за признак большого ума. Да и времени для научных бесед не хватало: приходилось бороться за жизнь больных, и теперь многочисленный персонал "больницы" делал все, что мог.
Густая черная борода и касторовый сюртук, снятый с какого-то умершего, делали двадцатипятилетнего кочегара, во-первых, вдвое старше, а кроме того придавали ему даже известную импозантность. Турки охотно наделили его званием "главного доктора" и правами на более или менее самостоятельные действия.
Однажды в изолятор привезли нового больного. Вопреки заведенному порядку, больной категорически отказался снять свою одежду и пожелал видеть главного врача. Калинникову пришлось пойти.
– Вот он, господин профессор! – указал санитар на седого старика в одежде, которая когда-то, очевидно, была алегантной, но теперь поражала своей ветхостью.
Больной лежал навзничь; его лицо пылало жаром, с уст срывалось хриплое дыхание. Услышав голос санитара, он вздрогнул и, стараясь подняться, прошептал:
– Господин профессор… Прошу… У меня совсем не тиф. Это – сердце, только сердце…
– Успокойтесь, мой дорогой! – движением, которое каждый назвал бы профессиональным, Калинников взял старика за руку, нащупывая пульс.
Старик, пожалуй, и в самом деле имел больное сердце – оно билось так, что даже мнимому профессору стало страшно. Но не оставалось сомнений и в том, что здесь налицо был сыпной тиф: грудь уже покрылась характерной сыпью.
– У вас тиф, мой дорогой… – печально сказал Калинников.
– Тиф? – вскрикнул старик. – Господин профессор, я не имею права умирать!.. Вы – русский, да?.. Мне очень, очень нужно видеть своих родственников…
Калинников развел руками.
– Нельзя? – упавшим голосом спросил больной. – Я академик Федоровский, может, слышали?
Кочегар Калинников об академике имел приблизительно такое же представление, как о марсианах. Но должность обязывала его утвердительно кивнуть головой:
– Это имя знает весь мир, господин академик!
– Нет, нет, я только скромный биолог. Но… Я буду чрезвычайно благодарен вам, если вы какими-нибудь образом вызовете сюда моего зятя. Его зовут Иван Андреевич Сатиапал. Не удивляйтесь, что у него такая странная фамилия. Это – очень хороший человек, приват-доцент Петербургского университета. Я сейчас вам дам его адрес. Они не знают, что я здесь. Меня схватили на улице… Да, да, совершенно неожиданно… Мне очень нужно его видеть… Весь мир голодает… постоянно голодает… А грубых кормов – сколько угодно! Белки!.. Видите вон там шевелится белковая молекула?! Вы думаете, это молекула белка мяса свиньи?.. Ни в коем случае! Для ее создания использовали крапиву!.. Ха-ха-ха – крапиву!
Санитар подошел к больному и накрыл его одеялом.
– Бредит. Вряд ли выживет.
– Несите его в мою комнату. Вызовите доктора Бортникова.
Даже он, кочегар, понимал, что перед ним лежит не обыкновенный больной, – не из тех, которые готовы падать на колени перед любой швалью, лишь бы удрать от ненавистной власти рабочих и крестьян.
Академик!.. Биолог!..
Михаил Каллинников не изучал биологии. Его учеба юридически оборвалась в тот день, когда он, подросток, пошел работать на табачную фабрику "Стамболи", а оттуда – на "Императрицу Марию". Но Михаил читал и "Капитал" и брошюры Ленина, а соседи по камере в Екатеринославской окружной тюрьме раскрыли молодому кочегару глаза на белый свет.
Калинников почувствовал необъяснимую симпатию к этому старику.
"Весь мир голодает!..", "Белки из крапивы"… Он бредит, но кто поручится, что не об этом мечтал академик всю жизнь?.. Правда, он сбежал из России… Но разве Калинников не видел таких, которые в отчаянии рвали на себе волосы, когда, охваченные всеобщей паникой, оказывались на палубе парохода, навсегда отходившего от родных берегов?
Он, Калинников, не будет сидеть здесь, в Турции. Сюртук и борода-до поры, до времени. А потом сбросит их прочь и подастся на родину – хоть вплавь. И если академик Федоровский выживет, он тоже должен вернуться в Россию. Молодой республике будут нужны академики!
А Федоровскому становилось все хуже и хуже. Консилиум установил, что надежд на спасение нет.
Собственно, тиф протекал в легкой форме. Но у академика было больное сердце, неспособное выдержать чрезмерное напряжение. Старик это знал и готовился к быстрому концу.
Он уже не говорил о чудесных белках, не упрашивал Калинникова устроить встречу с родными, а смотрел жалобным взглядом и молча шевелил запекшимися губами.
– Господин Федоровский,– сказал Калинников.– Напишите все, что вы хотите передать зятю. Возможно, я найду способ переслать записку.
Больной покачал головой:
– Нет, господин профессор… Зятя мне нужно видеть лично. И сейчас, пока я в сознании. Это не прихоть умирающего. Я должен рассказать ему одну тайну – тайну очень значительную… Осуществление моего замысла может дать пользу людям всей планеты… А я умираю в грязном карантине, и никто не хочет обратить внимания на мою мольбу.
– Давайте адрес! – решительно сказал Калинников. – Я пойду и приведу господина Сатиапала, хотя это может обойтись мне дорого.
Как "главный врач" Калинников пользовался некоторым доверием охранников карантина. Но они не могли выпустить ни единого человека за черту лагеря без специального разрешения саяитарного надзора. Пришлось воспользоваться проходом в проволочном заграждении – лазейкой, которую на всякий случай приготовил профессор-самозванец и которую пока не хотел рассекречивать.
Поздно ночью Калинников выскопьзнул из лагеря и глухими закоулками пробрался в Стамбул. Разыскать нужного человека ночью, в незнакомом городе, очень трудно, но академик так детально описал мершрут, что Калинникову не пришлось расспрашивать дорогу.
Он долго стучал в окошко небольшой глинобитной хижины на улице Бахрие в одном из самых бедных уголков города. В Стамбуле бесчинствовали грабители, поэтому ночных гостей опасались. Никто не отзывался на стук. Тогда Калинников шепнул, что он от академика Федоровского, и дверь перед ним открылась. Навстречу бросились мужчина и женщина и наперебой начали расспрашивать о судьбе старика.
Времени для разговоров не было, поэтому Калинников только передал записку академика и добавил:
– Спешите, господин Сатиапал. Ночь коротка. Не исключена возможность, что вам придется заночевать в тифозном бараке.
– Ничего, – ответил высокий стройный мужчина. – Тиф я уже перенес.
Он попрощался с женой, поцеловал в лоб малчика, разметавшегося на тряпье в углу комнаты, и сказал:
– Идемте!
Все обошлось без приключений. Перед рассветом Калинников и приват-доцент Сагиапал зашли в барак, где лежал больной академик.
Очевидно, только нечеловеческим напряжением воли он держал себя в таком состоянии, когда еще можно говорить и мыслить. Однако голос его угасал.
– Ты пришел, Иван? – зашептал он радостно.– А как Машенька? Как Андрюша?
– Все хорошо, папа! – Сатиапал сел на кровать и взял больного за руку. – Мы ждем только вас. Нам удалось выхлопотать визу на въезд в Индию.
– Нет, нет! – заволновался больной. – В Россию! Только в Россию! Дома лучше. Пусть там что-угодно!.. Но слушай: я уже туда не вернусь. Мне суждено умереть на чужбине, и мое самое большое желание – чтобы меня похоронили здесь не как пса, а как человека… Теперь слушайте вы, господин профессор!.. Идите сюда, ближе!.. Здесь нет нотариуса, нет духовника, я не успел составить завещание, да его и невозможно юридически оформить. Вы, господин профессор, как русский, как человек, которому я доверяю, будьте свидетелем… Все, что я имею, я завещаю моей стране, где я родился и которой обязан всем. Это очень дорогой подарок… – академик поспешно расстегнул рубашку и о силой дернул что-то из подмышки. Материя затрещала, и в руках больного оказался полотняный мешочек, похожий на сумки сельских школьников.
– Вскройте, господин профессор! – академик протянул мешочек Калинникову. – Здесь бумаги. Описание экспериментов. Формулы. Химические реакции. Но когда эти реакции будут осуществлены на мощных заводах, человечество избавится от самого страшного, что ему угрожает – голода!.. Сорок лет я работал над тем, чтобы научиться превращать в пищу такие продукты, которых не едят самые неприхотливые животные. Никто не знал об этих опытах, даже мой зять, господин Сатиапал. Я почти завершил исследования. Вот здесь, в ваших руках, мой научный труд. Он даст возможность каждому более или менее толковому биохимику разработать технологический процесс производства искусственного белка. К сожалению, мне не удалось создать такой вкусный белок, чтобы им могли питаться люди. Но животные едят его с удовольствием и откармливаются прекрасно… Вскройте, господин профессор, и посчитайте: здесь должно быть двести двенадцать страниц.
Калинников распорол шов мешочка и вытащил оттуда завернутую в прозрачную клеенку стопку сложенных вдвое листов папиросной бумаги.
Листая страницы, Калинников жадно схватывал глазами формулы, стремясь хотя бы по обрывкам фраз узнать, о чем идет речь. Но написанное было для него настоящей китайской грамотой. Он даже не мог сообразить, что к чему.
– Да, господин Федоровский, здесь двести двенадцать страниц.
– Прошу вас, передайте рукопись господину Сатиапалу. Исполнителем моей воли я назначаю своего зятя, приват-доцента Петербургского университета Ивана Андреевича Сатиапала. Ему поручается передать мое открытие законному правительству России не позже чем через три года. Все материальные выгоды, которые возникнут от реализации моего открытия, я завещаю моему зятю и моей дочери Марии Сатиапал. В случае, если прибыль превысит двадцать тысяч золотых рублей, я завещаю выплатить профессору Калинникову десять процентов от этой суммы. Bce!
Наступило молчание. Больной, потерявший остаток сил, лежал, опустив веки, и отрывисто дышал. Лишь после длительной паузы он прошептал:
– Иван, поклянись, что ты выполнишь мою последнюю волю!
Сатиапал, который все время молчал, хмуро уставившись в одну точку, поднял голову:
– Папа, а если в России победят большевики?
– Все равно… – тихо ответил старик. – Это – тоже люди. Я сын бывшего крепостного, родился и вырос в России. Я видел, как голодают люди. И я не могу лишить свою страну принадлежащего ей по праву. Поклянись, Иван, что ты отдашь мое открытие России!
– Клянусь! – глухо сказал Сатиапал.
– Теперь я спокоен. Оставьте меня, я усну.
Академик Федоровский прожил еще один день, а к вечеру седьмого мая его не стало.
Для Калинникова загробной жизни не существовало. Он твердо знал, что мертвому совершенно безразлично, где и как лежать. Но желание академика быть похороненным "по-человечески" стало для Михаила священным. Из уважения к старому ученому он решил, не взирая на опасность, вынести труп из карантина.
Дело чуть не окончилось трагически: охрана заметила его и Сатиапала и открыла стрельбу. Одна пуля угодила в мертвого академика, другая царапнула Калинникова по спине. Однако тьма дала возможность беглецам исчезнуть и благополучно добраться к домику на улице Бахрие.
На следующий день академика Федоровского похоронили.
А еще через два дня приват-доцент Сатиапал бежал из Стамбула, – бежал, не оставив даже записки, послав перед этим Михаила Калинникова договариваться с контрабандистами о переходе гурецко-русской границы.
Глава XIV
КРИСТАЛЛ САМОЗАБВЕНИЯ
– Итак, наследник прибыл получить свою часть наследства? – профессор Сатиапал сморщил нос и показал рукой на кресло.Садитесь, господин профессор! Должен вас огорчить: открытие академика Федоровского не реализовано; я не получил двадцати тысяч рублей золотом, а вложил в исследования все, что имел.
Андрей Лаптев удивленно поглядывал то на Калинникова, то на Сатиапала. Если он и допускал мысль о возможности знакомства этих людей, то во всяком случае не на почве раздела какого-то сомнительного наследства.
– Я не обижаюсь на шутки, господин Сатиапал! – спокойно ответил Калинников, садясь в кресло.– Должен добавить, что не интересуюсь прибылью с капитала. Я приехал к вам, как случайный душеприказчик завещателя и представитель настоящего наследника – Советского Союза.
– А если я отвечу, что рукопись академика Федоровского утеряна навсегда?
– Мне останется не поверить этому и, если профессор Сатиапал опубликует похищенные груды, огласить в прессе правду об их происхождении.
Сатиапал рассмеялся:
– Дорогой профессор, вы должны понять, что меня не страшат всякие оглашения в прессе! А вы, вижу, продолжаете свою политику шантажа! Удивляюсь, почему вы не назвались на этот раз академиком?
– А, вы о нашей "научной беседе"в Стамбуле?.. Да, я сделал большую ошибку. Между прочим, тогда звание профессора присвоили мне больные, которых я, кочегар, спасал не столько знаниями, сколько заботами. Могу добавить, что именно стамбульский карантин и помог мне избрать профессию. Но мы отклонились от темы, господин Сатиапал!
Сатиапал молчал, глядя поверх головы собеседника. Казалось, он решал, что ему делать, и никак не мог прийти к нужному выводу.
– Нет, господин профессор,– помедлив сказал он.– Вы приехали слишком рано. Ничего а вам не дам, пока не признаю возможным огласить результаты экспериментов на весь мир. Я не забыл условий моего тестя. Наш общий с ним научный труд действительно будет впервые опубликован в России. Но над ним нужно еще немало поработать. Вот так… Нам надо, очевидно, устранить еще одно недоразумение. Вы, конечно, считаете, что я обманул вас в Стамбуле. Возможно. Я вынужден был это сделать, увидев, что вы не тот, за кого себя выдаете.
– Хм-да…– хмыкнул Калинников.– Собственно, говорить больше не о чем.
Сатиапал вспыхнул, но сдержал резкий ответ, просившийся на язык.
– Вот, смотрите! – он рывком открыл ящик стола и вынул стопу книг с многочисленными закладками. Раскрыл одну из них.– Читайте! Страшная хронология голода в Индии… Начиная о 1396 года, голод длился более десятилетия и охватил всю южную Индию, где почти совсем не осталось населения. 1460, 1520, 1577 годы – голод. 1629-1630 годы – сильнейший из всех известных случаев голода, который охватил весь Декан. 1650, 1659, 1685 – голод. 1718, 1747, 1757, 1766, 1774, 1782 – голод. Наконец, 1791-1792 годы. Читайте! Сильнейший голод в стране. В области маратхов он поныне известен под названием "Даги Бара" – "голод черепов", из-за огромнейшего количества черепов, белевших на дорогах страны в те годы. О девятнадцатом столетии и нашем времени не следует даже говорить. Голод охватывает Индию каждые восемь-девять лет!.. А вот, читайте! – Сатиапал метнулся к шкафу, вынул оттуда и швырнул на стол пачку газет.– Последний голод тысяча девятьсот сорок третьего года. Читайте! "Первого сентября 1943 года люди начали умирать просто на улицах, их трупы тервали собаки и хищные птицы"… "В начале октября 1943 года маунд риса стоил сто пять рупий. А девочек "в возрасте от трех до двенадцати лет их родители продавали в дома терпимости по цене от 10 анна до двух рупий.." "В Калькутте на Корнуэлис-стрит в сентябре валялся труп мальчика, частично объеденный собаками"… Напомню, что Калькутта-второй по величине город Индии, а Корнуэлис-стрит – одна из главных улиц… Ну?.. Так неужели вы думаете, господин профессор, что я, индиец, могу равнодушно смотреть на страдания голодных?.. И кому нужнее прославленное открытие академика Федоровского – богатой России или бедной Индии?!
– Тому,– прервал его Калинников,– кто может быстрее претворить мечту в действительность. А ваша страна не бедная, нет! Просто ее грабят все, кому не лень.
Сатиапал собрал и затолкал в ящик книги и газеты.
– Прекратим разговоры на эту тему, – сказал он хмуро. Повторяю, что свой долг России выплачу. Хватит… Не желаете ли вы, господин профессор, отдохнуть? Нас с господином Лаптевым ждут текущие дела.
Калинников понял ничем не замаскированный намек на то, что аудиенцию следует считать законченной. Сатиапал даже не предложил ему познакомиться хотя бы с тем, что показывал Лаптеву.
– Нет, господин Сатиапал, – со спокойным достоинством ответил Калинников. – Я поеду домой. В свое время я мечтал о нашей встрече и представлял ее несколько иной. Командировку в Индию я воспринял с радостью, ибо знал, что вы здесь. Но… Что ж, извините!
Профессор поклонился и направился к выходу.
– Подождите, Михаил Петрович,– сказал Лаптев. – Я еду с вами.
Давно сдерживаемое желание прорвалось наружу. Он мало что понял из запутанной истории, происшедшей где-то и когда-то, но образ Сатиапала окончательно утратил для доцента черты таинственной привлекательности. Оставаться в этом мрачном дворце Андрей не мог.
– Господин Сатиапал, вы позволите мне перед отъездом осмотреть больную?
– Пожалуйста! – кивнул Сатиапал и, насупившись, вышел из комнаты. Через несколько минут к Лаптеву подошел слуга и передал, что рани Мария ждет русского врача.
Дорога в покои жены Сатиапала Андрею была знакома. Когда доцент вошел в комнату, он, как и в первый раз, прежде всего увидел Майю, сидевшую возле матери на кровати.
– Идите сюда, мой дорогой спаситель! – больная приподнялась на кровати, и Майя подложила ей под спину подушку.
– Здравствуйте, Мария Александровна! – весело поздоровался Лаптев. – Надеюсь, вы чувствуете себя хорошо?
– Почти. Но это, наверное, временное явление. Человек, потерявший любовь к жизни, вряд ли будет жить долго.
Следовало успокоить больную, рассказать ей какую-нибудь подходящую поучительную историю, но Андрей Лаптев чувствовал, что это лишнее. Действительно, что могло поддерживать эту женщину, которая, бесспорно, так никогда и не смогла найти свое место на чужбине?
– Я вам очень благодарна, господин Лаптев. Но я просила бы вас еще об одной услуге. Вы сегодня уезжаете, да? Так расскажите мне что-нибудь о России…
Андрей покачал головой. Что он мог рассказать.. Родное и близкое ему – для этой женщины было чужим и непонятным. Воспоминания только растравят душу ему самому, ибо чужбина остается чужбиной.
– Ну, хорошо, – тихо Оказала Мария Александровна. – Пусть в другой раз. Ведь вы будете к нам приезжать?
Уголком глаза, будто совсем нечаянно, Андрей взглянул на Майю. Девушка хмурилась, ожидая ответа.
– Да, буду приезжать. Если будет время и представится случай.
– Приезжайте. А чтобы вы не забыли нас, я подарю вам вещь с очень несоответствующим, по правде говоря, названием "камень самозабвенья".
Майя взяла со столика небольшую лакированную коробочку и передала матери. Та открыла крышку, и перед Лаптевым на черной бархатной подушечке блеснул большой голубой, тщательно отшлифованный кристалл в форме граненого плоского диска.
– Это не драгоценность. Ювелиры вряд ли оплатили бы стоимость обработки кристалла. Но он – одна из ценнейших вещей рода Сатиапалов. Каждая мать передает кристалл жене своего старшего сына в день их свадьбы. Подарок нельзя назвать счастливым: если муж разлюбил жену, ей остается смотреть в этот кристалл и вспоминать прошлое. Отсюда и его название. Следует признать, что камень частично помогает человеку забыть свое горе. Я знаю: самогипноз, ничего сверхестественного. Но я когда-то годами смотрела на переливающуюся синеву его граней и видела потерянное безвозвратно… Камень по праву принадлежал Андрею, моему сыну,– вернее, его будущей жене. Теперь я дарю его вам.
Андрей не знал, как отнестись к подарку. Мария Александровна заметила колебание и положила футлярчик с кристаллом ему на ладонь:
– Берите! Род Сатиапалов погиб вместе с моим сыном. Мне будет очень досадно, что я ничем не отблагодарила вас за беспокойство… Майя, пойди, пожалуйста, и закажи для нас с господином Лаптевым какао…
Андрей понял, что рани Мария хочет сказать ему что-то наедине. Поняла и Майя, и сразу вышла.
– Господин Лаптев, – прошептала больная. – Мне осталось жить недолго, я это знаю. Смерть не пугает. Но меня беспокоит моя дочь… Что она здесь будет делать?.. Уговорите ее поехать в Россию. Ей там будет лучше… Обещаете, господин Лаптев?
– Обещаю,– сказал Андрей. В конце концов, ничего другого ответить он не мог.– А сейчас, Мария Александровна, я должен ехать. Меня ждут.
– Счастливо! – сказала больная.
В коридоре Андрей встретил Майю. Она печально смотрела в окно, и, услышав шаги, резко обернулась.
– Вы закончили "тет-а-тет"? – спросила она с вызовом. Наверное, мама опять заботилась о моей судьбе… Все заботятся обо мне, словно я младенец, и все стараются лишить меня права хотя бы на одно самостоятельное движение…
– Прощайте, Майя! – Андрей подошел к ней и взял за обе руки.– Желаю вам счастья! Я долго буду помнить вас.
– Спасибо… – девушка сникла и тепло добавила: – Я тоже не забуду вас. Вы совсем не похожи на тех, кого мне. приходилось видеть. Мне кажется, что. именно такими сильными и непонятными и должны быть русские… А я…
Майя замолчала и нахмурила лоб.
– Вы знаете, что обозначает мое имя?.. "Майя", как говорят священные книги брахманизма, это мираж, воспринимаемый за действительность, фата-моргана, которая рассеивается, не оставляя и следа… Очевидно, мои родители невольно дали мне меткое имя… А я так хотела сделать чтонибудь очень хорошее, очень красивое,– такое, что удивило, бы весь мир! Мне казалось иногда, что за плечами есть могучие крылья, и достаточно их расправить, чтобы взлететь за облака… Не смейтесь надо мной. Я говорю лишь потому, что вы не похожи на других и, надеюсь, хоть немного поймете меня.. Мне здесь очень, очень тяжело… Вы явились, как посланец другого, чужого и привлекательного мира, разбудили во мне дух беспокойства и противоречий. Вы уедете, а у меня еще долго будет тосковать сердце о невиданном и неузнанном… Господин Лаптев, обещайте мне, что вы приедете еще хоть раз, когда я приглашу вас. Может быть, это будет обременительно для вас, но пообещайте…
Она смотрела в глаза Андрея тоскливым взглядом, словно ожидая холодных и злых слов осуждения. Ее пальцы дрожали, и эта нервная дрожь передавалась Лаптеву, заставляла мышцы напрягаться, а сердце учащенно биться.
– Не смотрите так на меня! – сказал он почти грубо. – Я не выдержу!
Девушка в первый момент не поняла, а потом глаза Андрея сказали ей все.
– Нет, нет!.. – она развела руки, чтобы освободить их, и в этот миг коснулась волосами щеки Андрея.
Не в силах сдержать порыва, он схватил девушку за плечи, поцеловал и, не оглядываясь, пошел, почти побежал.
Майя стояла, словно пораженная молнией,– сердце отплясывало бешеный танец, голова кружилась.
Девушка не знала, что с нею происходит. Если бы ее спросили: пришла ли к ней любовь? – она бы яростно запротестовала. Ей казалось, что поцелуя не было,– просто померещилось. Она не сердилась и не радовалась а только удивлялась странному безволию и тоскливому беспокойству, властно охватившим ее и не исчезавшим.
Лаптев тоже не мог прийти в себя. Все получилось очень неожиданно и оставило чувство горечи и недовольства самим собой. Он не поддержал девушку теплым словом, а повел себя как парень-ветрогон…
Андрей осуждал себя, но чувствовал: повторись встреча вновь – он вновь потеряет самообладание. Майя стала понятной и близкой ему именно в те минуты, когда начала раскрывать свою душу, сильные порывы скованного в желаниях человека.
О, если бы она не была дочерью Сатиапала и жила бы не в Индии, а в Советском Союзе! Тогда каждая встреча с ней стала бы праздником. И не только по ее вызову, а ежедневно он приходил бы к ней, не обращая внимания на время и расстояние!
Глупая фантазия!.. Нужно ехать отсюда, ехать навсегда, забыть имение раджи и златокосую девушку с бархатночерными глазами; она промелькнула чудесным миражем и, как мираж, исчезнет.
Калинникова и Лаптева провожал сам Сатиапал. Он имел вид сердечного, гостеприимного хозяина, сожалеющего о том, "что гости уезжают преждевременно, но в глазах у него сменялась целая гамма чувств,– от оскорбления и злости до искреннего сожаления.
– Так приезжайте, приезжайте еще! Возможно, я через месяц-два продемонстрирую вам новые опыты и дам новый трепан, который мне вскоре изготовят…
Сатиапал умышленно избегал прямого обращения: говорил он для Лаптева, полностью игнорируя Калинникова. Андрею это было неприятно, и он отмалчивался, или отвечал односложно.
Когда гости сели в машину, за ворота вышла Майя, ведя на цепочке коричневого пса.
– Господин Лаптев, я хотела подарить вам Самума. Он ваш по праву.
– Благодарю, Майя! – Андрей выпрыгнул из машины в погладил собаку. – Благодарю. Позвольте забрать его немного позже. Я сейчас не смогу уделить Самуму должного внимания.
– Хорошо, Андрей Иванович! – обрадовалась девушка.– Можете забрать его когда угодно.
Имение осталось далеко позади. Андрей оглянулся. Освещенная лучами предзакатного солнца, на шоссе стояла девушка с собакой.
– Майя… – прошептал Лаптев.– Мираж, который сейчас исчезнет и развеется навсегда!
Перед поворотом он оглянулся еще раз и увидел, что к девушке подходит какой-то мужчина. Расстояние не позволяло различить черты лица, но Андрей был убежден, что это Чарли Бертон.
А поздно вечером Лаптев вспомнил о подарке рани Марии.
Он раскрыл футляр, вынул и положил на ладонь голубоватый кристалл горного хрусталя.
Неяркий свет аккумуляторной лампочки играл на блестящих гранях кристалла, причудливо переливался в его глубине.
"Кристалл самозабвенья!" вспомнилось Андрею.
Он посмотрел в глубь кристалла внимательнее. Ему показалось, что там, за голубыми гранями, возникает нечто живое.
Неуловимый плод фантазии, необъяснимая игра света! Легкое дрожание руки передавалось куску хрусталя, видение менялось, обретало прихотливые, причудливые формы.
Андрей знал, что можно загипнотизировать самого себя, если долго и пристально смотреть в полутьме на блестящий предмет. Нечто подобное он чувствовал и теперь. Тускнели и расплывались окружающие предметы, палатка тонула в глубокой мгле, голубой кристалл наполнялся чистым прозрачным сиянием, а на его фоне черной камеи – появился силуэт Майи, – рельефный, близкий и дорогой.
Андрей вздрогнул, видение исчезло.
На руке лежал обыкновенный, старательно отшлифованный кусок голубоватого горного хрусталя.






