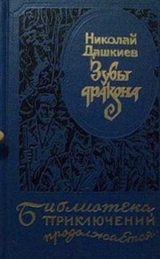
Текст книги "Зубы дракона. "Властелин мира""
Автор книги: Николай Дашкиев
Жанр:
Детективная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
Бинты глушили истеричный крик Бертона, домик стоял далеко от дворца, поэтому Хинчинбрук спокойно уселся на стул и скрестил руки на груди.
– Итак – слушаю… Интересный номер сегодняшней программы. Можно громче – крик для малышей полезен. Развиваются легкие. Ну?
Чарли замолчал. Против насмешек не выстоят ни ругань, ни проклятия. На них можно ответить либо ударом ножа, либо презрительным молчанием. Хинчинбрук остается господином положения; он может сделать что угодно, и у больного не хватит сил сопротивляться.
– Ну?
– Я убъю тебя, Майкл! – горячо выдохнул Бертон, отворачиваясь к стене.
– Не стоит угрожать, дитятко!.. К тому же, имея один единственный глаз… Знаешь, очень легко ослепнуть совсем… А кому нужен слепой шпион?
Хинчинбрук придвинулся ближе и взял Бертона за руку.
– Повернись сюда!.. запомни: твои упреки напрасны. Я не виноват, что ты потерял глаз. Наоборот, ты должен благодарить меня, что не потерял жизнь… Вспомни, как все было: вечером мы легли отдыхать. До имения Сатиапала оставалось около двадцати километров. Мы чувствовали себя в полной безопасности. В двенадцать ночи ты разбудил меня…
– Оставь! – с отчаянием простонал Бертон. Он едва сдерживал себя, слушая бессовестное вранье, которому 'не могло быть ни малейшего оправдания.
– Да, да! – спокойно продолжал Хинчинбрук. – Помнишь – ты полез в мою сумку?.. Ты надеялся найти что-нибудь съестное, мой дорогой, а получил такой пинок в живот, что мяукнул, как котенок… Ну, теперь помнишь? Или, может быть, у тебя совсем отшибло память?
Чарли мог присягнуть, что с ним не случилось ничего подобного. Он хорошо помнил, как обессиленный упал в тени на краю поляны, а проснулся здесь, – от нестерпимой боли. Несомненно, все это время он находился без сознания, и был не способен ни на одно осмысленное движение… Но Хинчинбрук рассказывает так убедительно, вспоминает такие выразительные детали, что невольно начинаешь верить в правдивость его рассказа.
…Они вышли на шоссе. Часа два двигались без всяких приключений. Сели отдохнуть у речки. Задремали, склонясь один к другому. Вдруг из-за поворота выскочила автомашина. Прозвучала пулеметная очередь. Хинчинбрук и Бертон бросились наутек. Ослепленный лучами фар, Чарли наткнулся на сучок и выбил себе глаз. Хинчинбрук, пострадавший гораздо меньше, дотянул своего друга до имения Сатиапала. Вот и все.
Чарли слушал россказни и представлял покрытое мягкой пылью шоссе, полуразрушенный мост; у него в ушах звучали выстрелы, и даже слышался сухой отвратительный звук, с которым ветка дерева вонзилась в живое тело…
Такова сила человеческого слова: навеянное, навязанное чужой волей порой становится более реальным, чем действительность. Чарли Бертон постепенно убеждался, что потерял глаз не по злому умыслу Хинчинбрука, а из-за собственной неосторожности. Еще немного – и он поверил бы полностью. Но словоохотливый Хинчинбрук переборщил:
– Не печалься, мальчик! Я узнал, что раджа Сатиапал умеет вставлять людям новые глаза. Нужно только…
Бертон навострил уши:
– Когда ты узнал об этом?
– А, не все ли равно! – шутливо махнул рукой Хинчинбрук. – У таких, как мы, не спрашивают "когда" и "где".
– Нет, ты все-таки скажи, – настаивал Бертон. Хинчинбрук понял, что сболтнул лишнее. Не следовало вспоминать про Сатиапала. Нельзя признаваться, что о некоторых экспериментах ученого раджи известно давно: Бертон сразу сообразит все.
– Дитятко! Имеющий уши – да слушает! Я узнал об этом пять часов назад.
– Пять часов назад? – переспросил Бертон. – Ну хорошо… Хорошо…
Хинчинбрук искоса посмотрел на него. Не нравился старику этот тон!.. Пусть лучше орет, ругается, – разгневанный человек непременно выскажет все, о чем следовало бы молчать. А скрытые мысли, накапливаясь, приводят иногда к безрассудным поступкам.
– Как же тебя лечит господин Сатиапал? – равнодушно спросил Хинчинбрук, прерывая неприятную паузу.
– Никак не лечит, – сухо усмехнулся Бертон.– Кормит "пищей богов" и только.
– "Пищей богов"?
– Да… Если хочешь – попробуй. Вон на тарелке осталось.
В сером мареве хмурого рассвета уже проступали и углы комнаты, куда раньше не доходили несмелые лучи ночника. Вырисовывалась нехитрая обстановка: обычная железная кровать, тумбочка, похожая на больничную, небольшой шкаф, стол. На тумбочке стояла тарелка с серо-зеленой массой.
Хинчинбрук понюхал. Пахло кислым. Он зачерпнул ложкой немного смеси, лизнул языком: невкусно. Запах и вкус силоса слишком своеобразны, не похожи ни на что.
– Гм… гм… – Хинчинбрук попробовал еще. – А из чего же делают эту "пищу богов"?
Бертон не ответил. Он спал или делал вид, что спит.
Глава V
«КАК ЖЕЛТЫЙ ЛИСТ, ГОНИМЫЙ ВЕТРОМ…»
Пятый день над Бенгалией льют дожди. И не обычные дожди, а никогда не виданный европейцами ливень. Изредка выглянет солнце, пригреет, все вокруг окутается паром, тяжелые тучи пополнят свой запас влаги, и вновь над страной опускается сплошная завеса дождя. Небо Индии, как щедрый гуляка, разбазаривает все, что имеет, не беспокоясь о будущем. Осенью и зимой растения задыхаются без воды, жалобно .роняют желтые листья на покрытую пылью землю, и природа не приходит к ним на помощь. Зато сейчас она пирует, справляет буйную оргию, щедро проливая драгоценную влагу: пей вдоволь: …И растения пьют-упиваются, стоят по пояс в воде, задумчивые и тихие, плачут крупными дождевыми каплями и тянутся, тянутся своими побегами вверх, словно хотят заглянуть, а что же происходит там, за тучами.
В период "варша" – летних дождей, когда растения роскошествуют, животные и люди изнемогают от тяжелой, густой и липкой духоты.
От зноя можно спастись в тени, от дождя – спрятаться в комнате. Но куда уйдешь из бани, в которую превращаются тропики в июле месяце? Горячий пар пробирается в малейшие щелочки, пропитывает все вокруг, ест ржавчиной железо, забивает легкие, не давая свободно вдохнуть. Хочется забыть про все, заснуть, потерять сознание, скрыться куда угодно только бы вздохнуть полной грудью, почувствовать в легких свежий живительный воздух.
Так чувствует себя Андрей Лаптев. Он согласен терпеть лютые сибирские морозы, лишь бы не вариться живьем в тропиках. Благословенная Индия стала для него горше горькой редьки.
Да и во имя чего он должен сидеть здесь, в имении привередливого раджи с профессорским дипломом? Эх, закатать бы штанины и, как в детстве, махнуть напрямик через лужи к скромным палаткам – маленькому клочку Родины на чужбине.
Но – приказ. Неожиданный, странный. Андрей сначала не поверил, что начальник экспедиции предлагает ему остаться у Сатиапала недельки на две, чтобы перенять опыт индийских хирургов. Правда, профессор Калинников высказал это в форме пожелания, дружеского совета, но Андрей Лаптев прекрасно знал старика и безошибочно понимал не только слова, но и тон, каким они произносились.
– Не спрашивайте у меня ничего,– добавил профессор в конце разговора.– И знайте: раджа Сатиапал учился там, где начинали учиться вы.
Лаптев попрощался с Калинниковым и задумчиво повесил трубку на крюк старомодного, "сельсоветовского", как он назвал про себя, аппарата. Его поразило услышанное. Значит, Сатиапал учился в Ленинградском государственном университете. Ведь именно оттуда, с третьего курса биологического факультета, двадцатилетний Андрей Лаптев перешел в военно-медицинскую академию. Но когда и как попал в Россию индийский раджа? И почему он скрывал знание русского языка?
– Убедились, дружище? – Сатиапал, из вежливости оставивший Лаптева для телефонной беседы наедине, вновь зашел в комнату. – Скрывать не буду: я попросил господина Калинникова разрешить вам практиковаться у меня. Не сердитесь?
– Нет. – Лаптев с тоской глянул на мутные ручейки дождя за окном и подумал: "Такая практика вряд ли что-нибудь даст". Трудно будет сработаться с упрямым и самолюбивым профессором. Да, Сатиапал – выдающийся ХИРУРГ. У него есть чему поучиться. Однако сама постановка вопроса оскорбляла доцента: похоже, что ученый раджа свысока протягивает ему подарок, заранее ожидая почтительной благодарности.
– Нет, господин Сатыапал, не сержусь. Но чем обязан? Почему вам пришла мысль выбрать учеником именно русского, да еще и большевика, к которым, как мне кажется, вы не испытываете особо пылкой любви?
– Напрасно иронизируете, господин доцент! – насмешливо покачал головой Сатиапал.– Вы, вероятно, забыли русскую пословицу: "Дают – бери, а бьют – беги".
– Помню – возразил Лаптев.– Этой премудрости учил меня мой дед. Лично я придерживаюсь другого правила: не надеяться на милостыню, а на удары отвечать так, чтобы бежал другой.
– Ну, хорошо, хорошо! – засмеялся Сатиапал.– Вы, вижу, агрессор. Но и я зубастый. Вы мне нравитесь. Как хирург, преимущественно. Этого достаточно.
Профессор ушел и больше не появлялся. Через слугу он передал: господин Лаптев может пользоваться его библиотекой, проводить эксперименты на животных в малом операционном зале и вообще делать все, что вздумается. Он, Сатиапал, заканчивает книгу по вопросам хирургии, поэтому п ближайшие три-четыре дня не сможет уделить гостю достаточного внимания.
Возможно, в другое время доцента Лаптева обрадовала бы перспектива ознакомиться чуть ли не с богатейшей в мире коллекцией старинных медицинских книг. Гиппократ и Дживака, Гален и Авиценна, врачи древнего Китая, Египта, Вавилона,– выдающиеся деятели многовекового расцвета человеческой культуры,– представлены в библиотеке Сатиапала массивными фолиантами. Однако, если легким не хватает воздуха, мозг отказывается работать. Торжественная велеречивость латыни укачивала Андрея Лаптева. Он засыпал над книгой, а просыпаясь, нудился и тосковал, ощущая тупую боль в висках, и чем дальше, тем большее желание удрать отсюда. Жизнелюбивый и энергичный, он знал: настоящая жизнь – это борьба, беспрерывное движение вперед, а не топтание на месте. Бездеятельность угнетала.
А безлюдье?.. Лаптев проходил полутемными покоями дворца, поглядывал на облупленные стены, на ветхую мебель и думал: какое несчастье родиться и жить здесь, где прошлое нависло над современным, давит, не дает человеку выпрямиться в полный рост.
Как-то вечером он встретил дочь Сатиапала. Она шла унылая и скорбная, похожая в своем черном "сари" на монашенку.
– Майя…– тихо позвал Лаптев.– Больной плохо? Девушка вздрогнула, но узнав в сумерках Лаптева, с облегчением вздохнула:
– Нет, господин доцент. Мама чувствует себя хорошо. Она хотела позвать и поблагодарить вас за все, но отец не позволил. Ей нужен полный покой.
– Так почему же вы печальны, Майя?
– Не знаю, господин доцент. Мне всегда тоскливо в первые дни Азарха. На меня плохо действует духота.
– На меня тоже.
Вот уже и не о чем говорить. Андрей обратился к девушке, лишь бы найти какую-то разрядку своей тоске, но поддержать разговора не сумел. Он вообще не из разговорчивых, а сейчас, перед непонятной и чужой ему дочерью индийского раджи, совсем утратил способность поддерживать светскую болтовню. Молчание становилось тягостным. Чтобы как-то нарушить его, Андрей спросил первое, что пришло на ум:
– Сколько вам лет, Майя?
– Я уже старая, – задумчиво ответила девушка. – Мне двадцать второй. Для Индии – очень много.
– А для России – совсем мало. Я намного старше, а считаю себя молодым.
– Вы – мужчина, – кратко сказала девушка. Видно было, что этот разговор ей не нравится. – Простите, господин доцент, я должна идти.
Она ушла, а Лаптев, задумавшись, долго стоял у окна. В ушах звучал Майин голос, перед глазами виднелся четкий профиль девушки – классический барельеф из черного камня на сером фоне окна. Ненужным и болезненным воспоминанием выплывало обрамленное веселой копной каштановых кудрей лицо другой – которая должна была стать Андрею женой, но изменила, не дождавшись его возвращения с войны. Между двумя женщинами нет ничего общего, однако Андрей невольно вспоминал и сопоставлял обеих – ту, которую хотел забыть навсегда, и эту, которую не знал и не стремился узнать. Он сердился, гнал прочь надоедливые Мысли, но ничего не мог поделать с собой.
Прошло пять дней. На шестой день утром слуга пригласил Андрея Лаптева в операционную.
Кроме знакомой хирургической сестры и Сатнапала доцент увидел здесь Майю, одетую, как и отец, в белый халат. Она поздоровалась с Андреем и снова склонилась над какимто прибором.
– Добрый день, – кивнул профессор. – Сегодня вы будете приживлять глаз человеку.
Лаптев ответил молчаливым жестом согласия. Он решил ничему не удивляться. Да, конечно, ему не приходилось делать таких операций. Вообще, немногие хирурги мира брались приживлять глаз – один из сложнейших органов человеческого тела,и то лишь как живой протез. Но если Сатиапал берется – значит, это дело возможное.
– Я буду ассистировать?
– Нет, вы будете оперировать! – многозначительно подчеркивая последние слова, ответил профессор.– Знакомьтесь с инструментами. Слева – для сшивания нервов. Этот, уже известный вам, для кровеносных сосудов.
Сшивание нервов и сосудов – самое сложное в операции. Удалить какой-то орган и пришить вместо него новый, в конце концов, не очень трудно. Успех операции зависит от того, насколько совершенно будет восстановлена связь оперируемой части тела с мозгом и снабжение ее кровью.
Аппараты Сатиапала безупречны. Впервые за время пребывания в имении доцент Лаптев позавидовал профессору: с такими приспособлениями, действительно, можно творить чудеса.
– Изучили? – спросил Сатиапал.
Лаптев пожал плечами: изучить новую аппаратуру – это не значит поверхностно оглядеть ее и понять принцип действия. Нужна многочасовая практика, навыки в обращении с инструментом.
– Признаю, – сказал Сатиапал, – конструкция очень неуклюжая; ее нужно усовершенствовать, чтобы сложнейшую операцию мог провести любой хирург. Не беспокойтесь: я буду вам помогать. Готовьтесь.
Пятнадцать минут моет руки хирург перед операцией. Щетки, мыло, дезинфицирующие вещества призваны удалить из пор кожи мельчайшие частички грязи и абсолютно всех микробов. Для молодых хирургов – это время священнодействия, нечто схожее с омовением рук жрецом перед ритуальным обрядом. Но за четыре года войны доцент Лаптев повторил эту процедуру столько раз, что его движения стали машинальными.
Ловко орудуя щеткой, он заинтересованно поглядывал на Майю. Неужели это она скорбной тенью двигалась по сумеречным комнатам дворца,– какая-то по-особому безжизненная, непонятная и далекая. Сейчас на спрятанном за марлевой маской лице бархатно-черные глаза стали решительными и сосредоточенными. Снова Андрей Лаптев вспомнил Зою: точно такое выражение появлялось в глазах его бывшей невесты, когда она сердилась или решала свои хитроумные задачи по математической физике. Он досадливо отмахнулся от этого воспоминания.
– Папа, – сказала девушка, – я принесу препарат.
– Не нужно, – отозвался Сатнапал. – Я уже приготовил.
– Я знаю, папа, но… у больного были серые глаза.
– А теперь будет один глаз серый, а другой – черный. Англичанину полезно убедиться, что глаз индийского нищего, погибшего от голода, может видеть не хуже, чем чистокровный английский.
– Бертон не из таких, папа!.. К тому же он молод, а разноцветные глаза – это очень некрасиво…
В голосе девушки звучали странные интонации – выдававшие гораздо большее, чем обычную заботу врача о своем пациенте.
"Влюблена! – сразу же догадался Лаптев.– Бертон… Англичанин. Молодой…"
Не все ли равно Андрею, в кого влюблена дочь индийского раджи? Но почему так неприятно сжалось сердце?..
"Англичанин… Один из тех, кто угнетает Индию на протяжении двухсот лет… Почему бы ей не избрать молодого красивого индийца?"
Нечто подобное почувствовал и Сатиапал. Он выпрямился и укоризненно покачал головой.
– Папа! – вспыхнула девушка. – Разве ты не замечаешь, что Бертон очень напоминает Андр…
– Молчи! – крикнул Сатиапал.– Поэтому я и верну ему зрение. Отступлю от собственного принципа, совершу предательство… Но англичанин будет иметь разноцветные глаза!.. Все! Готовьте больного!
Майя и хирургическая сестра вышли в операционную. Сатиапал хмуро посмотрел им вслед и сказал раздраженно:
– Женщины не умеют держать язык за зубами!.. Андреи, вернее Райяшанкар, о котором вспоминала дочь,– мой сын. Его расстреляли англичане в первый день Азарха двенадцать лет назад.
Он как-то странно, точно хотел отогнать неприятные мысли, тряхнул головой и молча – локтем поднятой руки з стерильной перчатке – показал на дверь.
– Господин Сатиапал, подождите,– попросил Лаптев.– Скажите, почему вы уехали из России?
Профессор нахмурился:
– Разве это имеет значение? А впрочем!.. Есть такой романс: "Как желтый лист, гонимый ветром, летит, не ведая куда, так…". Меня изгнала из России революция, господин большевик!.. Вас это устраивает?
– Вполне! – с шутливой серьезностью ответил Лаптев. – Я против эксплуататоров. А у вас, очевидно, были в России заводы и имения?
– У меня была квартира из пяти комнат и неисчерпаемый запас энергии… Но хватит об этом. Если вы не хотите лишиться моего уважения – никогда ни о чем не спрашивайте.
– Согласен,– сказал Лаптев.
Нажимом ноги профессор открыл дверь операционной. Майя и хирургическая сестра давали больному наркоз. Операция предстояла длительная и тяжелая.
Пациент досчитал до трехсот. Эфир не действовал.
– Больной,– спросила девушка,– вы много употребляли виски?
– Много, Майя! – ответил тот с веселой беззаботностью.
– В вену! – сказал тихо Сатиапал.– Две дозы.
Майя приготовила шприц, оголила левую руку больного… и, вздрогнув, отвела иглу. В ее глазах мелькнуло удивление и даже испуг.
Сатиапал подошел ближе:
– В чем дело?.. Продолжай!..– он проследил глазами за взглядом дочери и повторил изменившимся голосом: – Продолжай.
Лаптев заметил: профессор, как и Майя, смотрит на красное пятно выше локтя больного. Оно имело четко очерченные границы, величиной и формой с куриное яйцо.
– Больной, – спросил Сатиапал, – как вас зовут?
– Чарльз Бертон,– ответил тот охотно.
– Где вы родились?
– В Кембридже.
– Кто ваш отец?
– Профессор биологии Рудольф-Эммануил Бертон.
– А мать? – Андрей Лаптев видел, что Сатиапал волнуется, хотя и старается это скрыть.
– Мария-Луиза Бертон, певица.
– Так… Хорошо…
Профессор больше не спрашивал. А минутой позже Майя сказала:
– Прошу, господин доцент. Он спит.
Андрей сделал шаг вперед. Сейчас должна начаться операция – очень интересная, очень тяжелая.
Перед ним, закрытый белыми простынями, лежал статный молодой англичанин. Лаптев не видел его лица. Это можно сделать очень просто – сняв салфетку. Но можно ли заглянуть в душу пациента?
Андрей, занося руку со скальпелем, не знал, кому он должен вернуть зрение, не подозревал, что пути его и Бертона скрестятся на шатком мостике над бездонной пропастью.
А впрочем, если бы он и знал это, рука хирурга не дрогнула бы, и операция была бы безупречной, словно Лаптев оперировал совершенно постороннего, безразличного ему человека. Врач призван только спасать, – даже того, кто готов его убить.
Глава VI
БЕЗ РУЛЯ И ВЕЗ ВЕТРИЛ
Нет, Чарлз Бертон не соврал: он действительно родился в семье известного английского физиолога, профессора Кембриджского университета.
Отца Чарли помнил смутно.. Из детских воспоминаний всплывал огромный полутемный кабинет с шеренгой устрашающих скелетов вдоль стены, массивный письменный стол у окна, микроскоп, штативчики, банки с заспиртованными животными, а над всем этим – склоненная седая голова. Когда Чарли входил голова поднималась, морщины на лице Бертона-cтаршего разглаживались, и он встречал мальчика неизменным приветствием:
– Как поживаете, сын?
– Очень хорошо, папа.
– Вы уже позавтракали?
– Да, папа.
– А не хотите ли вы, чтобы я рассказал что-то интересное?
– Хочу, папа.
Отец брал Чарли на колени и начинал рассказывать про животных и насекомых, про гром и молнию, – каждый раз иное, очень интересно и подробно. Если бы эти лекции Чарли выслушал спустя несколько лет – они принесли бы ему большую пользу. Но в то время мальчик еще не умел подолгу сосредотачивать свое внимание на каком-то одном предмете. Он начинал вертеться, перебивал рассказ неуместными вопросами, и профессор умолкал. Он смотрел на Чарли грустным укоряющим взглядом, а тот чувствовал себя виновным неизвестно в чем.
– Вы хотите уйти, сын?
– Да, папа.
– Ну, так идите.
Чарли вихрем вылетал из кабинета. Он побаивался отца, так непохожего на других людей.
С матерью было гораздо привольнее и приятнее. Она просыпалась поздно, – часто Чарли даже будил ее, – и еще заспанная, розовая, в белой пене ночной сорочки, подхватывала сына, щекотала, целовала, громко смеялась. Ее всегда окружали молодые красивые мужчины, вокруг нее ежечазно звенели песни и смех, и только с появлением старого Бертона мать замолкала, блекла, становилась старше и скучней. Однако она умело избегала таких встреч.
Смерть отца не произвела на Чарли особого впечатления. Разбитый параличом, старый Бертон около года лежал неподвижно, молча. Чарли ежедневно, по обязанности, проведывал его и сникал под скорбным взглядом. Отец через силу шевелил сухими губами, желая сказать что-то очень важное, но так ни разу ничего и не сказал.
Мать горевала недолго. Вскоре после похорон она поехала с сыном в Америку. А там началась веселая, беззаботная жизнь; первоклассные отели, веселые пикники, концерты. банкеты.
Мария-Луиза Бертон с азартом безумца разматывала все, что имела: доброе имя, здоровье, свой небольшой талант певицы, скудный капитал, оставшийся после смерти старого Бертона. Всего этого хватило на шесть лет. Она вернулась с сыном в Англию безнадежно больная туберкулезом, – отрешенная от "высшего света", лишенная прошлого и будущего, – и вскоре умерла. Шестнадцатилетнего Чарли взял на воспитание давнишний друг профессора Бертона, богатый холостяк лорд Бивербрук.
Это могло стать настоящим спасением для юноши. Удивительным образом Чарли сопротивлялся тлетворному влиянию полубогемы, может быть подсознательно протестуя против падения матери, на которую он в последние годы ее жизни смотрел с пренебрежительным сожалением. Но рядом с тем хорошим, что в нем сохранилось, юноша уже испытывал большую тягу к роскоши, к женщинам.
Да, уже в шестнадцать лет Чарли Бертон, – развитый не по летам, высокий и статный юноша, – пользовался немалым успехом у женщин. Они-то и погубили его.
Нет, Чарли не тратил на них слишком много энергии. Умный и самолюбивый, Бертон поставил своей целью достигнуть профессорского звания и упрямо добивался его. Любовница могла подождать, пока Чарли сдаст экзамены, – ничего с ней не сделается, будет более страстной.
Любовница ждала. Но когда Чарли освобождался, ей хотелось в ресторан, в театр, в благословенную Ниццу, чтобы на самом фешенебельном курорте Европы показать себя и посмотреть других.
На все это нужны были деньги. Большие деньги! А Чарли, как нищему, приходилось клянчить их у скряги Бивербрука.
И все же, все было бы хорошо, не полюби Чарли Бертон по-настоящему. Долгое время он кружил головы даже не зная, что такое любовь, а на двадцать седьмом году жизни встретил женщину, которая скрутила его, покорила и повела за собой, не спрашивая согласия.
Агни командовала, требовала, и Чарли Бертон выполнял все ее прихоти. Иногда, образумившись, он пытался бунтовать против самого себя, но сразу же капитулировал, приходя к выводу, что, очевидно, такова уж судьба всех Бертонов: влюбляться в бездарных певичек, которым, кроме ослепительной красоты, ничего не дано.
Агни захотелось иметь собственный автомобиль. Она, очевидно, считала, что сыну профессора и воспитаннику лорда не составит труда подарить ей такую "мелочь". Чарли не смог отказать… и решил "занять" деньги у Бивербрука.
Лорд был скуп, но по-аристократически беспечен. Ему казалось, что крепкие двери и ставни, высокие заборы и злые псы во дворе делают его особняк неприступным для воров. Замкнув сейф и положив ключи в ящик, он считал свои капиталы в полной безопасности. Значит, стоит лишь тайком взять ключи, и…
Когда Чарли Бертон глухой ночью открыл сейф. и начал набивать карманы пачками денег, тихонько открылась дверь, на пороге появился лорд Бивербрук, – в ночной рубашке, в шлепанцах на босую ногу, со свечой в одной руке и пистолетом в другой.
– Стой!.. Руки вверх!.. – вырвался из его груди странный, хриплый шепот.
Для Чарли этот голос прозвучал громом иерихонской трубы.
"Конец! – блеснула мысль.– Конец мечтам, любви, жнзкп!".
Он видел направленное на него дуло пистолета. Еще один миг – и из этого крохотного черного глазка вырвется смертоносный кусок свинца.
Зверем набросился Чарли Бертон на Бивербрука. Свеча погасла. Пистолет стукнул об пол. Что было в следующие несколько секунд – Чарли не помнит. Во всяком случае, старик сопротивлялся, храпел, пытался кричать, а потом обмяк и больше не двигался.
Бертон понял: он убил человека!.. В первое мгновенье захотелось завыть,– тоскливо, по волчьи. Он метался по комнате, сжигаемый одной мыслью – бежать? Куда угодно, хоть на край света, лишь бы спасти свою жизнь, избежать неминуемой кары. Но дверь словно исчезла. Чарли, как слепой, натыкался на различные предметы, и ему казалось, что еще мгновенье – и он сойдет с ума.
А откуда-то,– сначала далеко и невыразительно,– долетал чужой непонятный звук. Он приближался, нарастал, и вот уже совсем рядом, над самым ухом Чарли, раздирая глубокое молчание ночи, взвыла сирена. Почти одновременно мерцающим светом озарились окна, затарахтели пулеметы, залаяли зенитки, а затем прокатилась громовая волна взрывов.
– Воздушное нападение! – воскликнул Чарли Бертон.
Это был первый налет немецких бомбардировщиков на столицу Англии. Война уже шла. Где-то отступали и наступали войска, кто-то умирал и страдал, а чопорная Великобритания взирала на все с холодным интересом постороннего зрителя. И вот первые бомбы упали на Лондон. Над городом реяла смерть.
Ужас перед содеянным уравновесился страхом гибели от взрыва. Чарли Бертон мигом отыскал дверь, выбежал из дома, опрометью вбежал в бомбоубежище. Он вышел наружу, когда все вокруг смолкло.
Боже мой, что же случилось?! Нет старинного особняка лорда Бивербрука. Нет конюшни и гаража. Нет флигеля, где жила прислуга. Лишь гудит огонь, раздуваемый ветром, среди хаотического нагромождения кирпича, камня и железа.
Чарли Бертон захохотал, сначала тихо, потом все громче, громче. Это. был истерический смех человека над самим сибой, над страхом, от которого он только что избавился.
Кто сказал, что лорд Бивербрук задушен?.. Глупости! Он погиб от фашистской бомбы, прошел через огненную купель, и его душа уже стучится во врата рая!.. А его воспитанник Чарлз Бертон постучится в другие ворота: завтра утром он вылетит в Америку вместе с Агни и забудет, что такое война.
Чарли потрогал карманы. Они приятно оттопыривались, обещая беззаботную жизнь на протяжении тех нескольких лет, пока Бертон получит звание профессора. Значит – к Агни! И говорить с ней он будет иначе, чем обычно. Пора, наконец, показать себя настоящим мужчиной.
Приближаясь к дому, где жила Агни, Бертон заметил очень странную пару. Им, очевидно, не было никакого дела ни до войны, ни до бомбежки. Мужчина был в том состоянии, когда с самым серьезным видом болтают глупости, хохочут над печальным и падают, потеряв опору. Женщина тоже была неестественно весела, но на ногах держалась и со смехом тянула за собой мужчину:
– Ну, Дуглас, ну, мой дорогой, еще немножко! Еще пару минуток – и мы дома.
– Ой, Агни,– хохотал пьяный,– останови, пожалуйста, землю. Пусть не вертится, а то я упаду, честное слово, упаду!
"Дуглас?! Агни?!".
Несомненно: Агни изменяла Бертону. Да еще с кем? С отвратительным, как обезьяна, Дугласом Лендкоффом, адъютантом премьер-министра!
Холодная, жестокая ненависть стиснула сердце Бертона. Убить негодяйку!.. И не просто убить, а прежде поиздеваться над нею так, чтобы она прокляла свои последние минуты!
И он убил ее. Воспользовавшись своим ключом, зашел к Агни в спальню, стянул с кровати и медленно, наслаждаясь ее мученьями, задушил. Та же участь постигла бы и Дугласа Лендкоффа, но тот был пьян, как свинья, и только мычал от ударов, не просыпаясь. Устав, Чарли Бертон ударил его каблуком в лицо и пошел с повинной в полицию. Свет для него сошелся клином.
На второй день заключения Бертона вызвали в "Интеллидженс Сервис". Чарли уже пришел в себя и дрожал, ожидая самого худшего. Но случилось чудо: ему выразили благодарность. Оказывается, Агни Бертельс была крупной немецкой шпионкой; во время обыска в ее квартире нашли очень важные материалы. Он, Чарлз Бертон, помог раскрыть большую шпионскую организацию,честь и хвала ему за это.
– Однако,– сказал в заключение полковник "Интеллидженс Сервис" – убийство остается убийством. Вас ждет тяжелая кара. Мы могли бы вас спасти, но…
Чарли прекрасно понял, чего от него хотят, и горячо запротестовал. Тогда полковник намекнул, что лорд Бивербрук тоже, кажется, умер не естественной смертью. Во всяком случае, врачи удивляются, как это старик, оставшись неповрежденным во время взрыва бомбы и пожара, имеет такие выразительные синяки на шее. А вот эта пуговица, которая была зажата в его руке, очень походит на…
Полковник покрутил в руках пуговицу, приложил ее к дыре, вырванной на пиджаке Чарли Бертона, и вздохнул.
– Я согласен…– хрипло сказал арестованный.
– Вот и прекрасно… Вас выпустят на волю через час.
Так Чарлз Бертон стал одной из многочисленных клетокприсосков английской разведки, которая гигантским спрутом распростерла свои щупальцы на весь мир.
В Иране он шпионил за шахом и устраивал диверсии против советских войск во время второй мировой войны. В Австралии, мягко выражаясь, "устранил" одного из руководителей антианглийского движения. В Америке довольно успешно добыл ряд важных секретов изготовления бактериологического оружия, по-глупому поймался на мелочи и был молниеносно переброшен в Индию.
Он научился убивать и лгать, пренебрегать святынями, презирать человеческую мораль, но так и не сумел выдвинуться. Как червь древесину, его мозг неотступно точила глубоко припрятанная мысль о научной работе. Иногда он решал порвать с разведкой, уехать куда-нибудь и продолжать учебу. Однако те, кому он служил, умели держать подчиненных в повиновении, платили так, что можно было пить и есть вволю, но думать о сбережениях не приходилось.
Без руля и без ветрил, как щепка среди бурного моря, Чарлз Бертсн плыл, сам не зная куда, и наконец по воле Майкла Хинчинбрука оказался на операционном столе в имении Сатиапала.
Наркоз долго не действовал на Бертона. И не потому, что пациент злоупотреблял алкоголем. Чарли был слишком возбужден, слишком много мыслей бродило в его голове.






