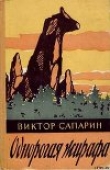Текст книги "Радиус взрыва неизвестен"
Автор книги: Николай Асанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
– Нет, – ответил Чащин.
Ответ его произвел совершенно такое же впечатление, как если бы он выстрелил над ухом Трофима Семеновича. В глазах монумента появилось какое-то почти человеческое выражение удивления и испуга, но Трофим Семенович явным усилием воли подавил это чувство и снова окаменел. Только губы шевелились, выдавливая слова.
– И что же вам не понравилось, молодой человек-с? Кто вы, собственно, такой?
– Корреспондент газеты, – спокойно ответил Чащин.
Про себя он подумал, что с монументом разговаривать надо монументально, то есть спокойно и кратко. Если это не человек, а подобие, как и все окружающее его, то и чувства человеческие тратить не к чему, если же монумент способен ожить, тогда можно будет найти и слова другие.
– А не понравилось мне то, – так же спокойно продолжал он, – что у вас в тресте много бездельников и вся ваша деятельность существует, как мне кажется, только для вида.
– Фамилия? – отрывисто спросил Трофим Семенович, впервые проявляя чувства человека, но, к сожалению, вздорного и злого.
– Чащин! – отрапортовал корреспондент, уже откровенно наблюдая, как меняется выражение лица директора треста.
Очевидно, Трофим Семенович надавил где-то под столом невидимый звонок, так как на пороге появилась секретарша, все еще держа губы сердечком.
Чащин подумал, что Трофим Семенович прикажет вызвать того медведя с ружьем в лапах, что стоит внизу, в цехе погрузки, и решил сопротивляться до последнего издыхания, если его станут выкидывать за дверь. Но Трофим Семенович только крикнул:
– Соедините меня с Коночкиным!
Губы у секретарши распустились, стали плоскими, в глазах появился испуг. И Чащин злорадно подумал, что она теперь похожа на своего шефа. Секретарша метнулась за дверь так быстро, что запах ее духов заклубился по кабинету подобно вихрю. Трофим Семенович чихнул, и лицо его расплылось, стало бабьим, растерянным, жалким. «Так вот ты каков на самом-то деле! – с удовольствием подумал Чащин. – Выходит, и верно, что не так уж страшен черт».
Однако его очень занимало, о чем будет беседовать Трофим Семенович с заместителем редактора. Проверять полномочия своего посетителя? Он пожалел, что не сообщил о своей идее Коночкину, но в конце-то концов заместитель редактора все равно поддержит своего сотрудника. Он же сам приказал сделать обзор по письмам читателей. Было бы очень приятно, если бы Иван Иванович с места в карьер намылил голову директору мельничного заведения. Тогда Чащину было бы легче напечатать статью, которая, можно сказать, уже выпевалась в его сердце. Да, это такой материалец, что никакая газета не отказалась бы украсить им свои страницы! А какое предупреждение другим бюрократам, считающим, как и Трофим Семенович, что для них законы не писаны…
Секретарша появилась в дверях и сказала:
– Товарищ Коночкин у телефона…
Чащин с удивлением заметил, что испуг директора прошел. Трофим Семенович схватил трубку с такой яростью, будто это было горло человека, которого он собирался задушить.
– Иван Иванович? – загремел он. – Кого это ты ко мне прислал? Нет, это я тебя спрашиваю, кого ты ко мне послал? Да вот он сидит, передо мной! Удивляюсь, как я не выкинул его в окно. Фамилия? А черт его знает! Как ваша фамилия? Я вам говорю! – завопил он, тараща на журналиста глаза и даже не отнимая трубку от своих прыгающих губ.
– Я уже вам сообщил, что моя фамилия Чащин, – как можно любезнее сказал корреспондент, хотя на душе у него вдруг похолодело, когда он вспомнил пронзительные стекла и непонятную проницательность своего шефа.
И было удивительно, как заместитель редактора может спокойно слушать этот разнузданный крикливый голос. На его месте Чащин давно бы швырнул трубку. А может быть, Трофим Семенович только кривляется и Коночкин уже бросил трубку? Но нет, в трубке что-то явственно прошипело, после чего Трофим Семенович завопил с новой силой:
– Как не посылал? Что? Выдаешь отдельное предписание? – и обернулся обратно к Чащину: – Где ваше предписание?
– А у меня нет предписания, у меня рабкоровское письмо, – все еще стараясь быть любезным, хотя это давалось уже с трудом, ответил Чащин.
– Какое еще письмо? – возопил Трофим Семенович, но опомнился, отдернул трубку от рта и даже зажал ее рукой. – А ну-ка дайте мне это письмо!
– А рабкоровские письма на руки не выдаются, – скромно напомнил Чащин.
Тут Трофим Семенович снова увидел трубку и завопил в нее:
– Он говорит, что у него какое-то письмо! Какой-то подлец под меня подкапывается, а ты поощряешь? Что? Что? Ой, Иван, не серди меня, хуже будет!..
Тут до Чащина дошло, что Трофим Семенович разговаривает с заместителем редактора таким же тоном, каким разговаривал и с ним самим. Но сам-то Чащин отверг этот тон, а товарищ Коночкин не только принял его, но даже, по всему видно, извиняется.
Ему стало стыдно за свое непосредственное начальство, и он медленно пошел к выходу. И самый скромный работник печати не потерпел бы такого неуважительного тона. Да и никто другой не потерпел бы. Какие же нити могли так связать заместителя редактора и этого бюрократа, что Коночкин продолжает выслушивать беспримерный по нахальству выговор? Чащин остановился в дверях и вежливо сказал:
– До свидания, Трофим Семенович!
Трофим Семенович не слышал. Он продолжал хрипеть в трубку что-то неразборчивое. Сейчас он выглядел больше человеком, чем в то мгновение, когда Чащин вошел в кабинет, но стал еще неприятнее. Но самое неприятное было в том, что он смел так разговаривать с руководителем газеты, пусть и временным. В этом было что-то загадочное и пугающее.
6
Спешить в редакцию было незачем.
Чащин медленно шел по городу и вспоминал все случаи, когда молодой, начинающий журналист, находившийся примерно в таком же положении, нашел силу воли довести дело до конца. Ничего похожего, однако, как назло, не вспоминалось. Вспоминались, наоборот, такие случаи, когда успех в конце концов совсем не зависел от самого журналиста. Ну, пришел, увидел, расследовал, написал, но и редактор, и заместитель редактора, и даже метранпаж восхищались статьей еще до того, как она была заверстана в полосу. Здесь же от получения материала до газетной полосы было такое же примерно расстояние, как от Земли до Луны, да еще под прямой угрозой наткнуться по пути на непроницаемое препятствие, назовем его болидом, что ли, поскольку Коночкин, настроенный Трофимом Семеновичем, сейчас, несомненно, носится по кабинету, выставив вперед бритую голову, чтобы встретить Чащина самым сильным ударом.
На этом пункте своих размышлений Чащин внезапно споткнулся, словно и в самом деле налетел на предполагаемый болид. У него даже заныло под ложечкой, такое сильное сотрясение испытал он от этого неожиданного столкновения. И потом, по какому праву Трофим Семенович Сердюк разговаривал с заместителем редактора таким агрессивным тоном? На памяти Чащина еще не встречалось подобной ситуации. Ведь газета – орган областного комитета партии, всякая неловкость в поведении могла кинуть на нее тень, а редакционному работнику надлежало быть беспристрастным. Он обязан сурово порицать всякое отклонение от норм коммунистической морали. Как же может Коночкин порицать товарища Сердюка, если тот обращается с ним запанибрата? И что значили намеки товарища Ермоленко на зажим критики в газете?
Тут было о чем подумать и не такому молодому и, следовательно, еще наивному – этого Чащин и сам не отрицал – работнику печати. Ведь если Коночкин каким-то образом находится в связи с товарищем Сердюком или в зависимости от него, то тут страдает уже не только Чащин, автор еще не написанной статьи, но и все общество. Значит, нужно прежде всего выяснить эту зависимость и, может быть, предостеречь заместителя редактора, а может быть, привлечь к нему внимание вышестоящих организаций. Но для этого необходимо написать статью, увидеть, как отнесется к ней Коночкин, а уж потом, если Коночкин в самом деле станет заступаться за Сердюка, подготовить и нанести следующий удар по самому заместителю редактора.
«Не так-то все это просто!» – тут же вздохнул Чащин.
Он шел по улицам незнакомого города и мрачно размышлял о том, что первая его статья явно начинается со скандала. Но тем и дорога первая статья, что она самая первая, можно ли тут размышлять об отступлении?
И постепенно мрачное настроение его начало проходить, где-то забрезжил свет, еще непонятно даже из какого источника. Но молодость, товарищи, всегда самонадеянна.
Весна для юга была поздняя и какая-то затяжная. Чащин приехал из тех мест, где по ночам все еще были морозы, а утром с неба сыпал снег, и потому был благодарен и за то робкое тепло, которое пряталось в этом городе во всех затишках, в каждом переулке, лишь бы переулок не выходил к морю. Там же, где приходилось пересекать улицы, идущие к морю, дул пронзительный ветер, и было похоже, что уже наступает осень, так и не дав лету ни одного дня.
Вдруг Чащин замер в напряженной позе охотника. Прямо над городом летел огромный косяк гусей. Птиц было, на острый взгляд Чащина, тысячи три. Они шли на высоте в два километра длинным треугольником, который колебался от того, что каждый гусь повторял движения вожака. Шли они не прямо, а волнообразной линией, как будто и в самом деле повторяли древний путь своих предков или отыскивали приметы и маяки, как делают это суда в море. Чащин вспомнил, что на его родине существует поверье, будто гуси всегда идут от озера к озеру, как по карте, и если даже эти озера и реки ныне высохли, гуси все равно повторяют маршрут. По этому маршруту весной идут золотоискатели в поисках старых исчезнувших рек и находят их золотоносные русла, давным-давно заросшие вековым лесом. Еще вспомнилась почему-то легенда о древнегреческом певце Ивике, который, погибая от руки убийц, обратился к единственным свидетелям своей гибели – пролетным журавлям с просьбой, чтобы те выдали преступников. И Ивиковы журавли отомстили за певца. Через год, когда журавли летели снова на север, один из убийц, увидав их, похвалился: «Ну что, выдали вы убийц Ивика?» – и был схвачен. Пусть бы хоть эти гуси отомстили Коночкину!
Он загляделся на гусей и шел, задрав голову чуть ли не в самое небо, так что похрустывали позвонки. Шагая в этой позе, Чащин вдруг на кого-то наскочил. Раздался испуганный девичий крик, что-то упало и зазвенело. И бедняга журналист, опомнившись, увидел перед собой ту самую девушку, что встретилась ему в гостинице. Сумочка ее валялась у его ног, и туалетная мелочь, деньги, ключи, платочек с кружевами разлетелись метра на три в окружности.
– Нахал!
– Простите!..
– Это вы?
– Вы?..
Все эти слова вырвались свистя, как мины в перестрелке, после чего оба одновременно нагнулись подобрать упавшие драгоценности и стукнулись лбами. Девушка схватилась рукой за лоб, на котором мгновенно вспухло пятно. Чащин еще ниже склонил свою более крепкую голову, боясь поднять глаза.
– Вы бы хоть поосторожнее нагибались, если уж не умеете ходить по улицам, как все люди, – сказала девушка, сердито прикладывая ко лбу серебряную пудреницу, пока Чащин, что-то нечленораздельно мыча, подбирал остальные вещицы.
Чем меньше оставалось на асфальте находок, тем медленнее двигался Чащин. Он был уверен, что девушка, получив все свои вещи, немедленно скроется, а этого он как раз и боялся.
– Что же вы медлите? – спросила девушка. – Вон еще клипсы валяются! – Впрочем, ее голос прозвучал уже не так сердито.
И когда он поднял длиннющие сережки из тех, что оттягивают мочки ушей чуть не до плеча, и подал их девушке, она, укладывая их в сумочку и приводя в порядок свое потайное хозяйство, насмешливо спросила:
– Хотела бы я знать, на что вы смотрели и о чем думали, когда шли, задрав голову?
– Смотрел на гусей, а думал об Ивиковых журавлях, – простодушно ответил Чащин.
Он еще долго будет думать, что на каждый вопрос полагается давать правдивый ответ. Впрочем, на этот раз его простота подействовала в самом лучшем виде. Девушка расхохоталась:
– О чем? О чем?..
– Об Ивиковых журавлях, – повторил Чащин, не понимая, что тут смешного.
– Это что, порода такая? – спросила девушка.
Тут он сообразил, что девушка эта, вероятно, совсем недавно закончила среднюю школу, в которой, как известно, древней мифологии, за недостатком времени, внимания почти не уделяют, сообразил и то, что при такой фигуре и внешности девушка, наверно, больше танцует, чем читает, и окончательно смутился. Начать разъяснять ей, что такое Ивиковы журавли? А вдруг рассердишь ее еще больше, – не все любят получать знания из третьих рук. Промолчать? А если она обидится?
Девушка, как видно, поняла его по-своему, подумала, что обиделся он. И решительно прервала это неловкое молчание, сказав:
– Ну, прощайте, товарищ романтик!
Она уже сделала три шага, когда он понял, что все кончается, даже не начавшись. Тогда им овладела та страстная решимость, которая иной раз действует сильнее всякого оружия. Он одним прыжком догнал ее и, оказавшись рядом, спросил:
– Как же вас зовут?
– Виола, – произнесла она, и имя это прозвучало для него музыкальнее всех рапсодий и сонат.
– А дальше?
– А этого вам мало? – язвительно спросила она. – Имейте в виду, когда девушка говорит вам имя и отчество, это значит, что она считает вас букой или стариком. Назовите лучше себя. Надо же мне знать, по чьей милости я не смогу пойти сегодня в театр…
– Почему же вы не сможете пойти в театр?
– С таким-то синяком?
– Федор. Федор Чащин, – упавшим голосом сказал он.
– Спасибо, хоть признались! – Голос у нее был безжалостный. – Теперь можно и в милицию заявить и отцу пожаловаться. Что же вы остановились?
Тут он уловил насмешливо-кокетливый взгляд и в то же время оглядел белый лоб. Никакого синяка не было. Осталось маленькое красное пятнышко – и только. Значит, она простила его неуклюжесть! И он торопливо переменил ногу, приноравливаясь идти шаг в шаг.
– А Гущин – ваш брат? – вдруг спросила она.
– Почему? – удивился он.
– Чащин – Гущин, похоже, – усмехнулась она. – Смотрите, как бы он вам не наставил синяков, у него лоб покрепче.
– Мы товарищи, – не к месту сказал Чащин.
– А товарищи разве не ревнуют? – все с той же безжалостной и насмешливой интонацией спросила она. – Он мне говорил, что очень ревнив.
Теперь пришла очередь ревновать Чащину. Она говорила о Гущине так, словно знала его с детства.
– Вы давно с ним знакомы?
– А что? – Она приостановилась, взглянула в его лицо и вдруг всплеснула руками: – Вот здорово! Бой на головах! Чей лоб крепче. Всемирные чемпионы Чащин – Гущин. Борьба за улыбку Прекрасной дамы!
К счастью, мимо прогрохотала колымага, влекомая парой здоровенных битюгов. На этой скифской колеснице восседал кривоглазый биндюжник с кнутом. Рассеянно взглянув на молодых людей, он вдруг причмокнул языком и воскликнул:
– О це парочка!..
Тут настала очередь смутиться девушке. Виола побагровела так, что Чащин даже пожалел ее, хотя она порядком исколола его за эти пять минут знакомства. Он быстро свернул в переулок, чтобы избежать восхищенного взгляда возницы, – для этого ему пришлось крепко ухватить Виолу под руку. Завладев этой драгоценностью, он не собирался выпускать ее. Впрочем, Виола и не отбирала руку. Она просто сказала:
– Вот уж не подозревала, что вы так хорошо знаете город… – И, уловив в его лице замешательство, пожала плечиком. – Как же, вы довели меня самым коротким путем. Вот наша гостиница.
Действительно, они стояли возле той самой гостиницы, в которой никогда не было мест. Огорчение Чащина было так неподдельно, что Виола рассмеялась и милостиво сказала:
– Разрешаю пригласить меня в этот садик. Тем более что я хотела вести вас самой длинной дорогой, чтобы узнать кое-что об Ивиковых журавлях…
Он вспыхнул, как костер на ветру, что было не мудрено при его рыжих волосах и способности краснеть по пустякам, и снова ухватил ее за руку. Но сделал он это чересчур грубо: девушка молча выдернула свою руку. Зато когда они уселись рядом на солнечной скамейке, счастье вернулось к нему полной мерой.
Федор никогда еще не чувствовал себя столь красноречивым. В течение нескольких минут он успел сообщить Виоле все, что знал об Ивиковых журавлях, рассказать о себе, начиная с самого детства и кончая тем, как еще мальчишкой решил стать только журналистом и никем иным, и о своем первом самостоятельном шаге на этом поприще. Единственно, на что у него не хватило времени, это спросить у девушки, кто она такая, чем занимается, кто ее друзья. Впрочем, ему больше всего хотелось заинтересовать ее собственной персоной… И как будто не без успеха.
И когда она вдруг, взглянув на часики, вскочила с досадливым вздохом:
– Господи, я опаздываю в театр! – Чащин был убежден, что он уже поймал жар-птицу.
– Позвольте мне проводить вас! – воскликнул он, торопливо поднявшись.
Он готов был сейчас бежать за ней хоть на Северный полюс, не то что до театра. Ничего, в будущем он, несомненно, последует за нею и на Северный полюс, а сейчас прекрасно и то, что можно еще долго (целых пятнадцать минут по крайней мере) не расставаться с нею.
– Я подожду вас в подъезде, – предупредительно сказал он.
– Зачем же? – удивилась она. – Поднимитесь к нам. Это ненадолго.
Он не сказал, что готов остаться с нею навсегда – все это будет сказано потом, – но просиял, как будто его спрыснули живой водой, и, торжествуя, вошел с Виолой в подъезд. В этом было свое ни с чем не сравнимое удовольствие: идти и видеть взгляды Бестии Ивановны, мгновенно проснувшейся от своего векового сна, швейцара, горничных. Жаль, что его не видел в эту минуту Гущин. Впрочем, нет, Гущин, по своей бестактности, несомненно, привязался бы к ним и испортил всю прелесть этого неожиданного свидания.
Они медленно поднимались по лестнице, и Чащин воображал, как будет подниматься по этой лестнице ежедневно и как крохотная ручка Виолы будет лежать на его твердой руке, – в эту минуту ему захотелось, чтобы плечи его были пошире, руки посильнее, волосы потемнее, – все-таки быть рыжим не очень хорошо. Словом, ему захотелось стать красивее. Рядом с такой девушкой каждому захочется выглядеть красивым.
Виола открыла дверь номера своим ключом и милостиво кивнула: «Заходите!» Чащин оглядел переднюю этого большого и дорогого номера. В прихожей висело мужское летнее пальто, по-видимому отца Виолы. На подзеркальнике лежала дамская шляпа, вероятно Виолина. Виола сбросила пальто не глядя; должно быть, оно всегда попадало прямо в руки провожатого. Чащин похвалил себя за то, что успел подхватить его. Он повесил и свое пальто и прошел вслед за Виолой в комнату.
– Познакомься, папа. Это мой приятель Федя Чащин, знаменитый журналист, – сказала Виола.
В ответ послышалось какое-то рычание. Чащин поднял глаза – и окаменел. Перед ним сидел Трофим Семенович Сердюк. Сердюк задыхался и багровел на глазах, шепча что-то бессвязное. Рука его указывала на дверь. Наконец он что-то выговорил, похожее на: «Во-о-он мер-за-за…» Чащин не дослушал. Не взглянув на Виолу, он ринулся из комнаты. И в прихожей и даже в коридоре ему все еще слышалось рычание разъяренного льва.
7
Гущина дома не было. Он, видно, задержался в фотолаборатории, добиваясь полного несходства своих снимков с натурой.
Все еще дрожа от негодования на Сердюка, так свирепо выгнавшего его, и на себя, так позорно бежавшего, Чащин долго сидел за столом.
Чистые листы бумаги вызвали в нем нечто вроде отвращения. Воспоминание о позорном бегстве бросало в дрожь. Постороннему свидетелю он показался бы похожим на грузовик, в котором разогревают мотор, – так его трясло.
Но все это время Чащин помнил, что если он не напишет свою статью, то никто другой не вскроет недостатки мельничного треста. Письмо Стороженко не трудно спрятать в архив, отписавшись краткой резолюцией: меры приняты. Но в руках Чащина оно станет обвинительным актом! Надо только собраться с силами, успокоиться, откинуть все личное, вплоть до неприязни к товарищу Сердюку и вплоть до нежности к его дочери. А он не мог не признаться, что напрочь отделил дочь от отца. И – вот парадокс! – чем отрицательнее он относится к Трофиму Семеновичу, тем большую нежность испытывает к Виоле. Сначала ему показалось, что это изысканное имя находится в полном несоответствии с отчеством: Виолетта Трофимовна! Он даже засмеялся, произнеся это сочетание вслух, но потом ему пришла в голову неожиданная мысль о том, что Виола, в сущности, не виновата в выборе имени. Несомненно, сам товарищ Сердюк выбирал это имя, и, как во всем, и тут ему не хватило ни ума, ни юмора, чтобы сопоставить имя, выбранное для дочери, со своим. Виолетта Трофимовна!
Чащин тут же решил про себя, что, когда женится на Виоле, то уговорит ее переменить имя на Варю. Виола и сама понимает, что сочетание, избранное отцом, смешно, потому она и не называет отчества.
Определив свою будущую судьбу и даже переименовав свою будущую жену, Чащин вдруг с облегчением почувствовал, что может со всей серьезностью взяться за тестя. Первая фраза сложилась, зазвучала сначала в голове, потом в сердце, затем легла на бумагу в виде заголовка будущей статьи: «Лишние люди».
Сначала название мыслилось, как утверждение необходимости резкого сокращения штатов в Мельтресте, но чем дальше писал Чащин, тем яснее становилась другая идея. Лишними людьми оказывались руководители такого типа, как товарищ Сердюк. Это они обманывали государство видимостью работы, разрушали плановое хозяйство, сокращали производство, раздувая в то же время штаты, окружая себя подхалимами, и действовали по пословице: «Рука руку моет, и обе чисты бывают», или: «Не тронь меня, и я тебя не трону!» – и даже завоевывали себе репутацию незаменимых.
Он уже забыл, что Виола – дочь Сердюка. Порою он мечтательно улыбался, воображая, что читает ей свою статью. Впрочем, поймав себя на этом, он невольно подумал, что Виоле, может быть, будет не столь приятно слушать его откровения об отце, но тут же успокоил себя тем, что она, вероятно, комсомолка. Жаль, что он не успел спросить ее об этом. Досадно, что теперь нельзя отличить комсомольца по одежде, как это было в те дни, когда он, Чащин, был еще пионером. Тогда комсомольцы – и юноши и девушки – носили особую форму, юнгштурмовки, и парень в юнгштурмовке был свой. Теперь это не принято. Все девушки стараются наряжаться покрасивее, хотя Чащин не понимал, почему юнгштурмовка менее красива, чем шелковое платье, в котором была Виола.
Впрочем, он тут же сознался, что платье все-таки красивее. Ну, а такая красивая девушка не может иметь плохую душу!
Тут он спохватился, что мысли его отдают идеализмом, и, стиснув зубы, принялся дальше бить по Сердюку. Когда с пера стекала особенно острая фраза, он улыбался про себя, иногда даже вскакивал с места и бегал по маленькому номеру, сжимая кулаки и бормоча: «Ай да Федька, ай да молодец!..»
Он не заметил, как вошел Гущин, остановился на пороге и завопил в коридор:
– Караул, горим!..
В коридоре потянуло гарью, забегали горничные. Благодаря сквозняку дым в комнате немного развеяло, и Гущин увидел творца в его истинном величии. Чащин ничего не слышал и не замечал. Он лихорадочно писал, бормоча что-то неразборчивое. Исписанные листы валялись на столе, на полу, окурки дымились в блюдечках, в тарелках и даже в графине. Гущин понял, что это всего-навсего припадок вдохновения и горит только сам Чащин, торопливо закрыл дверь, чтобы не пугать жильцов призраком пожара, а то, чего доброго, притащат огнетушитель и зальют драгоценную рукопись.
Наконец Чащин поставил под статьей свою подпись, откинулся на спинку стула и окинул комнату усталым взором. Заметив у двери Гущина, он даже не удивился, только спросил:
– Снимки готовы?
– А ты еще в состоянии что-нибудь соображать? Под окном две пожарные команды! Или с тебя достаточно огнетушителя?
Чащин огляделся еще раз и вскочил на ноги:
– Что – пожар? Где пожар? Спасай рукопись! Черт с ними, с вещами! – и кинулся подбирать разбросанные на полу листы.
– Ты горишь, а не гостиница! – крикнул Гущин. Подошел к окну, открыл его настежь, высунулся наружу и крикнул: – Не пугайтесь, товарищи, здесь не пожар, а химический опыт по сжиганию торфа!
Чащин все еще ползал по полу, собирая драгоценные листы.
– Если ты в каждой статье будешь напускать столько дыма, читатель ничего не разберет, – сказал Гущин. – Вот тебе снимки, но я больше не играю. Кто-то доложил Коночкину, что ты пошел за материалом без его разрешения, и он рвет и мечет, мечет и рвет. Ты вызван для объяснения на завтра к девяти ноль-ноль.
Но на Чащина ничто не действовало. Он с восхищением рассматривал снимки. Гущин действительно постарался. На каждом можно было что-то разобрать. На одном был отлично виден кабинет, на другом – вышел превосходно владелец. Снимок Сердюка был просто великолепен. Трофим Семенович стоял в позе Наполеона, сунув одну руку за борт пиджака, а галстук забросил на плечо, как аксельбант.
– Здорово! – сказал Чащин, но Гущин только отмахнулся.
Тут, наконец, до Чащина дошел смысл сказанного. Он боязливо посмотрел на статью. Коночкин, несомненно, потребует ее для просмотра, а потом сунет в редакционную корзину – и все! Он вздохнул и снова сел к столу. Статью надо было переписать, чтобы оставить копию. Такую драгоценность следовало беречь всеми силами.
Гущин понял состояние приятеля и не стал докучать ему. Он разделся и улегся. Долго слышал он, как скрипело перо, и тяжкие вздохи сочинителя не давали ему спать. Только под самое утро Чащин, переписав статью в третий раз, – теперь уже на тот случай, если и второй экземпляр погибнет, не увидев света, – прилег и забылся тревожным сном. Один экземпляр он засунул под подушку, второй – в чемодан, третий – для Коночкина – оставил на столе.
Гущин встал и, выйдя в коридор, прочитал статью.
Вернулся он бледный. Повертел в руках снимки, словно хотел разорвать их, но потом раздумал, вздохнул и оставил на столе.
– Будет землетрясение! – только и сказал он.
8
Коночкин, широко расставив ноги и поблескивая голой головой, стоял в дверях своего кабинета, словно производил смотр сотрудникам. Было без пяти минут девять.
Чащин хотел проскользнуть мимо шефа в свою комнату, как вполне удачно проделали все шедшие перед ним, но Коночкин вдруг протянул длинную руку, чуть не перегородив коридор, и властно приказал:
– Чащин, ко мне!
В этом обращении было что-то похожее на обращение к собаке. Федор решил пройти мимо, будто не слышал этого оскорбительного зова, меж тем ноги сами собой сделали «на-пра-о!» и повели прямо в кабинет. Пораженный этим явлением, он только вздохнул. Павловские рефлексы покорного служаки вырабатывались у него с непостижимой быстротой. Коночкин был мастером по воспитанию и внедрению таких рефлексов.
Коночкин запер дверь на замок и прошагал к столу, держась так прямо, словно все еще чувствовал себя на параде. Зайдя за стол и создав, таким образом, некое служебное расстояние между собой и непокорным сотрудником, он сказал:
– Так-с, молодой человек! Решили стать писателем?
Тут возмущение вступило в бой с условным павловским рефлексом, и Чащин с удовольствием почувствовал, что может отвечать не только уставными словами. И, вместо того чтобы сказать: «Никак нет-с!» – он почти весело выговорил:
– Представьте себе, решил!
Это легкомысленное веселье, как видно, нарушило всю привычную воспитательную систему Коночкина. Он раскрыл на мгновение рот, вытаращил глаза и стал похож на рыбу, которую вдруг выдернули из привычной среды. Когда он спохватился и напустил на себя пугающе строгое выражение, было уже поздно – Чащин смеялся.
Если Иван Иванович Коночкин и был директором школы, то, вероятнее всего, плохим. Глядя на него, Чащин никак не мог поверить, чтобы такой человек мог управлять иначе, нежели окриком и приказом. А воспитывать людей лучше всего примером и уважительным к ним отношением. Если бы Коночкин был настоящим воспитателем, он немедленно переменил бы тон и тем самым занял снова утраченные позиции. Чащин был готов признать его авторитет – все-таки Иван Иванович был старше да и в газете занимал высокое положение. Он мог бы еще опровергнуть подозрения Чащина в своекорыстном отношении к истории с Сердюком. Для этого ему стоило лишь заинтересоваться тем, что успел сделать Чащин, и молодой журналист с удовольствием пошел бы навстречу. Ведь так трудно ниспровергать авторитеты, даже если они дутые! А против заместителя редактора у Чащина были только ничем не обоснованные подозрения. Но вместо того чтобы попытаться понять Чащина, Коночкин завопил что было силы:
– В Пушкины лезете! Достоевским быть возмечтали! А у самого молоко на губах не обсохло!
Это было уж слишком. Во-первых, Чащин был достаточно взрослым человеком; во-вторых, талант не зуб мудрости и не обязательно прорезывается только у старых людей. И журналист спокойно ответил:
– Я хочу только вскрыть недостатки в деятельности одного треста.
– Какое задание я вам дал?
– Обработать письма читателей и сделать обзор на пятьдесят строк без «я», без «мы», без природы, – стараясь быть предельно точным, доложил Чащин.
– Так какого же черта вы полезли туда, куда вас никто не направлял? Вы знаете, чем это может кончиться?
– Но ведь письмо-то было с Мельтреста. Я хотел выяснить и проверить факты!
– Какого дьявола вы бормочете? Я дал вам письма сотрудников Мылотреста!
Тут только Чащин вспомнил, что с трудом разобрал наименование организации в письме Стороженко. Какого же дурака он свалял! Надо было справиться у Коночкина, а он… О самонадеянность! О глупость!
– Где статья? – отрывисто спросил Коночкин.
Он опять почувствовал твердую почву под ногами. Такие молодчики не могут не ошибаться! Вот он и погорел со своим непокорством. Теперь можно из него веревки вить!
Чащин достал статью и подал шефу. Шеф, держа ее на ладони, взвесил, потряс, покачал головой:
– Ну и насочинял!.. Больше подвала!
– Стояк сверху донизу, – грустно сказал Чащин.
– Идите к себе и делайте обзор писем! – властно приказал Коночкин. – А об этом, – он снова потряс статьей перед носом журналиста, – мы поговорим позже! Отправляйтесь!
Чащин уныло поплелся в свой закуток.
Коночкин плотно уселся в кресло и принялся читать. Вначале лицо его было спокойно, но вот на нем появилось сначала изумление, потом страх, и, наконец, на лбу выступил пот. А когда он дочитал статью, выражение лица его было таким растерянным, как умеет изображать только Чарли Чаплин. Тут он снял трубку телефона и набрал номер Трофима Семеновича.
Секретарша долго не соединяла. Коночкин не удержался и накричал на нее. Только после этого в трубке загудел бас Сердюка.