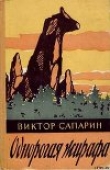Текст книги "Радиус взрыва неизвестен"
Автор книги: Николай Асанов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц)
Чащин кончил выборку фактов из письма и пошел искать Гущина. В таком деле, которое он собирался предпринять, нужно было посоветоваться.
Слава, как известно, сама не приходит, ее надо завоевать. Человек, который начинает с того, что смиряется со своей судьбой, заранее обречен на поражение. Но Чащин не из таких! Еще с младых ногтей он начал писать в стенную газету школы, в пионерскую газету родной области, в комсомольскую газету. Он писал стихи, рассказы, очерки, фельетоны. У него в чемодане были даже неоконченная повесть и начатая пьеса. Из школы он пошел прямо на факультет журналистики, твердо уверенный в том, что это и есть его призвание! Так неужели теперь, когда он стал настоящим газетчиком, можно удовлетвориться сидением в отделе писем и сочинением подборок «без „я“, без „мы“, без природы» на пятьдесят строк? Нет, он должен убедить товарища Коночкина и своих коллег, что достоин лучшей судьбы. А Бой-Ударов? «Слабый реагаж! Придется учить!» Нет, он покажет, что может быть не только исполнителем, но и организатором! Для этого надо сделать только шаг. Решающий шаг! Вот он этот шаг и сделает… Гущин, конечно, поддержит его. Они выступят вдвоем, и либо Чащин ничего не понимает, либо он уже завтра к вечеру покорит сердце заместителя редактора!
Косясь на закрытые двери кабинета Коночкина, Чащин шмыгнул в каморку фоторепортера.
Фоторепортер брезгливо просматривал очередную серию снимков. Все стахановцы были на одно лицо, каждый стоял у своего станка, но станки были тоже на одно лицо, и Гущин никак не мог вспомнить, кого же изображает тот или другой снимок. А надо было сдать в номер портреты передовиков вагонного завода, которые как раз и находились на этой злополучной пленке.
Появление Чащина было так неожиданно, что Гущин даже вздрогнул, – не секретарь ли редакции товарищ Бой-Ударов врывается к нему за снимками? Их пора отдавать в цинкографию, а как отыскать три нужных из тридцати шести похожих? И Гущин клял себя за то, что до сих пор не удосужился изобрести какой-нибудь фотоэлемент, который записывал бы фамилии прямо на снимке. Блокнот, в котором Гущин отметил порядковые номера кадров, он по рассеянности потерял. Ехать на завод снова и переснимать портреты было поздно. А тут еще этот неудачливый приятель…
– Ну, что тебе? – довольно невежливо спросил Гущин.
– Ты только послушай, какой материал я отыскал! – восторженно возопил Чащин. – Ты только послушай! Мы идем в этот Мылотрест, или Мельтрест, или Мясотрест, производим тщательное расследование, затем даем статью на подвал. Нет, мы дадим полный стояк на три колонки на вторую полосу! – поправился он. – И вмонтируем в стояк портреты этих разгильдяев руководителей! Ты слышишь! Это же будет фурор!
– Да, да, фурор, фураж и фужер! – машинально ответил Гущин, соображая, как же ему быть со сдачей снимков.
– А ты не смейся! – обиделся Чащин. – Ты только представь: мы описываем главу учреждения и тут же даем его портрет – пожалуйста, полюбуйтесь на разгильдяя, который не бережет государственные средства. Далее описываем визит к его заместителю, а пониже смотрите: вот и он сам в натуральную величину! Затем интервью со вторым заместителем – и его персона также изображена со всеми атрибутами. Ты только послушай, в этом комбинате, кроме начальника, восемь замов, двенадцать завов, шестьдесят два других руководящих работника, а прямым производством занимаются всего шестнадцать человек! Это же бомба! Фугас! Пожар!
– Что же, ты всех семьдесят, или сколько их там есть этих канцеляристов, и дашь на снимках? – ядовито спросил фоторепортер, но Чащин уже видел, что сама идея его заинтересовала.
– Зачем же? Мы дадим только начальство. А остальное я уж в тексте изображу…
– И ты думаешь, что Иван Иванович это напечатает?
– Конечно! – снова распаляясь, воскликнул Чащин. – Кто же откажется от такого материала?
– Держи карман шире! – скептически заметил Гущин. – Без редактора он на это не пойдет.
– А мы подождем редактора…
– Да я же говорил, что он только через месяц вернется!
– А мы к нему в санаторий съездим! Да что ты меня отговариваешь? – вдруг возмутился Чащин. – Не хочешь – не надо! Я все равно напишу!
– Да разве я что говорю? Я только думаю…
– И думать нечего! Надо делать!
Тут Чащин, страшно рассерженный на приятеля, повернулся к двери, но Гущин ухватил его за фалды и втащил снова в свою пропахшую кислотами комнатушку, лихорадочно бормоча:
– Да не торопись ты, эк какой ты быстрый! Подожди, я сейчас снимки сдам!
Тут он выстриг ножницами наугад три негатива из пленки и принялся прилаживать их для увеличения. Выключив свет, он поколдовал немного, сунул отпечатки из-под увеличителя в проявитель и принялся покачивать ванночку, приговаривая:
– Ну, эти, я думаю, сойдут! Ну да, сойдут! Смотри ты, как живые получились…
Пока он хвалил себя, Чащин с ужасом смотрел на черные лица и фигуры, которых не узнали бы и сами пострадавшие от руки фоторепортера. Когда Гущин, вполне довольный, сунул снимки в фиксаж, Чащин, заикаясь, спросил:
– Ты так в-всегда и р-работаешь?
– А как же еще? – удивился Гущин.
– И все довольны?
– Тьфу, типун тебе на язык! – рассердился Гущин. – Мне эти снимки сегодня сдавать в печать!
– Н-нет, – все еще заикаясь, но более твердым голосом сказал Чащин. – Ты с-со мной не станешь работать над этим м-материалом! Я н-не хочу, чтобы меня привлекли к уголовной ответственности!
– Да ты с ума сошел! – завопил Гущин. – Это же рядовые снимки! Кто на них смотрит? А этих твоих героев я так разукрашу, что на них на улице будут пальцами показывать.
– Во-от так же разукрасишь, к-как этих? – с испугом спросил Чащин, глядя, как Гущин привычно сушит снимки спиртом и накатывает на стекло. – Тут же не разберешь даже, мужчины сняты или женщины!
– А им не замуж выходить и у нас не «Брачная газета», чтобы делать им рекламу. Это положительные герои, а положительные герои должны быть типичными, то есть похожими на каждого другого человека. А что тут непохожего? Головы есть? Есть. Руки-ноги есть? Есть. Чего же еще тебе надо? Ты посмотри номера газеты, все снимки одинаковы! А однако никто до сих пор не жаловался! Тьфу, тьфу, тьфу! – трижды сплюнул он через левое плечо. Однако изумленное лицо Чащина все еще тревожило его, и он, закончив свое колдовство над снимками, дружелюбно сказал: – Да ты не волнуйся, право! Ну хочешь, мы вместе сделаем те снимки! И если что, я сейчас же пересниму!
– Да, переснимешь их! Они же догадаются…
– Догадаются? Да если они такие и есть, какими их представил твой корреспондент, им ни в жизнь не догадаться. Это же значит, что они влюблены в себя и глупы как пробки. Как же иначе они могли бы сидеть на своих местах и ничего не видеть! Или, наконец, жулики, но жулики боятся только того, что для них опасно! А фотограф, да еще почтительный, никому не опасен! Ну, пошли! – внезапно воскликнул он и потащил Чащина за собой.
После тщательного исследования письма товарища Стороженко приятели решили, что тот имел в виду все-таки Мельтрест, и с этим решением отправились в город. Чащин – крадучись, Гущин – решительно, тем более что Бой-Ударов, взглянув на принесенные им снимки, только покачал головой, но ничего не сказал – привык!
Мельтрест находился на одной из окраинных улиц, обсаженных каштанами, а может быть, чинарами. Так как ни Чащин, ни Гущин не знали южных древесных пород, а в художественных произведениях о юге почему-то упоминались только эти два дерева, то каждый из них выбрал название по своему вкусу. Чащин говорил, что это каштаны, и с восторгом осматривал знаменитые свечи на концах голых еще ветвей. Свечи были зеленовато-белые, похожие на восковые. Ни одного листа на дереве еще не было, и только из кончиков свечей выглядывали первые робкие уголки листьев.
Была ранняя весна, и если бы не задание, по которому шел Чащин, он непременно остановился бы, чтобы запечатлеть в памяти это мерцание, исходившее из расширявшейся вверху трубочки каждой свечки, словно там и в самом деле пылал язычок зеленого пламени, разделявшийся на отдельные лучики.
Но Гущин не давал своему спутнику отвлекаться от главного. С самого начала заявив, что это чинары и никаких свечей на них не бывает, он увлекал своего мечтательного друга со скоростью реактивного самолета, ядовито напоминая, что заместитель редактора товарищ Коночкин не спит и каждую минуту может потребовать к себе сотрудника отдела писем товарища Чащина. Надо действовать мобильно, активно, быстро, и нечего предаваться лирическим наблюдениям. Для этой цели придется поискать другое время и место!

Пыль на дороге среди улицы становилась все плотнее и глубже, встречные машины оседали в ней уже по ступицу колеса, и это обозначало, что наши путешественники приближаются к окраине города и к цели своего путешествия. В самом деле, вдали показался необыкновенной архитектуры замок с башнями – одна выше другой, и Гущин торжественно сказал:
– Ну, Федя, дерзай! Это и есть мельница!
– А где же трест?
– А где же ему быть, как не на мельнице? – удивился Гущин. – Мясотрест надо искать на мясокомбинате, а Мельтрест – на мельнице.
– Однако я не вижу, чтобы на этой мельнице что-нибудь мололи, – сказал Чащин, приближаясь к величественному дворцу.
– А кто тебе сказал, что тут должны что-нибудь молоть и перемалывать, кроме бумаг? Как только образовался трест, начальник первым делом выселил мельницу и разместил в здании свое управление, – хладнокровно пояснил Гущин. – Это обычно так и делается. Если завтра создадут фотографический трест, будь спокоен, лучшее ателье города сейчас же заберут под управление. Вон на кинофабрике как только прослышали о расширении плана выпуска картин, так ни одного павильона не осталось, все заняли под административные учреждения.
– А где же они муку мелют? Где картины та кинофабрика снимает.
– Не волнуйся! Построят новую мельницу и новые павильоны, – успокоил Гущин.
Тем временем они оказались в подъезде дворца.
В вестибюле здания раньше, по всем признакам, помещался погрузо-разгрузочный цех, так что в нем, несмотря на два десятка фанерных перегородок, пространства было столько, что посетители растерялись. Чащин обратился было за справкой к какой-то фигуре, но оказалось, что это чучело медведя, стоящее дыбом. Руководители треста, видимо, любили монументальность во всем. В другом конце этого зала-цеха виднелась вторая фигура медведя в сидячем положении. И Чащин невольно вздрогнул, когда эта фигура вдруг произнесла человеческим голосом:
– Ваш пропуск!
Тут посетители поняли, что перед ними страж порядка да еще в тулупе, и им стало холодно. В самом деле, все помещение цеха казалось промерзлым, словно за стенами и не было весны.
– Мы из газеты, – поторопился сообщить Гущин.
– Пропуск! – грозно повторил страж, похожий на медведя, и впечатлительному Чащину показалось, что медведь в другом конце зала откликнулся таким же рычанием.
– Служебный! – рявкнул тоном повыше Гущин и вынул из кармана какое-то удостоверение. Это слово оказало на стража волшебное действие, он тут же захрапел снова, и звук, похожий на шум вальцов, разнесся по всему залу.
– Видал? – хвастливо сказал Гущин, когда они миновали стража. – Безошибочное средство! Берусь с этим словом пройти через любую охрану.
– Он же нас не выпустит! – со страхом сказал Чащин. – Надо заказать пропуска!
– Вот чудак! – со спокойным превосходством все знающего человека произнес Гущин. – Он поставлен для того, чтобы не пускать внутрь! А о выходящих ему ничего не сказали. Если уж мы прошли, так выйти всяко сумеем.
С этими словами он зашагал вперед с такой уверенностью, будто держал в руках компас, показывавший не просто на север, а точно на то место, где находился начальствующий персонал этого тресто-мельничного заведения.
В самом деле, не прошло и трех минут, как они оказались на втором этаже, и, судя по тому, с каким изяществом был оформлен этот этаж, занимали его одни олимпийцы.
Здесь уже ничего не осталось от вальцового цеха мельницы, который находился когда-то на этом месте. Отверстия в потолке, из которых раньше в вальцы сыпалось зерно, угадывались только по тому, что там были вставлены ненужные для освещения плафоны из молочного стекла. Цех во всю длину был разгорожен коридором под мореный дуб, в котором были вделаны массивные двери с табличками черного стекла: «Начальник», «Заместитель», «Заведующий», и опять: «Начальник», «Заместитель», «Заведующий», и снова в том же порядке: «Начальник», «Заместитель», «Заведующий», так что на третьем повторении у Чащина зарябило в глазах. В конце коридора находилась еще более массивная дверь, на которой под самой огромной таблицей было написано самое скромное слово: «Секретарь». Сюда и направился Гущин.
– Нам же нужен директор! – попытался остановить его Чащин.
– Истинное величие отличается скромностью! – сказал Гущин и распахнул дверь.
Перед ними было продолжение коридора, где находился стол с пишущей машинкой и пятью телефонами, а по сторонам, как и во всем коридоре, – двери, только еще более массивные, как будто за ними находились великаны, для которых нормальные двери были малы. Справа на дверях висела табличка без указания должности, просто: «Трофим Семенович Сердюк», слева, на таких же дверях, – другая: «Семен Петрович Дюков». Девушка, сторожившая телефоны и машинку, замахала руками, как мельница, оберегая одновременно и ту и другую дверь:
– Трофим Семенович занят! Семена Петровича нет!
Гущин вывернул на живот свой фотоаппарат, мимоходом потрогал ручки той и другой двери, склонился к розовому ушку девушки и конфиденциально сказал:
– Хотите, снимочек сделаю? Так сказать, на служебном посту?
Лицо девушки зарделось, она машинально вытащила пуховку и помаду, но вдруг остановилась:
– Кто вы такие?
Чашин не успел ничего ответить, Гущин торопливо сообщил:
– Оформляем стенгазету по заданию Трофима Семеновича…
– А, к Первому мая? – обрадовалась девушка. – Ну что же, снимите! – Она кокетливо улыбнулась и приняла соответствующую позу.
Гущин щелкнул, поблагодарил, деловито вынул блокнот и записал имя и фамилию. Пока Чащин соображал, к кому пойти за необходимыми сведениями, девушка уже торопливо названивала по всем пяти телефонам, предупреждая, что сейчас придут товарищи и станут снимать руководящий персонал для стенгазеты по поручению Трофима Семеновича. Гущин подмигнул приятелю: вот, мол, как надо делать дела!
Чащин поморщился и вышел.
Он никогда не позволил бы себе воспользоваться таким приемом, какой применил Гущин. И не желая даже объясняться с товарищем, Чащин отправился бродить по огромному зданию, пытаясь понять, кто же и что тут делает и для чего понадобилось превращать вальцовую мельницу в учреждение по перемолу бумаги.
Прежде всего, конечно, следовало отыскать Стороженко. Стороженко мог бы объяснить и показать больше, чем написал в своем письме. И Чащин поднялся на третий этаж, полагая, что бухгалтерия при такой системе распределения площади должна находиться где-нибудь у черта на куличках.
На третьем этаже ее не было. На четвертом – тоже.
Отчаявшийся исследователь обратился за помощью к какому-то местному обитателю, лениво проглядывавшему заголовки в стенной газете трехмесячной давности. Оживившийся туземец пожелал лично проводить посетителя. Чащин уже заметил, что большинство обитателей этого каменного дворца бродило по комнатам как спросонья и изнывало от безделья. Только статистики и экономисты сидели почти невидимые за ворохами бумаги и из их комнат слышался треск арифмометров, напоминавший пулеметную стрельбу.
Бухгалтерия помещалась в подвале.
Здесь работа шла на полный накал. Девушки, женщины и старики, – молодых мужчин почему-то в счетоводном деле Чащину видеть не приходилось, – усиленно считали, вычисляли и записывали полученные результаты с такой же мрачной деловитостью, как если бы исчисляли орбиту движения неведомого небесного тела, направляющегося из мировых пространств к Земле и угрожающего столкнуться с нею. Казалось, что вот-вот один из этих мрачных тружеников поднимется, – они сидели по трое и по четверо за каждым кухонным, обеденным и канцелярским столом, – поднимется и объявит мрачным голосом:
– Путь тела и скорость высчитаны, измерены и взвешены! Катастрофа произойдет в следующее воскресенье в четырнадцать часов четырнадцать минут и тринадцать секунд!
Однако видимых результатов этой бешеной работы не было. Бумажка об уплате штрафа в три рубля, на которой Чащин пытался остановить свое внимание, как балетный танцовщик останавливает внимание на чьем-нибудь лице, чтобы не закружиться на сцене после первого же пируэта, все летела со стола на стол, ее записывали, отмечали, переносили цифры из книги в книгу, а путь не становился короче. И только после того, как к ней были пришпилены десятая, одиннадцатая и двенадцатая бумажки, а ее существование было отмечено в восьмой, девятой и десятой книгах, старичок счетовод, возле которого стоял Чащин, рассмотрел ее на свет, удовлетворенно вздохнул и засунул в шкаф, где уже покоились тысячи таких же бумаг, обросших более мелкими квитанциями, ордерами и справками, как корабль – моллюсками.
– Вы ко мне? – вежливо осведомился старичок, подтягивая люстриновые нарукавники и собираясь взяться за следующую бумажку.
Чащин не успел ответить, и старичок нырнул в эту бумажную карусель так, что остались видны только хрящеватые уши и лысина. И бумажка, на которой, как успел заметить Чащин, значился расход «на покупку скрепок канцелярских Р. 2. 45», пошла кружиться по столам, постепенно отягощаясь и обрастая все новыми ордерами, расписками, реестрами. Так что когда она поступила обратно к старичку, уже весила не меньше полутора килограммов. Старичок опять рассмотрел бумажку на свет, взвесил ее тяжесть в руке, облегченно вздохнул и сунул в тот же шкаф, где покоились ее предшественницы.

Подняв рассеянные бледно-голубые глазки, он снова заметил Чащина и, беря в руки следующую бумажку, опять механически спросил:
– Вы ко мне?
Чащин торопливо ухватил его за рукав, и вовремя: старичок уже готов был окунуться в тот же заколдованный бумаговорот.
– Простите, – сказал Чащин, – сколько раз вы проводите по вашим книгам и ордерам расходную и приходную суммы?
– Шестнадцать раз! – гордо ответил старичок, потом выпрямился на стуле и удивленно посмотрел на Чащина. – Кто вы такой? Что вам тут надо?
– Спасибо, ничего, – устало сказал Чащин.
Представление о безмерности этого бумажного моря совсем убило его. Шестнадцать раз! А в день таких бумажек поступают тысячи. Нет, ста человек для такой работы явно недостаточно. Вот почему здесь работают с бóльшим напряжением, чем на любом конвейере.
Он хотел задать еще какой-то вопрос, но заметил, что старичок уже снова путешествует в бумаговороте и виден только его воротник. Можно было попытаться вытащить его за воротник, но Чащин не знал, безопасно ли для старика такое вмешательство. Он где-то читал, что внезапно остановленный на своем пути лунатик обычно падает с крыши. Старичок мог с таким же успехом скончаться от инфаркта. И Чащин терпеливо подождал, пока очередная бумажка, пропутешествовав по всем столам, опять не оказалась в руках старичка. Старичок снова оглядел ее, понюхал, взвесил и сунул в шкаф.
В это мгновение Чащин ухватил его за воротник.
– Вы еще здесь? – недовольно спросил старичок. – Вы неплательщик? Просрочник? Командированный? Обратитесь к младшему помощнику старшего бухгалтера по расчетам.
– Нет, нет, нет! – торопливо и с крайней убедительностью сказал Чащин. – Я ищу Стороженко Афанасия Кузьмича…
– Афанасия Кузьмича Стороженко? – Старичок задумался. – Нет, у нас такой не числится. Впрочем, обратитесь к старшему помощнику младшего бухгалтера по кассовой ведомости – третий стол направо от левого окна возле изразцовой печки, но не у камина. У камина сидит старший помощник младшего бухгалтера по материальному учету, он в кадрах ничего не понимает.
Чащин понял, что он пропал. Идти по этой перенаселенной столами и счетными машинами комнате, наступая на ноги и задевая локтями за прически девушек, было не в его силах. Поэтому он не выпускал воротник старика, как будто уже сам тонул в бумаговороте.
На его счастье, вдруг прогремел пожарный сигнал, и все вскочили на ноги. Миг – и комната словно по волшебству опустела. Чащин испуганно выпустил воротник старичка, но тот ничего и не заметил. Он тоже убирал бумаги, хлопая папками так, что пыль над его столом закрутилась, как смерчевой столб.
– Что это значит? – воскликнул Чащин.
– Перерыв на обед, – хладнокровно ответил старичок и вынул откуда-то из-под стола бутылку с молоком и булку.
Вся автоматико-конвейерная суетливость каким-то чудом слетела с него, и теперь перед Чащиным сидел очень милый, вежливый человек, смотревший внимательно и любезно.
– А что за дело у вас к этому Стороженко? – спросил старичок.
– Да вот, понимаете, мы получили письмо из вашего треста в редакцию. Он пишет, что у вас излишки аппарата, разбухание штатов…
– А может, он, того, укрылся под псевдонимом? – вдруг спросил старичок.
Чащин почувствовал, как пелена упала с его глаз. Конечно же! Может, этот самый старичок и был неведомым Стороженко?
Он вытащил блокнот и принялся задавать вопросы, которые приготовил со всей тщательностью, когда обдумывал свою будущую статью.
Да, все подтверждалось. Стороженко или этот старичок, фамилии которого Чащин даже не спросил, знали всё. Они знали, сколько лишних ставок сверхштатного расписания утверждены одной подписью товарища Сердюка, почему и для чего образованы шесть лишних отделов, кто и сколько премий получил законно и сколько – незаконно, у кого и когда был проведен ремонт в квартире при помощи рабочей силы треста и за счет треста, у кого стоит трестовская мебель, а кто еще только просит таковую, и для кого она уже заказана, и где – в Риге или во Львове… Одним словом, старичок оказался кладезем знаний, что было немудрено, так как он был счетоводом-учетчиком и хранителем архива бухгалтерии. И Чащин возблагодарил судьбу, сведшую его с таким знающим человеком.
5
От старичка и по его совету Чащин попал в отдел инвентаризации, где сидел другой тихий человечек, говоривший медленным, размеренным голосом, что совсем не означало, будто и слова в этом случае будут мягкими, размеренными. Нет, Сергей Сергеевич Непейвода, тихонький блондинчик с хохолком на затылке и маленькими светлыми усиками, в выражениях не стеснялся. По словам Непейводы, получалось, что трест из года в год работает все хуже, а штаты разбухают все больше.
– Да вот, полюбуйтесь сами, – говорил Непейвода, – десять лет назад в области было шесть крупных мельниц да две сотни мелких. Конечно, за ними надо было наблюдать. Тогда и организовали наш трест. Было в тресте пять человек начальства, считая отделы главного механика и ремонтный. А полтора года назад, когда создали областной совнархоз, пришел к нам Трофим Семенович Сердюк. Для начала он заявил, что мелкие мельницы нам ни к чему, не старорежимное время, крестьянина-единоличника нет, все работают коллективно – значит, нечего колхозникам толкаться на мелких мельничках, и приказал их сломать. Колхозы, которые были подогадливее, откупили эти мельницы, а в иных теперь и места не найти, где эти мельнички стояли. Трофим Семенович все обещал развернуть строительство новых, крупномасштабных предприятий, а развернул только строительство аппарата. Домик, в котором раньше управление треста помещалось, отдал заместителю под особняк – сам-то он в гостинице живет, все ждет, когда для него новый дом отстроят; городскую мельницу поставил на ремонт да и превратил в контору треста, а колхозники едут с помолом в соседнюю область или ставят собственные ветряки. Мы теперь и с государственными заказами не справляемся, не то что с колхозными.
От товарища Непейводы Чащин перебрался еще этажом выше, к товарищу Ермоленко – секретарю партийной организации треста.
Ермоленко сидел на самом чердаке, под крышей, и к его апартаментам вела уже просто пожарная лестница. Кухонный стол, покрытый красной материей, да два табурета составляли все убранство комнаты партбюро. Ермоленко внимательно осмотрел удостоверение Чащина, вздохнул и сказал:
– Ничего у вас не выйдет! Заместитель редактора не даст такой материал. В прошлый раз на партактиве я выступил насчет нашего руководства. Трофим Семенович надавал сто тысяч обещаний, и все осталось по-старому. Говорят, что у него рука в самом совнархозе…
– Ну, а партийная организация? – спросил Чащин. – Вы, конечно, извините, я еще только комсомолец, но ведь есть же в тресте коммунисты?
– Есть-то есть, – тут Ермоленко покачал головой, – но только наши прения дальше треста не идут. У Трофима Семеновича рука сильная.
– Не понимаю! – откровенно сказал Чащин.
– Потом поймете, – криво усмехнулся Ермоленко. – Вот попробуйте опубликовать ваш материал, тогда и поймете. А так, все подтверждаю. Правильно сообщили сотрудники, а Стороженко лично не знаю: наверно, псевдоним.
Чащин отправился вниз. Он шел и думал о том, что секретарь парторганизации очень ошибается, если думает, что страшнее кошки зверя нет. На всякого Трофима Семеновича найдется свой тихий старичок или молодой человек, а может, и не такой тихий, который регистрирует все и всяческие нарушения закона и общественной морали. И придет час, когда такой человек, несмотря на тихий свой характер, найдет силы, чтобы сказать обо всем.
Ему даже стало жаль Трофима Семеновича. Сидит товарищ Сердюк в своем кабинете и не знает того, что вся его будущая судьба измерена, взвешена и расчислена его собственными безответными – как ему кажется – работниками, которые ждут не дождутся того момента, когда этого самого многоуважаемого товарища начальника вытряхнут с насиженного места. И тогда они все наладят по-своему, по-настоящему, как Сердюку и не снилось.
А Ермоленко в это время собирал членов партбюро.
На месте их оказалось всего трое. Трофим Семенович не любил непокорных людей и немедленно находил им дело подальше от управляемого им центра. А после выступления Ермоленко на активе готов был каждого члена бюро считать личным врагом.
Ермоленко в нескольких словах сообщил о появлении в Мельтресте корреспондента.
На лицах его слушателей появилось блаженное чувство облегчения.
– Ну, на этот раз, кажется, грозу не пронесет! – вымолвил старый инженер-механизатор и вздохнул с таким видом, словно все его желания уже исполнились.
– Хоть бы уж поскорее! – откровенно поддержал его техник по помолу.
– Да вы что, товарищи! – сердито сказал Ермоленко. – Разве я для этого вас пригласил? Мы-то с вами коммунисты или нет? Или нам только и осталось, что на бога надеяться?
Пристыженные члены бюро молчали, с недоумением поглядывая на секретаря. А он, передохнув немного от негодования, сухо продолжал:
– Корреспондент этот – парень молодой, необстрелянный. Он, наверно, и не знает, в какую кашу лезет. И пригласил я вас потому, что стало мне стыдно, да и вам, надеюсь, будет тоже стыдно, если мы задумаемся над своим поведением. Как же это так получилось, что мы вроде и отказались от борьбы с непорядками? Корреспондент этот ударил мне по совести, а это очень болезненное чувство. Мы должны помочь парню всем, чем сможем. А можем мы многое, только о своем долге забыли. Прежде всего мы должны подготовить партийное собрание, да так подготовить, чтобы коммунисты высказали нашему дорогому Трофиму Семеновичу все, что о нем думают. Затем все известные нам факты неправильных действий товарища Сердюка мы должны сообщить в газету, там они понадобятся этому корреспонденту. А кроме того, думаю, пора нам и в обком постучаться. Вот как я понимаю нашу задачу…
Пока продолжалось это внеочередное заседание партбюро, Чащин, ничего не ведая, направлялся прямо в пещеру львиную. На нижней лестничной площадке слышался бархатный голос Гущина. Он благодарил кого-то за внимание, обещал сделать первоклассный снимок и немедленно доставить для обозрения. Потом хлопнула дверь, и голос заглох. Видно, Гущина провожали даже и на улице. Чащин вспомнил кривую усмешку Ермоленко, поежился, но упрямо зашагал дальше. Теперь он шел к самому Трофиму Семеновичу.
Секретарша на этот раз была куда любезнее. Она все еще держала губки сердечком, в том самом положении, как снималась у Гущина. Завидев Чащина, она произнесла медовым голосом:
– Можно, можно! Трофим Семенович ждет вас…
Чащин, удерживая необъяснимую дрожь в руках, открыл двойную, с тамбуром, дверь и вошел в кабинет.
Здесь все было обставлено так, чтобы каждый посетитель понимал: он входит в святая святых. Мебель была специально подобрана в виде памятников. Стол напоминал пьедестал, на котором впоследствии будет стоять монумент Трофима Семеновича. Стулья типа каменных надгробий, на которых возлежат кладбищенские ангелы, стояли в том строгом порядке, какой только на кладбищах и соблюдается. Недоставало самих ангелов и надписей: преставился такого-то числа такого-то года. Шкафы были оформлены в виде фамильных склепов. Казалось, открой дверь и войди, там тебя и ждет вечное упокоение, иде же несть печали и воздыхания. Даже пепельницы на столе и те были больше похожи на урны с прахом усопших, так они были тяжелы и на таких разлапых ножках держались.
Сам Трофим Семенович сидел за столом выпрямившись, как будто ждал, что вот-вот забронзовеет да так и останется навеки в позе начальственного восторга. Завидев Чащина, он сделал короткое движение вперед, которое можно было одинаково посчитать и за желание встать и протянуть руку, и за милостивое разрешение войти, и за удивление: что это еще за беспокойство, нарушающее привычный порядок административного течения времени и мысли?

Чащин назвался и присел на краешек одного из надгробий, пытаясь украдкой рассмотреть этот поразительный пример административного величия. В общем, кроме непомерной полноты и брезгливости, на лице Трофима Семеновича ничего особенного не было. Но, видно, в том и заключалась сила этого величия, что даже брезгливость поражала и вызывала желание как можно скорее выйти и оставить начальника в покое.
«Наверно, при этом человеке даже птицы и дети умолкают», – подумал Чащин. Однако, чувствуя себя лицом независимым, продолжал сидеть молча в ожидании, пока Трофим Семенович закроет парадную папку, в которой, как гостю показалось, не было ни одной бумажки.
Но вот Трофим Семенович, как видно, уверившись, что достаточно поразил воображение посетителя, отложил папку без бумаг в сторону, поднял тусклые глаза и, выкроив на лице подобие улыбки, спросил:
– Ну как, понравилось у нас?