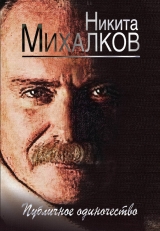
Текст книги "Публичное одиночество"
Автор книги: Никита Михалков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 76 страниц) [доступный отрывок для чтения: 27 страниц]
Очень трогательная картина из тех, что сегодня появится на большом экране, это картина «Без мужчин», которую снял Резо Гигинеишвили. В этом фильме очень хорошо работают и Надя, и Вера Воронкова, которые играют двух антиподов. Это легкая и трогательная картина.
Но из серьезных, из больших работ, которые меня бы заставили приостановиться и задуматься, – это те картины, которые я назвал первыми, и они, увы, не наши. (VII, 5)
Американское кино
(1987)
Я считаю, что этот дисбаланс, это засилье американской кинопродукции на европейском рынке нужно во что бы то ни стало преодолевать. И если мы не вдохнем сейчас в европейское кино живую кровь с Востока, то это может плохо кончиться для континентального кинематографа.
Ну а задача нашего кино в международном плане должна заключаться в том, чтобы проникать нашими идеями, нашей культурой, нашей историей в жизнь Запада.
Это нужно для того, чтобы нас видели, чтобы нас знали, чтобы нами интересовались, чтобы нас уважали не только как великое государство, но и как страну, имеющую многовековую историю, наследие, глубокие культурные корни. (I, 23)
(2000)
В США нет нужды закрывать картины, класть их на полку. Там действуют иными методами.
Вспомните, большим ли успехом пользовался в Штатах блестящий памфлет «Хвост виляет собакой»? Отличный фильм с прекрасными актерами попросту замолчали.
Самоцензура!
Даже разгромные статьи в «Правде» и исключения из рядов КПСС не нужны. Американцы придумали термин «политкорректность». Им любую пошлость оправдать можно.
И оправдывают!
Следующий тезис, который весь мир усвоил лучше таблицы умножения: «Америку трогать не моги!» Она же вправе мочить кого заблагорассудится, бухой русский космонавт может в ушанке летать в «Армагеддоне», а ее сержанта из Оклахомы цеплять – ни-ни!
То есть американцы про себя снимают как хотят, и про других – тоже как хотят, но вот другим о них так же – нельзя!
Что я могу сказать на все это? Уважаю и снимаю шляпу…
И последнее, чтобы закончить разговор об Америке и их кинематографе. В Штатах создана самодостаточная система, там никого не волнует, будут ли их фильмы смотреть в Европе или Азии. Главные сборы от проката делаются внутри США, на своем зрителе. Там никто не зависит от того, купят ли картину во Франции или в Англии. По американской логике европейцы и весь остальной мир должны целовать янки в задницу и благодарить за то, что получили возможность приобщиться к вершинам голливудского искусства.
А американцам приобщаться не к чему. Какие там Феллини, Антониони, Бергманы и Тарковские?
Знать они их не желают. (II, 33а)
(2003)
Девяносто процентов наших зрителей (даже больше) знают об Америке то, что Америка хочет, чтобы о ней знали, по тем фильмам, которые она выпускает…
Ведущий: То есть Америка через кино воспроизводит сама себя?
Конечно.
Нигде этого нет в мире. Ну может быть, в Индии, хотя сравнить невозможно. Американцы убеждены, что есть только американское кино, и американское кино кормится американским зрителем… (V, 16)
(2009)
Вопрос: А не получится так, что из-за кризиса у нас опять не будет своего кино, а будем крутить только американское?
Я думаю, что такого поворота в сторону закупок фильмов уже не будет. Мы сильно наелись того, что было в 1990-е годы. Поэтому отечественный кинематограф не потеряет интереса к себе.
Да, американское кино счастливо тем, что заставило своего зрителя поверить, что оно лучшее. Америку в свое время спасло американское кино. В годы депрессии кино создало ту самую Америку, которой она потом стала. Грубо говоря, полицейский, который стоит, расставив ноги, и жует резинку, – это не в кино он пришел из жизни, а он из кино пришел в жизнь. Кино создало тот образ Америки, которому она сама стала следовать. Очень важно, чтобы у нас такое движение произошло.
За это и борюсь. (I, 136)
Военное кино (2000)
Каждый раз, когда я говорю «кино о войне», то имею в виду нечто намного более глубокое и серьезное, нежели просто тема войны.
Я сейчас дочитываю воспоминания солдат в абсолютно необработанном виде, никакой литературщины. Просто то, что было. Такое во сне не приснится.
Поймали полицая, расстреляли. Дети его облили водой, заморозили, сделали из него салазки и всю зиму катались, а весной, когда лед растаял, выяснилось, что он – один из засланных партизан.
Это придумать невозможно.
Сейчас читаю воспоминания одного военнопленного: просто нереально поверить, что человек может это пережить.
Вот так. (II, 32)
(2000)
Мне кажется, что все те миллионы, которые погибли и которые действительно на своих плечах вынесли войну, достойны того, чтобы о них знали молодые.
Мы с вами смотрели и «Солдаты», и «Судьба человека», и другие картины. Их сегодня можно увидеть только по телевидению. Это другое, отошедшее замечательное кино.
Но я думаю, что такое событие, как война, тем более для России, сегодня должно быть раскрыто для молодых с помощью новых технологий.
Мы должны вызвать ощущение у молодых ребят, что они – дети тех, кто дал им эту возможность жить! (VI, 4)
(2001)
Я очень хочу снять картину о Великой Отечественной войне… К сожалению, целая полка картин, сделанных о войне – «Солдаты» по книге Некрасова «В окопах Сталинграда», «Звезда» по повести Казакевича и даже «Баллада о солдате», – сегодня не востребованы.
И дело не в том, чтобы воспитывать у молодежи милитаристический дух, но они должны ощутить судьбу, мысли, мечты, желания погибших за них в войне двадцати восьми миллионов соотечественников… (I, 83)
(2003)
Я исхожу из того, что наши ветераны получили и свою войну, и свое кино.
А для молодых людей, которым сегодня четырнадцать, пятнадцать, семнадцать, двадцать, двадцать пять лет – для них Вторая мировая война (для нас – Великая Отечественная) стала чем-то похожей на Куликовскую битву, на войну 1812 года…
Но я абсолютно уверен: без реального осознания того, в какой стране мы живем, и того, что ей пришлось пережить, в нашей стране жить невозможно.
Рано или поздно реальность отомстит за незнание истории…
Повторяю, для меня эта картина <«Утомленные солнцем – 2»> – попытка сфокусироваться именно на этом. Но точно знаю, что, скажем, замечательная глобальная картина Озерова (покойного, Царство ему Небесное) «Освобождение» или замечательная великая картина «Судьба человека» Сергея Федоровича Бондарчука (тоже ушедшего, и тоже Царство ему Небесное) – это фильмы, которые остались в истории, но которыми сегодня удержать молодого человека в зале невозможно.
Это не значит, что мы собираемся идти по пути компромисса – клипов и рекламы.
Но это значит, что мы стоим перед проблемой: как заставить молодого человека усидеть в зрительном зале, чтобы рассказать ему о Великой войне? Как заставить его реально почувствовать себя среди тех героев, которых он видит на экране?
Такова мечта любого режиссера, но в данном случае, честно вам скажу, мне кажется это очень и очень важным сегодня…
Понимаю: то, что мы хотим сделать, может раздражить ветеранов и историков. Но я понимаю, что есть более важная задача, нежели документальный исторический пересказ реалий.
Есть молодое поколение, которое нельзя потерять с точки зрения его ощущения истории своей страны. Хотим мы того или не хотим, одним из самых важных событий для нашего Отечества была эта кровавая война.
Мне трудно, честно вам скажу, оторваться от собственных представлений, которые воспитаны во мне с детства идеологией, школой, институтом, кинематографом. Но также понимаю, что если мы от этого не оторвемся, то нам не удастся собрать вокруг картины заинтересованные молодые жизни.
Молодые! И поэтому, конечно, я маюсь. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. (XI, 2)
(2003)
А еще я вам скажу такую вещь.
Вы знаете, чем больше я читаю и смотрю хронику (и особенно таких писателей, как Бакланов или Некрасов), тем сильнее физиологическое ощущение всего того, что происходило. Вы понимаете: привыкание к смерти, к трупам, – и все равно люди, которые прошли всю войну, какое самое сильное ощущение у них осталось, что они вынесли из войны, какие чувства?
Страх?.. Нет.
Голод и желание спать! Для всех… Или, скажем, вот это вот ощущение, когда твоя конкретная задача – вон кустик, к нему нужно добежать. Добежишь – еще продлил себе на двадцать секунд или на пять минут жизнь.
Вот если бы мне удалось, дал бы Господь, вот это состояние как бы внутри человека, внутри огромной войны показать… Для маршалов, для главкомов эта война на большой карте номерами обозначена, а ведь если это все, эти номера сужать-сужать-сужать – и вот он, конкретный человечек, в каске сидит в болоте.
Вот если бы мне удалось попытаться, если бы Господь бы дал, от этого конкретного увидеть обобщение, я был бы очень счастлив, но это очень трудно.
Вот это – моя задача. (V, 16)
(2004)
Интервьюер: Два года назад Вы говорили, что сценарий фильма о войне («Утомленных солнцем – 2») в целом сложился… Что же теперь Вы все пишете и пишете? Как это понять?
Дело в ужасающем многодесятилетнем давлении клише. Ты обдумываешь сцену, уже начинаешь ее чувствовать – и вдруг понимаешь, что подобное было. Что ты уже видел такую сцену, как правило, в советских, иногда в зарубежных фильмах.
Кино о Великой Отечественной – целая планета: с картинами Столпера, Чухрая, Бондарчука и многих других. Это лишь одна проблема.
Вот другая, более серьезная: фильмы о войне, как правило, снимали люди, которые воевали. Это вроде бы важно для достоверности. Но все классические военные фильмы – вольно или невольно – иногда подсознательно воссоздавали общепринятую героико-патриотическую интонацию, нарушить которую было совершенно нереально. Стоило только пошатнуть правила, как режиссера мгновенно брали в жесткий идеологический шенкель, после которого трудно было выжить. Достаточно вспомнить тяжелую судьбу замечательного фильма Алексея Германа по сценарию Эдуарда Володарского «Проверка на дорогах».
Основой и темой любого военного фильма были героизм и мужество советского солдата и офицера. Да, героизм был, и был он великим, небывалым, почти мистическим! Тем не менее даже самые искренние из режиссеров-фронтовиков (я не говорю про халтурщиков и конъюнктурщиков) создавали то представление о войне, которое должно было воспитывать зрителя таким, каким его хотела видеть власть.
Правильно?
А в результате (я не знаю, корректно ли столь категорическое утверждение), но в результате режиссерская индивидуальность в этих картинах в какой-то степени все-таки нивелировалась.
И даже «Женя, Женечка и „катюша”» или «В бой идут одни „старики”» со всеми своими невероятными для тех лет «ликерами-шасси», или «Перекличка» Храбровицкого (совершенно новое по стилю кино), или «Они сражались за Родину» Сергея Федоровича Бондарчука – фильм, который при всех прочих равных я по глубине и силе ставлю выше многих… Все равно при всей гигантской разнице режиссерских индивидуальностей эти картины в своей идеологии схожи. Мы все равно упираемся в то, что некое невидимое, подкожное, неосязаемое клише существует.
Может, отдельно стоит картина Ларисы Шепитько…
Имеете в виду «Восхождение»?
Естественно. Там нет войны в прямом смысле. Есть психология войны, психология страха, все, что угодно, кроме военных действий…
Другое дело, что мы всегда оценивали военные картины по тем законам, по каким они были сняты. Как здорово играет Серпилина Папанов! Какой Лавров! Или, скажем, «Великий перелом», снятый прямо в 1946-м… Замечательная картина! С таким психологическим напряжением! Непосредственно снимавшаяся на развалинах Сталинграда! Но и она под грузом идеологии…
И так трудно, замышляя сегодня фильм про войну, из-под этого выползти. Не менее тяжело отойти и от другого связывающего тебя обстоятельства, что существует историческая правда, что, условно говоря, 27 августа 1943 года 164-я дивизия находилась там-то, а не здесь… Но надо ведь отдавать себе отчет в том, что ты сегодня делаешь кино для людей, которые, с одной стороны, насмотрелись «Матриц», «Властелинов колец», «Рядовых Райанов», а с другой – «Бумеров» и «Антикиллеров».
Понимаете, да?
Снимать про Великую Отечественную что-то вроде «Антикиллера», разумеется, глупо. Но делать кино, которое пройдет мимо новой аудитории, глупо тем более. Потому что тогда – в лучшем случае – публика, зная твое режиссерское имя, вежливо досидит до конца.
Вы хотите сказать, что готовы конкурировать с «Матрицей» или «Рядовым Райаном даже на уровне спецэффектов?
Спецэффекты, конечно, будут. Без них современный сложнопостановочный фильм невозможен. Вероятно, мы будем делать их в Берлине, на студии «Бабельсберг» (бывшей DEFA), которую возглавляет Фолькер Шлёндорф. Или у нас, если получится. Вероятно, мы свяжемся и с создателями документального фильма «Птицы», чтобы позаимствовать их уникальные технологии: у меня есть одна задумка с жаворонком…
Но спецэффекты для меня не главное. Их сегодняшний уровень столь высок, что нисколько не зависит ни от качества драматургии и актерской игры, ни от уровня режиссуры. Все происходит само собой: человек на экране снимает с себя чужие лица, поворачивает голову на триста шестьдесят градусов, расплавляется, исчезает, материализуется, превращается в мышь – и все настолько чисто сделано, что даже не понимаешь как?! Поэтому я себе сказал, что удивить этим сегодня (по крайней мере я) никого не смогу.
Да не ради спецэффектов я хочу снять фильм… Для меня важнее особый взгляд на ситуацию войны, точка зрения, точка отсчета. И мне кажется, я их нашел.
Дело не в том, чтобы сделать такой фильм про войну, какой не делал еще никто. Дело в том, что… это такой адреналин!
Расскажите поподробнее про этот особый взгляд. Какую все-таки войну, не виденную в других картинах, Вы хотите показать?
Сколько одновременно находилось на войне людей?
Допустим, тридцать миллионов. Значит, это тридцать миллионов ситуаций. Если в атаку бежит десять тысяч солдат, каждый шаг по земле делает каждый конкретный человек – со своей натертой ногой, в своих сапогах, со своими запахами, своим особым ощущением потной руки, которой он сжимает автомат, со своей жизнью, своей памятью. Для командующего эти люди – номера частей, подразделений, в лучшем случае имена командиров полков. Но у того, кто бежит в атаку, есть имя, детство, мать, отец.
Вот как это соединить? Именно такого соединения мне хочется добиться.
Какая разница синице, кто ее подкармливает: наш или немец? Был мальчик Петя, которого убили. Теперь синицу подкармливает какой-то Ганс, потому что ничего не имеет против синиц, а синица ничего не имеет против Ганса.
Что-то при этом меняется в мире или нет? И ведь это тоже война!..
Понимаете, мне не интересно рассказывать историю войны вообще или какой-то конкретной дивизии… Мне не хотелось бы рассказывать историю конкретной военной операции. Я не хотел бы, например, снять фильм про героев-панфиловцев или спасение рядового Иванова: не потому, что их подвиги были не важны, – просто меня другое занимает!
Говорят, кто верит в случайности, тот не верит в Бога. Ситуация войны в тысячах случаев позволяет понять: значит, неслучайность, значит, Бог…
Есть много историй прямо-таки мистических.
Есть такой Ваня Теплов, Иван Сергеевич – он работал ассистентом на съемках и у Андрона, и у меня. «Няня Ваня» его называли, абсолютно чистый лист бумаги, совершенно неграмотный был человек… Он упал в работающую бетономешалку и очнулся, когда ему в морге писали на ноге цифру. Человек, который писал, в момент, когда он очнулся, сел от ужаса на задницу. Его спрашивали: «Ваня, как же ты попал в бетономешалку?»
А он отвечал: «Да з утра!..» Так вот фронт, рядовой Ваня, совсем мальчишка, проливной дождь – и тут привезли обед. Ваня ставит автомат к дереву, берет миску, идет за обедом (а дождь уже такой, что лица не поднять), возвращается обратно к автомату, начинает есть. Тут друг его спрашивает: «Ваня, ты чего ешь?» Тот отвечает: «Та я нэ знаю, нам далы… лапша какая-то, рагу, что лы…» Тот говорит: «Ты что, охренел? Какое рагу? Нам кашу пшенную привезли!» Оказывается, он к немцам зашел – у них тоже обед был! Через передовую, через минные поля: просто прошел туда – и обратно! На запах кухни пошел! Ну вероятно ли подобное?! Эти минные поля потом ночью с кусачками обезвреживали саперы. Что это? Как это понимать? Его чуть не расстреляли потом за измену Родине!
Самое потрясающее, что вот это – и есть война…
Вы не читали Эфенди Капиева такого?.. Его записные книжки – потрясающе кинематографичны. Что ни запись – то кино. И записывал он вещи уникальные!.. Например: стоит солдатик на посту, недалеко от того места, где жил, и мама-старушка приходит к нему, чтобы его охранять. И сидит рядом.
Пронзающее!
Но это не имеет никакого отношения к традиционному киноповествованию, понимаете?.. Вот из этого бы фильм сложить!
Или идет танковая колонна, наша. На броне сидят такие крутые ребята. И вдруг, подъехав, видят, что регулировщик – мальчик, немец, в форме с иголочки, офицерик, контуженый, сумасшедший!.. Откуда, что? Размахивает руками, показывает, куда ехать… И старушка подходит к головному танку и говорит: «Не трогайте его, он больной, он больной… У меня шесть сынов, все погибли, не трогайте его…» И вся колонна делает сложный маневр гусеницами, объезжает его, и все, кто на броне, смотрят на него пристально, а старушка ему: «Ну пойдем, пойдем домой…»
Грандиозно, а?.. (I, 103)
(2008)
Интервьюер: У Вас только одна картина была впрямую о войне, дипломный фильм «Спокойный день в конце войны», и то там весь день тихо, только в конце стреляют. А теперь Вы вошли в настоящую военную историю, снимая картину «Утомленные солнцем – 2». Не тяжело ли это вашей мирной, в общем, душе?
Тяжело и потрясающе.
Я многое переосмыслил. Актерская сущность, если она подлинная и умеет внедряться в материал, вплотную приближается к обстоятельствам. Кровь не настоящая, пули не настоящие – а ощущения как настоящие!
Вот – зима. Алабино. Минус семнадцать. Ветер, замерзшие окопы, массовка, дымы. Снимаем, играем, бежим… И все, конец съемке. Я мечтаю, уже в машине, как поеду в баньку, погреюсь… И вдруг мысленно – оп! Возвращаюсь туда, к своему герою, понимаю, что он-то остался там. И нет у него ни машины, ни баньки. Он какой есть, такой и будет там днем и ночью, всегда… И я почувствовал этот ужас и взял для себя задачу приблизиться к его состоянию, познать его через простые физические действия…
Я применил в этом фильме тот метод, что испробовал в картине «12». У меня есть мастер-план, две камеры, хорошо организованные, но три камеры я посылаю внутрь кадра. Вглубь! И ребята, в военную форму одетые, там внутри снимают, что происходит. Идет массовка: восемьсот человек в атаку под дождем, кто-то упал, кто-то ругается, все детали снимают.
Показать кровь, насилие легко, этим никого не удивишь и не испугаешь, а нужен художественный подход. (I, 132)
(2010)
Интервьюер: Функция советского военного кино в Европе была особая, недаром единственную российскую «Золотую пальмовую ветвь» взял фильм «Летят журавли», а Берлинского «Золотого медведя» – «Восхождение». Что сегодня наше военное кино может сказать миру?
Не знаю.
То, что я хочу сказать, должно быть на экране. Словами не сформулировать. Это должно волновать…
История девочки, которую заставляют отказаться от отца, а она не хочет. История человека, которого опустили ниже плинтуса, и он не уходит из штрафбата – он был так высоко, что ему лучше быть в самом низу, чем посередине. Если это не будет волновать, то, что бы я ни сказал, будет «бла-бла-бла…».
У меня и желания нет формулировать. Если это не ощущается – значит, фильм просто творческая неудача. Напрасно потраченные деньги.
(2010)
Интервьюер: В вашей картине «Утомленные солнцем – 2» так много новых, зорко подмеченных деталей. А ведь кино о войне снимается много лет, фильмотека огромна. Как и где Вы находили эти факты?
Мы же материал три года начитывали!
Письма солдат домой. А что в них? «Брали высотку. И вот мы туда попали и закрепились… Идет дождь… Удалось снять с убитого немца хорошие сапоги. Кажется, как раз мой размер…»
Находили редкие малоизвестные документы. Скажем, записки одного бывалого солдата.
Там удивительные вещи: как определить расстояние до предмета, надвинув на глаза каску, как определить расстояние до высоты с помощью выставленного пальца и той же самой каски. Или, допустим, как бежать в атаку и как падать под огнем вражеского пулемета. Нужно упасть и отползти в сторону, не по направлению бега. Отполз метров на пять-шесть в сторону, встал, опять пробежал шагов десять и снова упал. И так дальше, все ближе к врагу. Бывалый солдат рассчитывал скорострельность пулемета MG-42 и в зависимости от этого прикидывал, сколько секунд, сколько шагов можно пробежать, чтобы потом опять затаиться. Такие вот солдатские мудрости. Или как по идущему льду переходить с шестом. Нужно поймать «правильный лед». Это если, конечно, есть возможность ждать его. Много всего подобного мы нашли. Искали такие детали, факты, знания, которых нет в официальных книгах, воспоминаниях.
В гигантском количестве материала находили невероятные вещи.
Представьте, немцы ушли, но не смогли забрать с собой пушки. Вынули замки, прицелы и решили, что все: оружие негодно. Но они же не знали, на что способен кривой русский ум, поэтому были потрясены, когда их начали накрывать снаряды.
Что же делали наши?
Целились через дуло, пытались рассчитать траекторию – и рассчитывали. А чтобы выстрелить, били кувалдой. Ну, первому кисти рук оторвало. Поэтому сделали кувалду на длинной ручке. А поскольку плечо рычага увеличилось, пришлось держать ее вдвоем. Но пушки стреляли! И немцам не могло прийти в голову, что так будет.
Но все же мы не снимали строго документальный фильм. Поэтому слоганом здесь можно было бы взять начальные титры из фильма «12»: «Не следует искать здесь правду быта, попытайтесь ощутить истину бытия». (II, 67)
Детское кино
(2012)
Вопрос: Почему Вы не снимаете кино для детей?
Это слишком трудно. (I, 160)
Документальное кино
(2005)
Ценность документального кино в том, что оно вынуждено исследовать человека, в то время как художественное кино все чаще об этом забывает… (XIII, 2)
Западное кино
(1986)
Интервьюер: Почему так мало показывают у нас западных фильмов»?
Если открыть дорогу в страну западному кино – это будет катастрофа! Массовая культура Запада, простите за прописную истину, подтачивает нравственные корни человечества.
Порнография, насилие, террор, натравливание одних народов на другие, представление своих идейных противников чудовищами и кровожадными маньяками – все это западный и прежде всего американский кинематограф.
От этого мы должны быть ограждены.
С другой стороны, я считаю, что есть только две настоящие державы – СССР и США. Речь, конечно, уже не о «Рэмбо» и прочих пропагандистских проделках, а о настоящем кино.
И мы, и американцы делаем очень много фильмов. И они, и мы делаем лучшие фильмы, какие только существуют в кинематографе. По большому счету – мы и они делаем таких картин семь – десять в год. Не больше!.. Если иметь в виду высший международный уровень.
И вот такие картины мы должны видеть! (II, 12)
Историческое кино
(2003)
Интервьюер: А в каком кино сейчас вообще нуждается Россия?
В историческом. Это масштаб, умноженный на авторитет. И это не просто мои домыслы, я сужу по «Сибирскому цирюльнику».
Меня потрясло, что шестнадцати– и семнадцатилетние ребята смотрели мой фильм по восемь раз. Связано это с моим именем? Нет. На Михалкова идут те, кто помнит мои ранние фильмы и актерские работы.
Это связано с тем, что молодые люди увидели на экране некий масштаб, отчасти сравнимый с американскими блокбастерами, и с другой стороны, фильм рассказывает о людях, которые говорят на их языке, которые испытывают те же проблемы, что и они, которые любят, ревнуют, совершают поступки. (I, 95)
(2003)
Если наш кинематограф будет основываться на истории, на традиции, на том, на чем выросли многие поколения людей и стоит великая русская культура, дела, я думаю, пойдут на лад.
Проблема нашей режиссуры, к сожалению, заключается в отсутствии высокой культуры у представителей этой профессии. Сейчас режиссеры имеют доступ к любому кинематографу, Интернету, к любой информации. Но клиповое мышление не позволяет им потратить время на то, чтобы полноценно этим воспользоваться. В Интернете можно узнать про Анну Каренину, что эта женщина, которая была замужем, изменила мужу с молодым, он ее бросил, и она бросилась под поезд. Вот и вся история…
То есть мы можем узнать, что произошло, но не узнаем почему. А вот почему это произошло? На этот вопрос и уходит больше всего времени. (I, 97)
(2005)
Вопрос: Сегодня не хватает киноэпопеи о русской истории, правдивой, исторически выверенной по столпам Русского Православия и Святой Руси. По силам ли Вам эта задача?
Вы знаете, я думаю, что в любом случае вера человека и его принадлежность к стране или к корням – она должна проявляться не обязательно в прямом изложении. Она должна чувствоваться в человеке, и это или есть, или нет.
Поэтому я не сторонник таких декларативных вещей. Есть люди, которые это умеют делать и делают это на очень высоком уровне… Я могу представить себе такую картину в исполнении, скажем, Сергея Федоровича Бондарчука. Он бы, наверное, это мог сделать.
Я все-таки считаю, что отражение сильнее луча. То есть когда в капле отражается небо, а не наоборот. И вот в этом смысле для меня конкретная история, конкретные люди, конкретные персонажи, за которыми встает обобщение, этот путь мне ближе. (VI, 7)
(2006)
Интервьюер: Нет ли у Вас идеи создать фильм об историческом событии – Куликовской битве, Ледовом побоище?…
Что касается исторической темы, то у меня была написана очень серьезная расширенная заявка о Дмитрии Донском, куда входит и Куликовская битва. Но тогда некая псевдополиткорректость не позволяла картину сделать. Сегодня, я думаю, вопрос отпал.
К тому же написан замечательный сценарий «Жизнь и гибель Александра Грибоедова» со всеми документами и, самое главное, с абсолютно новой концепцией. (I, 123)
(2009)
Я могу лоббировать, скажем, создание ремейков исторических картин – об этом мы говорили с Владимиром Путиным. «Адмирал Нахимов», «Кутузов», «Корабли штурмуют бастионы»…
Современные зрители их практически не знают, но кто видит – случайно, по телевизору, в воскресенье днем, – тот столбенеет перед экраном от того, насколько замечательно это сделано.
Возрождение того, что называется «Большой стиль», должно начинаться отсюда. Пожалуйста, уберите лишнюю идеологию, если она там есть. А ее и нет в фильмах, которые я перечислил. Там был живой исторический патриотизм, что в нем плохого? С новыми актерами и при современных технологиях это мог бы быть грандиозный проект.
И я точно знаю, что мы его осилим. (I, 134)
Малобюджетное кино
(1998)
Существовать только в мире эксперимента и малобюджетного кино – это не выход из положения.
На чем держится это кино? Оно не собирает кассы. Мы взяли деньги у Госкино, получили господдержку. Сняли то, что удалось. От нас никто не требует, чтобы эти деньги вернулись.
Потрясающие возможности!
То есть я практически могу удовлетворять свои потребности, вне зависимости от того, талантлив я или нет, имею право или нет. А я вот так вижу и снимаю картину «Змеиный источник» с замечательной Остроумовой и Женей Мироновым, картину про маньяка-убийцу в деревне. А деревня эта может быть где угодно – в Гонолулу, Финляндии. В картине нет никакой привязки к личностному, корневому существованию.
Интервьюер: Зато называется красиво: психологический триллер.
Хичкок тоже снимал психологические триллеры, но он был гениальным режиссером, потому что за этим стояла точка зрения, философия. А тут ничего не стоит…
Мне интересно другое – имели ли возможность эти молодые люди общаться с тем миром, который находится не в Москве и не в Петербурге?
Да, там тоже есть грязь и пьянство, проститутки, убийства и мерзость, и все, что мы привыкли видеть на экране. Но если попытаться вглядеться в жизнь людей, которым выпала судьба жить в России сегодня, просто вглядеться и испытать спокойное, ровное, любознательное желание их выслушать. (Не проклятия, не «долой!», а выслушать.) И попытаться найти в том, что они говорят, то, что их держит на земле, то есть любовь, веру, надежду.
Вот в чем дело… (VI, 1)
(1998)
Интервьюер: Бюджет вашего «Сибирского цирюльника» составил сорок пять миллионов долларов. Работая в таком финансовом режиме, Вы способны адекватно оценивать проблемы малобюджетной индустрии?
А что, разве количество ответственности перед зрителем прямо пропорционально бюджету фильма?
И потом, что Вы считаете малобюджетным кино? Или Вы считаете, что это кино низкого качества? Знаете ли Вы, что в Италии малобюджетное, а попросту нищее кино дало целое течение неореализма? И это были картины, помогавшие людям пережить тяжелое время!..
Возьмите тех же «Похитителей велосипедов» или «Рим – открытый город»… На копейки это снималось, но это были фильмы, в которых люди узнавали себя!..
У нас малобюджетность – просто отговорка, оправдывающая кино безвоздушное. Кино, где никто никого не любит, где нет людей, которых жалко, где нет героев, на которых хочется быть похожими…(I, 69)
Мультипликационное кино
(2012)
Вопрос: Интересно ваше мнение о современной отечественной мультипликации. Ее мало или она плохо освещается?
Она есть, но ее не так много.
Если мы вспомним мультипликацию советской эпохи, потрясающие рисованные мультяшки, сказки на пушкинские стихи, на стихи Маршака, очень трогательные рисованные варежки («Рукавичка», по-моему, называлась), всякие восточные сказки – эти мультипликации были целой эпохой. И сегодня, я думаю, что возвращение к ним, оно очень желаемо. Но многие мультипликаторы боятся, как бы вернуться и не отстать. Потому что сегодняшняя мультипликация, анимационное кино носит философский, идеологический характер. Это кино, очень близкое по уровню мышления ненаивности художественного кино, и оно, конечно, превалирует. Но мне, честно вам скажу, дорога та мультипликация. Может быть, я отстал от жизни, но мне думается, что старая мультипликационная школа еще не умерла в России, и она требует огромной поддержки. И мне бы хотелось, чтобы класс и школа мультипликационные, они бы все-таки основывались на той великой нашей советско-русской мультипликации, на которой воспиталось огромное количество людей.
Нет ли у Вас в планах снять свой мультфильм?
Нет. Вы знаете, как говорится, где родился, там и сгодился. Я вообще стараюсь не делать того, за что я не могу полностью отвечать.








