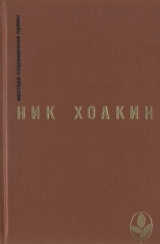
Текст книги "Женщина, потерявшая себя"
Автор книги: Ник Хоакин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
– О, пожалуйста, чувствуйте себя как дома, – любезно откликнулась Рита.
– Я, собственно, пришла взглянуть на ширму.
– Не могли бы вы прийти завтра? Или нет, завтра у нас закрыто. Первое полнолуние китайского Нового года.
– Кажется, в это время принято расплачиваться со старыми долгами? Я загляну к вам как-нибудь на неделе. Сейчас мне надо заехать к Кикай Валеро – мы с ней приглашены к кому-то на чай.
– Я тоже туда еду, – сказал падре Тони.
– На чай?
– Нет, к Кикай Валеро. Не могли бы вы подвезти меня?
– Конечно, падре. Но как это не похоже на Кикай – принимать духовника в такой неурочный час!
– Вообще-то я просто собираюсь спросить ее, где можно найти вашу дочь.
– Почему вас это интересует?
– Потому что я ищу ее.
– И не вы один. Ее несчастный муж, который приехал сюда вчера вечером, занят тем же самым. Но похоже, она не расположена встречаться с ним сейчас. Точно так же она не захотела видеть и меня. Но я не переживаю. У меня есть свои принципы, и, отдав дочь замуж, я не вмешиваюсь в ее личную жизнь. Мне не нравится быть тещей. И хотя вам, наверное, кажется, что я больше беспокоюсь о китайской ширме, чем о дочери, пожалуйста, не думайте, что я бессердечна.
Сеньора встала и повернулась посмотреть на себя в зеркало. Надев шляпку, она перебросила плащ через плечо и поправила золотую цепочку на шее:
– В конце концов, она ведь не потерялась. Она где-то здесь. Я слышала, что вчера вечером она была в «Товарище» и отлично провела время. Я тоже видела вас там – с Тексейрами. Вы все выглядели такими счастливыми, что мне захотелось присоединиться к вам.
– Почему же вы этого не сделали? – любезно спросила Рита.
– Боялась все испортить. Сразу было видно, что за вашим столиком царит любовь, и я ни за что не рискнула бы помешать вам. Глядя на вас, я испытывала искреннее наслаждение… а я теперь редко его испытываю. Мне нравится смотреть на счастливых молодых людей и хочется, чтобы они всегда были счастливы – я об этом молюсь. И мне было очень приятно узнать, что мисс Сильва тоже собирается замуж.
Молча дувшаяся в углу Элен вспыхнула и в ярости огляделась по сторонам.
– На каждом шагу, – продолжала сеньора, – я натыкаюсь на юных влюбленных. Должно быть, скоро весна. Жаль, что меня здесь уже не будет. Итак, падре, вы готовы? Мы не должны заставлять бедную Кикай ждать.
Глядя на удаляющуюся машину, Пепе сказал:
– Эта женщина или пьет, или страдает бессонницей. У нее опухшие веки и красные глаза.
Рита вздохнула и опустилась на диван. Маленький салон неожиданно показался ей скучным и серым.
– Пепе, тебе никогда не хотелось стать тореадором? – вдруг обратилась она к Пепе.
– Мой бог! – удивленно воскликнул он. – Что за странный, вопрос?
Элен, стоявшая возле двери туалета, лукаво улыбнулась:
– Рита хочет, чтобы ты был тореадором, а она – богатой и порочной женщиной и чтобы у вас была безумная любовь. Как сказала сеньора де Видаль, скоро весна.
Полулежа на диване, Рита внимательно изучала свое отражение в зеркале.
– Прости, – холодно сказал Пепе, надевая очки, – но я никогда не мечтал быть тореадором.
– Даже весной? – не удержалась Элен.
Когда «бентли» пристроился в очередь машин у парома, сеньора, молчавшая всю дорогу, сказала, повернувшись к падре Тони:
– Простите, я вела себя отвратительно.
– Вам не нравится, что я разыскиваю вашу дочь?
– Нет, не то. Вы осуждали меня.
– Мне кажется, ваша дочь серьезно больна. И тем не менее она не идет к вам, а вы не хотите пойти к ней. Почему?
– Подрастая, дочери отдаляются от матерей, особенно если раньше они были друзьями. Когда Конни была маленькой, она обожала меня. Теперь она знает обо мне слишком много.
– Что именно она знает?
– Вы хотите, чтобы я вам исповедалась, падре?
– Да.
– И не время, и не место.
– Разве вы оставили свою совесть в другом месте?
– А кроме того, я знаю, что вы уже знаете.
– Надо, чтобы это признание исходило от вас – тогда оно будет чего-то стоить.
Она отрицательно покачала головой:
– Нет, еще не время.
– Откладываете до смертного часа?
– Сначала разыщите Конни, – сказала она, – а потом уже займитесь мной.
Они уже были на пароме, пробиравшемся сквозь чащу парусов, но, сидя в теплой машине с поднятыми стеклами, не слышали ни плеска волн, ни свистков.
– Вы были несправедливы, – нарушила она молчание, когда паром приблизился к берегу, – сказав, что я оставила совесть в другом месте. Моя совесть всегда при мне, падре. Да, я наряжаю ее в меха и перья, хороню в драгоценностях, но, хотя я и прячу ее, я никогда не пыталась от нее отделаться. Она со мной и днем, и ночью, все эти долгие-долгие годы. Каждая ночь для меня как полнолуние в китайский Новый год: время платить старые долги. И каждое утро я чувствую, что наконец-то расплатилась сполна, но тотчас же опять приходит кто-нибудь с новым векселем. И все же не думаю, что я настолько порочна. Самый мой большой грех в том, что однажды я предпочла богу нечто другое. И бог не простил меня. Порой мне кажется, так никогда и не простит.
О, не пугайтесь, падре! Я слишком тщеславна, чтобы отчаиваться. Если мне ничто другое не поможет, меня спасет тщеславие. Как я могу потерять надежду, когда твердо знаю, что даже бог не в состоянии долго сердиться на такую очаровательную и красивую женщину, как я? И я надеваю эту желтую шляпку, вешаю на шею эту золотую цепочку, закутываюсь в плащ тореадора и чувствую себя в полной безопасности, когда люди оборачиваются поглядеть на меня и когда друзья говорят: «Конча Видаль ошеломляет и покоряет!» Но я одеваюсь не для них, я одеваюсь для бога. Я все еще пытаюсь обратить на себя его взгляд.
– Бог всматривается в сердца людей, а не в их одежду.
– Но я же женщина, падре, – упрямо возразила она, – и я убеждена, что богу угодно, чтобы женщины были прекрасны, как розы, райские птицы и бриллианты. Ему должны нравиться красивые вещи, иначе он не создал бы их так много. Никогда не могла понять, почему вы, мужчины, не цените усилий, которые женщины тратят, чтобы придать себе красоту. Красота – та же добродетель или по меньшей мере ответственность. Уродливая, некрасивая роза восстает против бога. И я уверена, что, стараясь сделать себя красивой, я служу богу так же, как роза или как вы сами, падре, когда стараетесь быть святым. Конечно, использовать красоту для достижения низких целей – греховно, но все же это не смертный грех. Смертный грех для женщины – полагать, будто богу безразлично, красива она или нет. Вот этобыло бы оскорблением святого духа, непростительным грехом. А я пока еще не совершила его.
– Я вижу.
– А когда я совершу этот грех, могу я призвать вас?
– Это доставило бы мне огромное удовольствие.
– На вашем месте я бы не была так уверена. К тому времени, когда я растеряю последние остатки тщеславия, я буду на полпути в ад и не думаю, что моя компания будет вам приятна.
Они были уже на другой стороне залива и теперь ехали по узкой улице, где между зданиями с мрачными викторианскими дворами и лестницами сновали клерки и судейские чиновники – все это напоминало романы Диккенса.
– А что, по-вашему, я тогда сделаю? – спросил он, когда они выбрались из прибрежных улочек и въехали в центр. – Брошу вам, как утопающей, веревку? И какую? Новый туалет из Парижа или последний журнал мод?
Она засмеялась и постучала в стекло шоферу.
– Вы мне напомнили – я должна купить Кикай цветы.
Из окна машины падре Тони смотрел, как она весело шутила со старой цветочницей. Но когда она уже шла обратно к автомобилю в сопровождении шофера, несшего хризантемы, ее смеющиеся глаза вдруг напряженно застыли. Проследив за ее взглядом, падре Тони успел увидеть исчезавший вдали белый «ягуар». Он выскочил из машины.
– Это ваша дочь!
– Да, я видела.
– Велите шоферу ехать за ней.
– Нет, падре, я этого не сделаю.
– Тогда до свидания. Я поймаю такси.
Она удержала его за плечо.
– Бесполезно, падре. Она уже исчезла. Как вы ее догоните?
В раздражении он попытался стряхнуть ее руку со своего плеча. Одетые в черное китайцы уже начали собираться вокруг сердито глядевших друг на друга разгневанного монаха и женщины в золотых украшениях. Ее рука упала с его плеча.
Повернувшись к шоферу, который по-прежнему держал в руках охапку хризантем, она коротко приказала:
– К миссис Валеро, – и села в машину. – Садитесь же, падре.
Автомобиль снова влился в поток машин.
– Пожалуйста, постарайтесь понять меня правильно, – сказала она, помолчав. – Конни первая должна прийти ко мне.
– Почему? В вас говорит гордыня?
– Напротив, падре, совсем напротив. Я полагаю, что не имею права навязываться ей до тех пор, пока она не простит меня…
– …за то, что вы отдали ее в жены своему бывшему любовнику?
– Она думает, я ненавижу ее. Она считает, что я сделала это из ненависти к ней. И может быть, так оно и есть, может быть, она права. Может быть, я действительно сделала это из ненависти. И я могла быть когда-то счастлива, но я отказалась от своего счастья ради Конни. Тогда она была еще совсем ребенком, и я не хотела губить ее жизнь. Но может быть, как раз поэтому я и ненавижу ее с тех пор… Скажите, падре, перестанем ли мы когда-нибудь ненавидеть людей, ради которых жертвуем собой?
Машина выбралась из оживленного центра и теперь медленно поднималась по уютной тихой улице – двери домов были расположены высоко над тротуаром, и к ним вели ступеньки, которых становилось все меньше по мере того, как дорога шла вверх.
– Так как же я могу пойти к ней, зная, что она ненавидит меня и думает, что я тоже ненавижу ее?
– Но вы действительно ненавидите ее?
– Я сама не перестаю удивляться – на какое только зло я способна!
– По-моему, вы недавно утверждали, что не так уж порочны.
– Но я просто не ведаю, что творю.
Машина остановилась возле лестницы.
– Если человек сделал первый шаг по пути, ведущему вниз, – сказала она, – значит, он пройдет весь путь.
– Ради бога, поймите, что сейчас самое время остановиться, иначе будет поздно – и вы окажетесь на самом дне.
– Поверьте мне, падре, я остановилась уже давно. Но векселя все еще приходят, надо платить по старым счетам.
Шофер вышел из машины и открыл дверцу.
– Она ведь думает, что я замышляла погубить ее еще тогда, когда она так любила меня!
– Замолчите, – нервно сказал падре Тони, глядя в открытую дверцу машины. – Ради бога, замолчите!
Она на секунду отвернулась, затем поправила шляпку и плащ, потеребила золотую цепочку на шее и улыбнулась.
– Не будем заставлять бедную Кикай ждать духовного утешения.
Когда она вышла из машины, шофер, придерживая одной рукой дверцу, поднес два пальца к фуражке.
В мире, в котором росла Конча Видаль, даже животные были церемонны и полны благочестия. Когда звонили к вечерне, дети на улице прекращали игры, мужчины откладывали газеты, женщины и прислуга торопливо выбегали из кухни и все домашние собирались вокруг семейного алтаря, где тускло поблескивали в свете свечей иконы в золоченых окладах и статуэтки святых в негнущихся одеяниях. Запыхавшись и вспотев, Кончита Хиль прибегала в комнату, когда отец и мать уже стояли возле алтаря, а вокруг них преклоняли колена дети, тетки – старые девы, и слуги. Затем мать начинала таинственный диалог, который маленькой Кончите Хиль пришлось выучить наизусть, как только она начала говорить.
– Angelus Domini nuntiavit Mariae…
– Et concepit de Spirit и Sancto…
– Dios te salve, Maria, llena eres de gracia… [12]12
– Ангел Господень благовестил Марии…
– И зачала она от Духа Святого… (лат.)
– Храни тебя Господь, Мария, исполненная благодати. (исп.)
[Закрыть]
Все еще задыхаясь, она шептала ответы, стоя на коленях рядом с братьями и сестрами, и, уставившись на святых, заключенных в стеклянные ящики, на иконы в вычурных окладах, прислушивалась к шуршанию на стене. Краешком глаза она успевала увидеть, как серебряные маленькие – не больше пальца – ящерицы спускаются по стенке на пол, чтобы тоже поклониться деве Марии, потому что, как уже хорошо знала маленькая Кончита Хиль, при первых же звуках колокола, призывающего к вечерне, домашние ящерицы непременно спускаются со стен и потолков, чтобы головой коснуться земли – по этой причине на Филиппинах их никогда не обижают и называют «слугами пресвятой девы». И если маленькая Кончита Хиль опаздывала к вечерней молитве, наказание неизбежно предварялось сентенцией: «Даже животные знают, когда пора молиться»; и для маленькой Кончиты Хиль это утверждение было неоспоримым фактом, превратившимся многие годы спустя в поблекшую сказку для Кончи Видаль, которая металась без сна по роскошным комнатам, где с потолка на нее не глядели ящерицы, и жила в мире, где человек завидовал животным именно потому, что они не молятся.
Ей было пятнадцать лет, когда она встретила своего первого мужа. Это случилось апрельским вечером, в девятисотые годы, в начальный период американской оккупации, когда Манила была еще небольшим и довольно грязным городом керосиновых ламп и красивых карет, красных черепичных крыш, темных улиц и каналов, городом усатых молодых людей в соломенных шляпах и белых пиджаках, наглухо застегнутых под самое горло, городом женщин, носивших высокие, взбитые прически и замысловатые туалеты: пышные юбки со шлейфами, причудливые ожерелья, тонкие блузки с широкими рукавами, вздымавшимися над плечами прозрачными крыльями.
В тот апрельский вечер Кончита Хиль впервые надела такой наряд. Мать дала ей свои бриллианты и розовую шаль с белой бахромой, и девочка выглядела слегка испуганной и в то же время счастливой – семья собиралась в театр на премьеру, а в те дни это было довольно рискованным предприятием, ибо национальный театр, еще не познавший конкуренции кинематографа, настолько живо и смело воссоздавал эпизоды недавней революции, что после первого акта премьеры зрители гадали, разрешат ли власти показать пьесу до конца. Американцы только что подавили восстание и теперь нервно следили за прессой и за театром. Незадачливые строители империи провозгласили своей целью «христианизировать и цивилизовать туземцев» и постоянно искали доказательства зреющего бунта – не только в виде маузеров под рубашками, но и в виде протеста, скрытого за витиеватой испанской прозой газет и сочным национальным языком на сценах театров – дощатых сарайчиков, где у зрителей появлялся под носом налет сажи от коптящих газовых фонарей и учащенно бились сердца, разгоряченные патриотическими речами.
В тот вечер от премьеры ожидали многого, а семейство Хиль имело к этому спектаклю самое непосредственное отношение. Либретто к новому мюзиклу написал молодой поэт, который ранее издавал газету при финансовой поддержке отца Кончиты (в те дни в Маниле каждый уважающий себя человек издавал газету) и за год до того опубликовал серию гневных статей на злобу дня, заклеймив пришлых авантюристов. Несколько американцев почувствовали себя оскорбленными, возбудили дело о клевете и выиграли его – процесс потряс всю страну. Чтобы уплатить штраф (и спасти молодого редактора от тюрьмы), отец Кончиты заложил загородный дом, а мать продала свои лучшие драгоценности; детям же было сказано, чтоб они целый год не смели просить никаких обновок. Газету пришлось закрыть, но ее бывший редактор не успокоился, и вскоре ему опять грозили неприятности – на сей раз уже как драматургу. Вот почему, когда Кончита Хиль вошла с родителями в зал, она услыхала, как в публике заключают пари; остановят ли премьеру уже после первого акта.
Перед самым началом спектакля в их ложе появился молодой человек в вечернем костюме. Он обнял отца Кончиты, поцеловал руку ее матери, а потом почтительно склонился и над ее рукой. Это и был Эстебан Борромео: «Я тот самый негодяй, сеньорита, – с серьезным видом заявил он девочке, прятавшей за веером пылающее от смущения лицо, – из-за которого вы целый год не могли купить себе новых туфелек». У него были сверкающие глаза, нафабренные усики и чувственный рот, и весь он до кончиков ногтей являл собой идеал мужской красоты того времени (а в те годы красавцами считались молодые люди байронической наружности). Он казался очень спокойным, но его спокойствие было не более чем затишьем перед бурей, и, когда в середине второго акта в театр прибыли жандармы, чтобы остановить представление, он выскочил из суфлерской будки, бросился к рампе, сорвал с себя галстук и начал пламенную речь. «Где бы ни развевался звездно-полосатый флаг Вашингтона…» – только и успел сказать он, размахивая галстуком, как знаменем, когда жандарм ударил его рукояткой пистолета по голове и поволок за кулисы сквозь толпу сбившихся в кучу актеров.
Семейство Хиль с трудом выбралось из охваченного паникой театра на взволнованно гудящую улицу: женщины плакали, мужчины громко подзывали экипажи, испуганные лошади ржали и лягались. Забыв обо всем, юная Кончита Хиль посмотрела наверх и увидела тонувшую в слезах пасхальную луну. Когда подъехала их карета, девочка отказалась ехать домой и осталась с отцом, чтобы узнать, чем кончилось для молодого поэта размахивание галстуком-знаменем.
Казалось, всех остальных интересовало то же самое: в холле старого каменного особняка – американцы использовали его для скорого ночного суда – толпились люди, пытаясь проникнуть в зал, вход в который охранял американский солдат. Через открытую дверь было видно, как при свете свечей, отраженном и умноженном зеркалами, американские офицеры записывали имена обвиняемых, все еще пребывавших в том же настроении и одетых в те же костюмы, что и на сцене. На диване лежал Борромео, и какая-то женщина прикладывала к его голове лед.
Услышав шум, поэт встал и с улыбкой направился к дверям, на ходу подкручивая усы. Солдат преградил ему путь ружьем. Молодой Борромео остановился и начал перебрасываться словами с друзьями, которых он увидел в толпе. Да, все в порядке. Нет, его не ранили. Да, конечно, он лишился галстука, и на голове у него шишка, но это пустяки. «А вычто здесь делаете?» – удивленно воскликнул он, увидев Кончиту Хиль, которая локтями проложила себе дорогу сквозь толпу и теперь стояла прямо перед ним, отделенная от него только стволом винтовки. Он посмотрел на ее заплаканные глаза, судорожно искривленный рот – лицо его посерьезнело, и он понизил голос до шепота. Ей понравился его мюзикл? Жаль, что ей не удалось досмотреть до конца. Когда-нибудь – может быть, даже завтра! – он расскажет ей, что там было дальше. А теперь ей пора домой, пора спать. У нее завтра с утра уроки, разве нет? Он взял ее руки в свои и прикоснулся к ним губами. Поверх шишки на его голове он увидела мерцающие зеркала, загримированные лица актеров и равнодушный профиль американского часового.
Когда они с отцом ехали обратно, она услышала крик петуха – услышь она этот крик сквозь сон еще вчера, перед ее глазами сразу же ожили бы знакомые образы: босые ноги в мутной, коричневой воде, запах спелых гуав, отзвуки смеха, эхом разносящегося в летнее время по деревне. Теперь же она услышала только этот крик – чистый, одинокий, требовательный, – и на него не откликнулось даже эхо. Впервые она вырвалась из потока времени и оказалась перед фактом жизни в полном одиночестве, осталась с ним с глазу на глаз. Петух кричал ей одной. Отец дремал в углу кареты, сложив руки на набалдашнике трости, впереди возвышался на козлах безголовый силуэт клевавшего носом извозчика. Мимо медленно проплывали дома, лошади рассекали грудью лунный свет, и стук их копыт только подчеркивал тишину ночи. Она была одна во всем мире и, наклонившись вперед, с трепетом вслушивалась в крик петуха; вдруг, поняв звучащий в этом крике восторг, она вздрогнула. Она стала взрослой именно сейчас, а не в тот день, когда ей впервые поднесли цветы, и не в тот день, когда она впервые сделала себе взрослую прическу. Тогда она была просто девочкой, надевшей длинную юбку и игравшей во взрослую; теперь же она, инстинктивно стремясь спрятаться от всех, с головой закуталась в шаль. Забившись в угол кареты, она сидела молча в темноте, боясь, как бы не проснулся отец или не обернулся кучер.
Мать ждала их. Взбежав вверх по лестнице, Кончита почувствовала, что сгорает от стыда, и ее поразило, что мать смотрит на нее без всякого удивления и разговаривает обыденным тоном, будто и не подозревает о ее преображении. На кухне за горячим шоколадом и жареным рисом с яйцами она исподтишка следила за родителями и впервые в жизни с интересом прислушивалась к их разговору, присматривалась к тому, как они глядят друг на друга, и ей казалось, что они говорят на особом тайном языке, который она только что расшифровала. Она прошла в детскую и пренебрежительно взглянула на двух спящих сестер, потом долго и внимательно рассматривала себя в зеркале, принимая различные позы и вглядываясь в холодный блеск бриллиантов в волосах. Наконец, она разделась и легла, но не могла заснуть и снова встала, на цыпочках прокралась в кабинет отца, отыскала на полках книгу и, подойдя к окну, стала вместе с луной читать поэмы, которые написал онв студенческие годы в Мадриде. Слова были испанские, и стихи звучали как волнующая страстная музыка. Глаза ее расширились от ужаса и удивления – в поэмах было немало кощунства: Приап, соблазняющий святую Терезу, языческая Афродита, пирующая на свадьбе в Кане Галилейской, где Христос претворял воду в вино. Она слыхала, что поэт дерзок и порочен, но сейчас вспоминала его серьезную улыбку, его мягкость; она снова почувствовала прикосновение его губ к своим рукам и прижала книгу к груди. Нет, он был добр, смел и благороден, он был патриотом! Времена подвигов еще не прошли; улыбаясь, она вспомнила, как маленькой девочкой оплакивала за дверью всех героев, отправлявшихся в изгнание. Она так и заснула на подоконнике, прислонившись к оконной решетке, прижав книгу к груди – распущенные волосы ниспадали на пол. Утро разбудило ее звоном колоколов, уличным шумом и жарким светом.
Когда месяц спустя Эстебан Борромео вышел из тюрьмы, его всюду принимали как героя, и особенно тепло в доме у Хилей; Борромео теперь ухаживал за юной Кончитой. Он пришел к Хилям, чтобы утешить робкую девочку, чьи слезы так тронули его, но вместо нее нашел там хладнокровную надменную кокетку; сначала он растерялся, потом это его начало забавлять, потом раздражать и возмущать, и наконец он почувствовал себя совершенно несчастным… Тем временем ей исполнилось шестнадцать лет. И снова с ней произошла чудесная метаморфоза. До того она не уделяла ему особого внимания, держала его где-то за пределами круга своих обожателей. А тут она вдруг выскользнула из этого круга, разогнала всех прочь, и остались только трое: он, она и ее старая незамужняя тетка – традиционная троица, потому что в те времена трое составляли не толпу, а треугольник, в котором любили друг друга только двое – незамужняя тетка была лишь ритуальным приложением. Счастливый, но все еще несколько озадаченный, он увидел, что недавняя кокетка пылко его любит. Когда он сделал ей предложение, она объяснила:
– Папа и мама давно поняли, что я люблю вас, но они потребовали, чтобы я и думать не смела о помолвке, пока мне не исполнится шестнадцать лет.
Времена, когда филиппинских девушек выдавали замуж в четырнадцать или пятнадцать лет, уже миновали.
– Так как же я могла дать вам понять, что люблю вас? Если бы вы ответили мне взаимностью, мне бы пришлось бежать с вами, как бы к этому ни отнеслись родители. И я смирилась сердцем, притворилась, что вы для меня ничего не значите, держала вас на расстоянии, была с вами жестокой. Я заставила вас страдать? Но не забывайте – я тоже страдала.
Эстебан чуть ли не с благоговением взглянул на эту совсем еще юную девушку, которая сумела на время приглушить свою страсть и в течение года разыгрывала хитроумную комедию – и все это лишь потому, что не хотела огорчать родителей. Повиновение родителям воспитывалось веками, на этом стояли империи, а она превратила послушание – добродетель весьма пассивную – в целый спектакль. Но она же была и той девочкой, которая плакала в театре апрельской ночью и, подойдя к нему, забыла утереть слезы. Слезы стояли у нее в глазах и сейчас, в волосах путались разноцветные конфетти – был карнавал, и они танцевали на ярмарке под звездным небом. Над головой крутились огненные шутихи, трубы объявили о выборах королевы карнавала – и они в смущении обнаружили, что стоят обнявшись, хотя музыка кончилась. Он повел ее к тому месту, где сидела тетушка, но по дороге явственно осознал, это еговедут – и к тетушке, и ко всему тому, что тетушка собой символизирует. Если бы всем дирижировал он, противодействие родителей, вероятно, вызвало бы у него обратную реакцию: он устраивал бы тайные встречи, плел интриги и в одну прекрасную ночь выкрал бы ее из родительского дома. Она спасла его от всей этой мелодрамы, искусно направила байронического бунтаря по проторенным дорожкам традиции, и он с грустью вынужден был признать, что сам рад этому. Как и она, как и все их поколение, которому было суждено начать жизнь с революции, а в конце пути скорбно преклоняться перед прошлым, он имел романтические замашки, но классические привычки. На следующий день он послушно явился в ее дом со своими родителями и официально сделал предложение.
Во время этой церемонии она сидела в своей комнате, лакомилась ломтиками зеленого манго, макая их в соль, и прислушивалась к голосам в гостиной, в то время как с разрисованного розами потолка добрые приятельницы-ящерицы удивленно таращили на нее глаза. Когда за ней пришла мать, она расплакалась, рассыпала соль и уронила шкурки манго на пол. Ее провели в гостиную, и она поцеловала руки родителям своего возлюбленного. Мать надела ей на запястье браслет, отец произнес подобающий тост, а потом она и Эстебан вышли на террасу, где ясный январский день никак не хотел уступать свои права ночи. Там, среди горшков с цветами, клеток с птицами, он произнес восторженный панегирик их будущему: ему уже предложили издавать новую газету на испанском языке, он заканчивал вторую книгу стихов, собирался заняться политической деятельностью, создавал компанию по добыче золота. Впереди великие времена, будущее – неисчерпаемый золотой рудник, говорил Эстебан Борромео от имени поколения, лишенного будущего.
В те дни по всей стране молодые люди издавали газеты, писали стихи, выставляли свои кандидатуры на выборах, искали золотые жилы. В огне революции возник особый мир, в котором большую роль играли поэты и художники – их деятельность имела прямой политический эффект; на смену этому поколению пришло новое – Эстебаны Борромео, молодые люди, те, что студентами в девяностых годах обдумывали заговоры в кафе Мадрида и Барселоны, голодали в парижских мансардах; те, которых во время революции на Филиппинах испанские власти отправили в военные тюрьмы Марокко; те, которые с началом войны против американцев сумели вернуться на Филиппины и ознаменовали начало нового века восстанием. Но пройдет всего два десятилетия, и они превратятся в анахронизм – никому не нужные, они будут собираться друг у друга, чтобы оплакать прошлое и обругать настоящее. Будущее, о котором они говорили, захлебываясь от возбуждения, окажется для них тупиком. Их делу не суждено будет продолжиться, их племя вымрет, а с ним кончится и его история. Мировоззрение нового поколения будет сформировано не этими героями с прекрасными манерами и безукоризненным испанским – следующее поколение будет говорить вообще на другом языке. Народ, достигший в испанском языке таких же высот, как Бодлер во французском, будет учить азбуку другого языка, и молодые люди, занимавшиеся литературой в девятисотые годы, обнаружат, что их собственные дети не читают и не понимают их произведений. Отцы говорили на языке европейцев, их дети будут говорить на языке американцев. Черты, присущие поколению Эстебана Борромео, бесславный путь этих людей от полей революционных сражений до ностальгических разговоров в гостиных в тридцатые годы можно проследить в именах, которые Эстебан Борромео дал своим четырем сыновьям: первого он назвал Виктором в честь Виктора Гюго, второго – Порфирио в честь Порфирио Диаса [13]13
Диас, Порфирио (1830–1915) – мексиканский политический и государственный деятель, генерал. Во время французской интервенции в Мексику (1861–1867) командовал крупными отрядами патриотической армии.
[Закрыть], третьего – Рубеном в честь Рубена Дарио [14]14
Дарио, Рубен (1867–1916) – крупнейший никарагуанский поэт.
[Закрыть]и четвертого – Энеем в честь легендарного греческого героя.
Но в тот день, стоя на террасе среди горшков и клеток, он еще не боялся будущего, не проклинал настоящее и не оплакивал прошлое. Он – сама история в победном шествии, объяснял он; слушая его, юная Кончита Хиль почувствовала, что их помолвка становится событием великой важности, и эти предвечерние сумерки будут описаны в сотнях книг, страницы которых будут изобиловать сносками, поясняющими, какое на ней было в тот момент платье, как щебетали в клетках птицы и какая стояла погода. Она с волнением огляделась по сторонам, чтобы получше запомнить этот день, неожиданно отвернулась от жениха, подошла к балюстраде и увидела город, наполовину погруженный в ночной мрак, поверх которого еще разливался свет заходящего солнца: крыши и колокольни были отчетливо видны, но сами улицы уже потонули в чернильной темноте, казалось поднимавшейся из-под земли. Через много лет ей придется ползком, как дикому зверю, пробираться через руины этого города, раздирая в клочья платье о колючую проволоку, а вокруг будут рваться бомбы. Но сейчас она еще ничего не боялась, она стремилась в будущее и прижалась к груди своего возлюбленного, а звучавший в ее крови голос праматерей говорил ей: что бы ни случилось, всегда перед нею, как и некогда перед ними, будут эти старые крыши и башни, все так же будут в сумерки звонить колокола и те же ящерицы будут спускаться с потолков, чтобы коснуться головой земли.
Она росла вместе с веком. Хотя все говорили о переменах и новых веяниях (испанцев наконец выдворили из страны, и их место заняли американцы), никто на самом деле не ждал, да и не хотел, чтобы старые традиции умерли. Повстанцы девятисотых годов враждебно встречали любое отклонение от прежних привычек; лишь очень немногие допускали, что приход американцев изменит укоренившийся образ жизни. Большинство поверило, что эти огромные чужие люди прибыли сюда на время с коротким инспекционным визитом. Ненависть к ним угасала, от партизанских отрядов остались лишь группки снайперов в провинциях. Говорили, что скоро янки уйдут и в стране возродится старая культура – ее расцвет, казалось, уже предвещали оживление прессы, театра и обилие поэтов.
Кроме того, в начальный период оккупации американцы даже в Маниле не мозолили филиппинцам глаза, и потому люди скоро вообще забыли об их присутствии. Конечно, открылось немало баров для американской солдатни; приехали учительницы-американки и на английском языке стали рассказывать маленьким филиппинцам о Шалтай-Болтае и Красной Шапочке; в протестантских церквах американские пасторы и их жены занимались «христианизацией туземцев»; и все, конечно, знали, что старый дворец испанских вице-королей в Маниле теперь занимает американский генерал-губернатор. Но пока что солдаты, учительницы и миссионеры были для филиппинцев единственными представителями новых попечителей. Остальная часть растущей американской общины держалась замкнуто и настороженно, и, хотя со временем американцы стали чувствовать себя вольготнее, все же их общение с местным населением никогда не было активным, и только много позже, к началу второй мировой войны, стало модным говорить о братстве двух народов. До той поры сказать «она ходит с американцем» значило нанести страшнейшее оскорбление филиппинской девушке, а в девятисотых годах сама мысль о том, что такое возможно, казалась дикой. Конечно, изредка с ужасом поговаривали, что чья-то кухарка или соседская прачка живет с американцем, но большинство филиппинских женщин вели в те времена настолько замкнутую жизнь, что даже десять лет спустя после прихода американцев они (с содроганием вспоминая легенды военных лет об оккупантах: ростом выше деревьев, пьют бочками и охочи до женщин) так и не знали, как же выглядят эти «американо», а потому ходили по улицам с опаской, боясь неожиданной встречи с ними.







