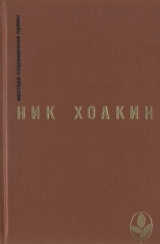
Текст книги "Женщина, потерявшая себя"
Автор книги: Ник Хоакин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
– Но ведь есть же у тебя сила воли?
– Нет, я лишился ее там. И вообще оставь меня в покое!
– Пошли. Уже холодно.
– Ничего.
– И Мэри ждет.
– Иди и скажи ей, чтоб не ждала. Скажи, что у меня болит голова и мне нужно побыть на воздухе. Я скоро приду.
– Я подожду тебя.
– Оставь меня в покое! Убирайся к черту, слышишь?
– Ладно, старина.
Пепе встал и, еще раз взглянув на Пако, который опять уткнулся лицом в траву, зашагал прочь. Вокруг стелился легкий туман, и он чувствовал себя как Алиса, пробирающаяся в Зазеркалье. Но, подумал он, это не я шагнул сквозь зеркало, а Пако и отец. Зеркало разбилось. И они не могут вернуться, во всяком случае, отец точно не может…
Отец, конечно, уже поужинал и сейчас в постели, но не спит. Он вообще почти не спит по ночам, просто неподвижно лежит и всматривается в темноту, как Пако, который сейчас уткнулся лицом в траву. Отец очень мало рассказал о том, что он видел по ту сторону зеркала. Но человек, который вернулся оттуда, был не похож на прежнего доктора Монсона, подумал Пепе и вспомнил, как он услышал шаги в комнате отца в день, когда тот должен был еще быть в Маниле.
Когда великая весть о том, что филиппинский флаг развевается теперь над архипелагом в суверенном одиночестве [10]10
До предоставления Филиппинам независимости в 1946 г. филиппинский флаг развевался на флагштоках рядом с американским.
[Закрыть], дошла до Гонконга, отец был болен и не мог присутствовать на церемонии провозглашения независимости. А когда он достаточно оправился для короткого путешествия, то решил поехать в Манилу один – он не хотел, чтобы кто-либо сопровождал его в этой поездке, – поездке, о которой он мечтал целую жизнь. Пепе пришлось отложить женитьбу – он и Рита Лопес были помолвлены в год окончания войны, – так как отец пожелал, чтобы свадьбу сыграли в их старом доме в Маниле. Он обещал немедленно отремонтировать дом; Пепе должен был вслед за отцом отправиться со своей невестой на Филиппины. Когда старик отплывал из Гонконга, он сам был похож на молодого жениха: подтянутый и бодрый, он, не скрывая радости, махал сыновьям с палубы корабля, который увозил его на родину после полувекового изгнания.
Меньше чем через месяц он вернулся, никого не предупредив. Как-то раз дождливым полднем Пепе, придя домой после очередного обхода конюшен, услыхал, что в отцовской комнате кто-то ходит. Он не узнал шаркающих шагов. Не снимая мокрого плаща, прямо как был, в галошах, он кинулся наверх и нашел там отца, который так изменился и выглядел таким хрупким, словно отсутствовал не месяц, а долгие годы. Взглянув на него, Пепе сразу понял, что не следует выдавать удивления.
– Когда вы приехали, папа? – спросил он, целуя старика в щеку.
– Только что. Я прилетел.
– Надо было дать телеграмму.
– Не успел. Я очень торопился.
Снимая галоши, Пепе ждал дальнейших объяснений. Но их не последовало. Отец проворчал, что в его комнате грязно. Услышав в голосе отца жалобные нотки, Пепе вздрогнул. В комнате на самом деле было чисто.
– Я скажу слуге, чтобы он здесь прибрал, – сказал Пепе. – Пойдемте вниз и выпьем чаю.
– Сначала я умоюсь, – ответил старик.
Но когда Пепе снова поднялся к нему в комнату, отец спал, уронив голову на ручку кресла. Пепе позвонил брату и Рите Лопес и упросил их прийти на ужин, но предупредил, что с отцом что-то случилось и не следует утомлять его вопросами.
За ужином старик был молчалив, но если раньше он молчал, погружаясь в мысли, то теперь его молчание было таким же пустым, как и взгляд, которым он смотрел на украшенный цветами стол и на шампанское, купленное, чтобы отпраздновать его возвращение. Сразу после ужина он извинился и поднялся из-за стола: он устал и хотел пораньше лечь спать. Поцеловав Риту в щеку, он пошел наверх, его сыновья последовали за ним, помогли ему раздеться и уложили в постель.
Когда они спустились в гостиную (она также служила Пепе кабинетом), Рита принесла кофе. Все трое страшно устали и хранили молчание, словно в доме был покойник. Пододвинув диван к окну, они сели вместе и молча пили кофе, глядя на проливной дождь и огни парома, тускло мерцавшие сквозь шторм. Когда наконец они нарушили молчание, то заговорили шепотом.
– Но ведь он же писал вам? – спросила Рита. – Что было в письмах?
– Ничего такого, что могло бы объяснить это, – ответил Пепе.
– В письмах отец так же сдержан, как и в разговоре, – улыбнувшись, сказал Тони. Он был в белой домашней сутане: не успел переодеться в черную – все гонконгские монахи появляются на людях в черных сутанах. – Но я почувствовал что-то неладное, когда от него пришло первое письмо, затем второе, а потом и последнее, и ни в одном из них он не написал, что наконец-то может сказать: «Nunc dimittis servum tuum, Domine».
Произнося латинские слова псалма Симеона, он улыбнулся Пепе через голову Риты. Пепе слабо улыбнулся в ответ. Когда они были детьми, отец каждый вечер водил их с собой в церковь – по воскресеньям в собор, а по будним дням в доминиканскую церковь, – чтобы послушать псалом Симеона. Он объяснял им, что в переводе эти слова означают: «Ныне отпущаеши раба своего, господи», и говорил, что, когда вернется на родину, сможет, как Симеон, сказать : «Nunc dimittis…»
– Этот псалом поют во время вечерни? – спросила Рита.
Она сидела между братьями, потягивая кофе. Когда-то она пела в церковном хоре.
– Во время повечерия, – поправил Тони.
– А, ну да. Псалом Симеона – когда все встают.
– А мы с тобой, – улыбнулся Тони брату, – при этом еще и перемигивались.
– Мы мечтали о Маниле, – объяснил Пепе Рите, – о реке, в которой мы собирались плавать, вернувшись туда, потому что псалом напоминал нам о возвращении на родину, а возвращение на родину мы всегда связывали с купанием в реке, где, как говорил папа, полно дохлых собак и свиней. – Он помолчал и добавил: – Но хотя мы и подмигивали друг другу, мы воспринимали этот псалом всерьез.
Пепе говорил с печальной торжественностью, словно оправдываясь. Он все еще остро ощущал пустоту молчания отца. Каждый по-своему, но все они предали его: мать умерла, Пепе стал ветеринаром, а Тони ушел в религию. Повзрослев, они начали относиться к мечте отца, как к некой навязчивой идее. Они отступились, бросили старика, и он в одиночку продолжал поклоняться своей – святыне. А теперь поклонение кончилось, свечи догорели. Остались только пустая темнота и пустое молчание.
– Мне надо было поехать с ним! – вдруг громко сказал Пепе.
– Пожалуйста, не вини себя, – откликнулся Тони. – Отец хотел поехать один.
– Только потому, что понял: мы уже не верим в его мечту.
– Мы ничего не могли поделать.
– Мы могли бы защитить его от того, что там произошло. А как мы поможем ему теперь, если даже не знаем, что случилось?
– Возможно, он просто устал с дороги, – заметила Рита, собирая чашки. – Пусть отдохнет. А потом постараемся выяснить, что же все-таки было в Маниле.
– Он не скажет, – покачал головой Пепе, вспомнив отсутствующий взгляд отца. – Он даже не хочет вспоминать об этом, разве ты не видишь?
– Не волнуйся, старина, – сказал Тони. – Отец – храбрый человек. Это пройдет. Он переносил и не такие удары судьбы.
– Пойду вымою чашки, – сказала Рита, – а потом вам придется проводить меня домой.
– А я пойду взгляну на него, – решил Тони.
Оставшись в одиночестве, Пепе встал и подошел к окну. Он думал об отце, который всегда слушал «Nunc dimittis…»,строго выпрямившись и прижав руку к сердцу. Рита вернулась из кухни, и он помог ей надеть плащ. Они не говорили о том, что у них на душе, но было ясно – свадьбу опять придется отложить.
Спустился Тони и сообщил, что отец не спит.
– Сначала я думал, он заснул, но, наклонившись над ним, заметил, что он лежит с открытыми глазами. Я позвал его, но, кажется, он меня не слышал.
– Пожалуй, не стоит оставлять его одного, – сказал Пепе. – Тони, будь добр, проводи Риту домой.
Всю ночь Пепе пролежал в постели без сна, зная, что отец тоже не спит. На рассвете он услышал какой-то шорох. Он встал, набросил халат и прошел в соседнюю комнату. В полной темноте старик сидел в качалке. Пепе включил свет.
– Вы рано встали, папа.
– Я не мог заснуть.
– Да, мне тоже дождь не давал спать.
– Нет, не дождь. Пыль, пыль…
– Сегодня прислуга тщательно все здесь вытрет.
– И крабы. Они везде. Куда ни ступишь, обязательно раздавишь краба.
Пепе услышал, как гулко бьется его сердце.
– Крабы и пыль, крабы и пыль, крабы и пыль, – монотонно повторял старик в такт качалке.
– Может быть, примете снотворное, папа?
– Нет.
– А кофе будете?
– Да, спасибо.
Когда Пепе вернулся с кофе, старик все так же покачивался в кресле. Пепе пододвинул стул и сел напротив отца.
– Расскажите мне о Маниле, папа. Как она показалась вам?
Старик молчал, покачиваясь в кресле. Он дул на кофе и отпивал его маленькими глотками.
Пепе чуть повысил голос:
– Вам понравилось в Маниле, папа?
Старик по-прежнему, казалось, ничего не слышал и мерно покачивался.
Пепе поставил свою чашку на пол, наклонился вперед и положил руку на колено отцу, чтобы остановить качалку.
– Послушайте меня, папа. Это я, Пепе, ваш сын. Со мной вы можете говорить откровенно. Вы можете сказать мне все.
Старик оторвал взгляд от чашки и посмотрел на него без всякого выражения.
– Расскажите мне, что случилось. Вы слышите меня? Умоляю, расскажите мне, что случилось.
Старик откинулся в кресле и закрыл глаза.
– Оставь меня, – вдруг холодно сказал он. – Ступай, ступай. Оставь меня в покое.
А сейчас, думал Пепе Монсон, выходя на улицу, Пако говорит то же самое, уткнувшись лицом в траву. Он замедлил шаг и оглянулся, пытаясь разглядеть Пако, лежавшего на дне чаши Кинг-парка. Но в темноте ничего не было видно. Тогда он повернулся и увидел перед собой мерцающую улицу, силуэты карликовых сосен по обочинам и огни машин, прорезавшие туман. За укутанной туманом дорогой стоял, поблескивая освещенными окнами, дом Пако, где ждала Мэри и стыл суп.
Теперь Пепе узнал то, что Мэри знала еще раньше. Хотя оба они не входили в Зазеркалье, зеркало дало трещину, и сквозь нее в их мир стали проникать пришельцы с той стороны. Сегодня из тумана выплыла модно одетая молодая женщина в черных мехах и в черной шляпке, в серых перчатках, с жемчугом на шее; потом выплыла похожая на мадонну дама в белом меховом жакете, с шарфом в горошек на шее и с золотыми монетами в ушах; выплыл Пако в темно-синем свитере с высоким воротом; выплыл его отец, распростертый в кресле без сознания, хотя глаза его были открыты, а рот улыбался.
«Есть же у тебя сила воли!»– крикнул он тогда Пако, а сейчас понял, что кричал призраку, что он сам попал в мир призраков.
«Рано или поздно они позовут меня, и я побегу к ним, как собачонка».
«И крабы. Они везде. Куда ни ступишь, обязательно раздавишь краба».
«Когда я была маленькой, я думала, что у всех людей два пупка».
«Когда я была маленькой, такие люди, как ваш отец, всегда были для меня образцом. Они были как бы моей совестью, существовавшей отдельно от меня».
«Крабы и пыль, крабы и пыль…»
Мир по сю сторону треснувшего зеркала уже не был безопасным, в нем тоже бродили призраки, пришедшие с той стороны; здесь, в этом мире, Пако ждал, когда на шее у него затянут петлю, бедная милая Мэри лгала, осторожную Риту удивляли драконы, Тони прятался в своем монастыре, отцы принимали наркотики, матери теряли свои учебники, а у молодых женщин было по два пупка…
Пепе вздрогнул от порыва холодного ветра. Он поднял воротник, сунул руки в карманы и пошел через улицу к освещенным дверям и окнам, туда, где ждала Мэри и стыл суп.
ГЛАВА ВТОРАЯ
МАЧО
В восемь вечера Рита закрывала салон, и как раз в это время раздался телефонный звонок. Телефон стоял в туалете и будто назло звонил обычно именно тогда, когда туалет был занят. Вот и сейчас оттуда выскочила Элен Сильва, совладелица салона, с полным ртом заколок для волос.
– Это тебя, Рита.
– Не Пепе, надеюсь?
– Боюсь, что он.
Заколов волосы, Элен опустила ставни на витрине, открыла дверь, пинком выставила за дверь кошку и выключила неоновую вывеску, извещавшую, что здесь находится «Художественный салон св. Риты».
Их магазинчик, занимавший угол здания, был невелик, но выглядел впечатляюще. Прилавок заменяла старая кушетка. В комнате стояло также несколько легких бамбуковых стульев и низенький стеклянный столик причудливой формы. Одну стену занимало зеркало, на другой от пола до потолка висели картины. Случайные посетители просили показать им умных кукол, выставленных в витрине, настоящим покупателям Рита и Элен помогали выбрать картины или вазы, подходившие к их обстановке. В этом году был большой наплыв богатых беженцев с континента, они застраивали окружающие Гонконг холмы, и дела у девушек шли неплохо. В нескольких кварталах от магазина у них была общая квартирка, где Элен – бойкая симпатичная метиска с природным чувством элегантности, но без всякой склонности к ней – усеивала пол скорлупой арахиса и запихивала старые чулки в дорогие вазы.
– Надо переставить телефон, – сказала Элен, когда Рита вышла. – Неудобно: эта дурацкая штука начинает трезвонить именно тогда, когда там покупатели. Но куда его поставить – вот вопрос. Так в чем дело, Рита?
– Он не придет к ужину.
– Старику хуже?
– Нет. Мы ужинаем в ресторане – с Тексейра.
– Как романтично! Пепе молодец.
– Он говорит, что это идея Мэри.
– Что же, тебе придется поехать домой на такси – иначе ты не успеешь переодеться.
– Я не буду переодеваться – они заедут за мной сюда.
– Тогда я подожду.
– О, не стоит. Они уже выехали.
Когда Элен ушла, Рита задумчиво налила себе чаю из термоса. Сквозь стеклянную дверь она видела, как, пряча лицо от ветра и подняв воротники, мимо спешат прохожие. Вечер явно не годился для ужина в ресторане, а кроме того, она устала от Пако, устала от семейства Тексейра. Пепе сказал, что они опять ссорятся, но, думала Рита, стоя на коленях на кушетке перед зеркалом, я слишком устала для того, чтобы играть роль матери-примирительницы.
В огромном зеркале ее лоб растворился в пятне света, а щеки – в тени; усталые, измученные глаза бездумно скользили по отражению комнаты. Рука, казавшаяся такой твердой, дрожала, голова склонилась чуть набок, словно Рита к чему-то прислушивалась. Замершая комната – и в зеркале, и реальная – тоже, казалось, прислушивалась. Какой-то прохожий на ходу бросил взгляд, сквозь стеклянную дверь, и, увидев в его глазах удивление, Рита улыбнулась и подумала: хорошо, что шторы на двери еще не спущены.
Для группки детей филиппинских изгнанников, для детей, которые вместе росли на улицах Гонконга, Рита была неоспоримым вожаком. Мэри и Пако могли время от времени побунтовать, сыновья Монсона порой пытались высокомерно игнорировать ее, но ненадолго: в конце концов они шли туда, куда она вела их, – хотя бы потому, что у нее было больше денег. Ее отец держал фотостудию, а матери принадлежало небольшое ателье. Дома ее баловали, но в то же время она чувствовала себя одинокой и поэтому завела себе собственную семью, в которую вошли Мэри и Пако, а также Пепе и Тони. Но они нуждались в ней больше, чем она в них. По отдельности забитые и робкие, дети эмигрантов преображались в «банде Риты» и с шумной самоуверенностью захватывали парки и детские игровые площадки, не уступая чистеньким английским или очкастым китайским детям. В Гонконге расы смешиваются редко, на детских игровых площадках – никогда.
Во время войны Рита потеряла и отца, и мать. Она продала ателье и перебралась в фотостудию, где Пепе, тогда безработный, помогал ей проявлять мутные снимки самодовольно улыбающихся японских солдат. Ни возраст, ни война не умалили авторитета Риты в ее – некогда детском – государстве: она женила Пако на Мэри, упорно пыталась переубедить Тони, намеревавшегося посвятить себя служению богу, а Пепе как бы «законсервировала» для себя до лучших времен. Все пятеро остро ощущали свою непричастность к войне и в военном Гонконге вели себя так же, как когда-то в детстве на игровых площадках: держались замкнутой группой, ни с кем не сходились – пятеро подростков без родины, живших в своем собственном волшебном мире.
Их мир был прочен, как скала, на которой покоился сам Гонконг, но после того, как отец Пепе побывал в Маниле, а потом оттуда вернулся Пако, этот мир, чувствовала Рита, начал разваливаться. Что-то иное, нездоровое проникло в него и ощущалось во всем: в беспокойстве на лице Мэри, на лице Пако, даже на лице Пепе, и сейчас, когда Рита стояла на коленях и причесывалась, склонив голову набок, словно прислушиваясь, она видела то же беспокойство на своем лице в зеркале. Услышав сигнал машины, она попробовала встать, но это ей удалось не сразу, и, вздрогнув, она уставилась на отраженный в зеркале старенький «остин» Пепе, приткнувшийся возле салона, и на Мэри, которая высунулась из машины и махала ей рукой. Что ж, Мэри выглядит не такой уж несчастной, подумала Рита, неохотно подымаясь и ища взглядом плащ.
Мэри сидела впереди, рядом с Пепе.
– Я одолжила на сегодняшний вечер твоего кавалера, Рита, – весело сказала она и, показав рукой на заднее сиденье, добавила. – А ты можешь взять моего.
Полулежащий на сиденье Пако молча подвинулся, и Рита села рядом. Она неодобрительно посмотрела на него.
– Ты даже не побрился, – заметила она, надевая перчатки.
– А я в старом свитере, – сказала Мэри, когда машина уже мчалась к парому. – Не сердись, дорогая. Все получилось так неожиданно.
Рита вздохнула и откинулась назад, подперев щеку рукой в перчатке. Пепе повернулся и виновато посмотрел на нее, Пако молчал, прислонившись головой к спинке сиденья.
– Стол уже был накрыт, – объясняла Мэри, – когда я вдруг почувствовала, что не могу прикоснуться к ужину – собственная стряпня страшно надоедает. Мы всю зиму никуда не выбирались, а тут рядом случился Пепе, и я попросила его взять машину и привезти Пако: Пако был в парке и злился на весь божий свет. Боже, какой сегодня ужасный день, просто ужасный, Рита! Поэтому мы и решили поужинать в ресторане.
– Где именно? – поинтересовалась Рита.
– В «Товарище», – ответила Мэри.
– Может быть, ты хочешь поехать в другое место? – спросил Пепе.
– Нет, нет, поедемте в «Товарищ». Там теперь играет новый оркестр, джаз Пита Альфонсо, – все говорят, что это просто здорово. А вот мы уже и на пароме, Пако. У тебя есть мелочь? И пожалуйста, сядь как следует и не молчи. Не порти мне вечер.
«Товарищ» помещался в подвальчике в переулке возле Куин-стрит. Переулок круто поднимался вверх, и весь день по нему двигались толпы крикливых домохозяек-китаянок и тележки с овощами. А ночью элегантно одетые люди поскальзывались на раздавленных помидорах и гнилых листьях салата. Посмеявшись или разозлившись – в зависимости от темперамента, – они спускались по лестнице и проходили через холл на узкий полукруглый балкон, у перил которого стояли столики. Большой зал внизу под балконом тоже был тесно уставлен столиками, пустовал лишь маленький пятачок перед оркестром.
– Пойдемте вниз, – шепнула Мэри. – Здесь, среди англичан, мне не по себе – холодно.
Когда они проходили по балкону к лестнице, все английские челюсти, как по команде, перестали жевать и замерли в ожидании, а все английские глаза уставились на них. Зал был полон, за столиками шумно разговаривали, оркестр играл одну веселую мелодию за другой, но никто не танцевал.
– Не думаю, – сказал Пепе, когда они устроились за столиком у стены и продиктовали официанту заказ, – не думаю, что руководитель оркестра так уж весел, как старается показать.
Мэри надела очки:
– А он симпатичный! Ты знаешь его? – обратилась она к Пако.
– Встречал.
– Где, в Маниле? Смотрите, он улыбается нам. Пако, повернись и помаши ему рукой. Не обижай человека. Боже, он идет сюда! Черт побери, надо было надеть платье. Рита, посмотри: у меня нет на зубах помады?
– Закрой рот, Мэри. А то он подумает, что мы строим ему рожи.
– Привет, Текс, – сказал Пит Альфонсо. – Я и не знал, что ты в городе.
Пако представил его своим друзьям, Мэри предложила Питу подсесть к ним, и тут как раз появился официант с виски для Пепе и Пако и горячим ромом для женщин.
– Пожалуй, я действительно выпью с вами, – сказал Пит Альфонсо и пододвинул стул.
Наступила неловкая пауза, как это обычно бывает, когда кто-то всерьез принимает сделанное из вежливости приглашение.
– У тебя отличный оркестр, – заметил Пепе.
Но Пит, посмотрев через плечо на шумный зал, хмыкнул:
– Не понимаю, зачем нужно приглашать в Гонконг оркестр для танцев. Англичане не танцуют, китайцы не танцуют, а прочие посетители просто не знают, принято ли здесь танцевать.
– Да, но зато мытанцуем, – сказала Мэри, стягивая перчатки. – Мы специально пришли потанцевать под вашу замечательную музыку.
– Пит, а где твоя певица? – спросил Пако.
Руководитель оркестра опять хмыкнул:
– Сбежала. Сбежала сегодня утром с пианистом. Они узнали, что приезжает его жена. С тех пор как яздесь, у меня одни неприятности. – Пит Альфонсо действительно выглядел несчастным. – Паренька, который сидит за роялем, мне удалось заполучить только на сегодняшний вечер, и он думает, что Шопен не простит ему такого предательства. Послушай, Текс, – вдруг оживился он, – мне нужен пианист, пока я не вызову замену из Манилы. Ты не можешь порекомендовать мне кого-нибудь?
– Тебе нужен пианист?
– Должен же ты знать какого-нибудь приличного музыканта в этом городе.
За столом наступила такая напряженная тишина, что Пит Альфонсо обвел компанию удивленным взглядом.
– А вот и ваше виски, мистер Альфонсо, – сказала Мэри слабым голосом.
Ничего не поняв, он пожал плечами:
– Ладно, думаю, я и сам смогу подыскать кого-нибудь.
Снова воцарилось молчание. Пит Альфонсо отхлебнул виски, чувствуя, что все на него смотрят.
Наконец он выдавил:
– Чертов город!
Но тут же поперхнулся и закашлялся.
Увидев, что Альфонсо залил себе пиджак, Пако неожиданно рассмеялся:
– Спокойно, Пит, спокойно! Вот, возьми мою салфетку. А если тебе нужен пианист, почему бы не попробовать меня?
– Ты что, смеешься?!
– Я серьезно. В данный момент я свободен.
– А твой оркестр?
– С ним кончено. Но это длинная история.
– Что ж…
– Я могу начать хоть завтра.
– В десять мы прослушиваем новую певицу.
– Я приду.
Все еще ничего не понимая, Пит Альфонсо сказал:
– О’кей, Текс. Я буду тебя ждать.
Все-таки сообразив, что что-то неладно, он забеспокоился, заерзал, потом вдруг судорожно схватил бокал и осушил его с такой отчаянной решимостью, словно в нем был яд.
– Заказать вам еще, мистер Альфонсо? – спросила Мэри. В ее голосе явно слышалось колебание: она ожидала, что мистер Альфонсо сейчас рухнет на пол и умрет с героической улыбкой на устах.
Нервно хохотнув, Альфонсо отклонил предложение.
– Нет, спасибо. Пора за работу. Кажется, я что-то не то сказал? Тогда извините. Может быть, вы хотите, чтобы я сыграл что-нибудь специально для вас?
Он встал, и лицо его вновь напряглось.
– Эта моя новая певица, – начал было он, – говорят, она что-то вроде коммунистки…
Не закончив, он решительно двинулся от их стола и, только отойдя на некоторое расстояние, позволил себе радостно улыбнуться.
– Единственное, что мы можем сейчас сделать, – сказал Пако с нарочитой серьезностью, – это станцевать под его замечательную музыку.
Все четверо переглянулись и прыснули со смеху. Рита и Мэри сняли плащи, Пепе и Пако ослабили галстуки. Придвинув стулья ближе к столу, они с видом заговорщиков пригнули головы. Пако изобразил растерянного мистера Альфонсо, поперхнувшегося виски. Рита и Пепе взялись за руки. Подали бифштексы.
– А помните, – спросила Рита, беря нож, – как мы захватили джонку в бухте, когда я собиралась бежать в Патагонию?
За кофе они тихонько подпевали оркестру. Зал постепенно успокоился, и оркестр перешел на задумчивые, тягучие мелодии. Фонарики, свисавшие с балкона, окрашивали стены в темно-красный цвет, бросали огненные блики на фотографии негров с саксофонами и поющих серенады мексиканцев.
– Почему, – спросил Пепе, – это место называется «Товарищ»?
Мэри склонила голову на плечо Пако, и он поглаживал ее волосы.
– Потанцуем? – предложил он.
– Не сейчас, дорогой. Я так наелась…
– Давай со мной, Пако. Я хочу танцевать, – сказала Рита, поднимаясь.
Оставшись вдвоем, Мэри и Пепе вопрошающе посмотрели друг на друга.
– Да, Мэри, тебе пришла в голову замечательная идея – затащить нас сюда.
– А ты видел, кто сидел только что вон там, в другом конце зала?
– Сеньора де Видаль?
– Она не сводила с нас глаз. Не говори Пако, не надо портить такой вечер. Тебе трудно было уговорить его поехать с нами?
– Нет. Он лежал на траве, а когда я сказал ему, он как ни в чем не бывало встал и пошел со мной…
Когда Рита и Пако вернулись к столику, Мэри предложила отправиться домой: Пако теперь человек работающий, а будильника у них нет.
– Нет, давайте еще побудем, – запротестовал Пако. – Здесь так хорошо. И следующий танец ты танцуешь со мной – да, да!
Он схватил Мэри за руку и потащил танцевать.
– Закажи мне чего-нибудь выпить, Пепе, – сказала раскрасневшаяся Рита. – Он заставил меня прыгать с ним по всему залу. Но с ним здорово танцевать, когда он в хорошем настроении. И знаешь что? Я решила убрать зеркало из салона. А на освободившейся стене мы повесим телефон. Не могу же я всякий раз объясняться тебе в любви из туалета. Хорошая идея, верно? Я имею в виду – избавиться от этого зеркала.
К Пепе подошел официант и что-то прошептал ему на ухо.
– Что такое, Пепе? – спросила Рита, меняясь в лице.
– Та девушка из Манилы – Конни Эскобар, – она здесь на балконе и хочет видеть меня.
Он рассказал Рите о своих сегодняшних посетителях.
– Пепе, ты никуда не пойдешь!
– Я должен был встретиться с ней после обеда, но трусливо сбежал. Должен же я хотя бы извиниться перед ней?
– То есть ты все же хочешь встретиться с ней? Не делай этого!
– Чего ты так волнуешься? Это мой профессиональный долг.
– Профессиональный долг? Она что, лошадь?
– Послушай, Рита, я не младенец и знаю, что мне делать.
– Ладно, иди! Иди, если ты такой осел!
– Э, да наши голубки ссорятся! – сказал подошедший Пако.
– В чем дело? Что случилось? – спросила Мэри.
– Конни Эскобар, – сказал Пепе, поднимаясь. – Она на балконе. Хочет меня видеть.
– Вот и прекрасно, – сказал Пако. – Пригласи ее сюда. И скажи, чтобы прихватила свою старуху – она тоже торчала здесь весь вечер и строила глазки. Эй, Мэри, играют румбу, пошли!
– Пепе, если ты не вернешься через пять минут, я уеду домой, – сказала Рита.
На полутемном балконе, где стоявшие в беспорядке стулья, казалось, хранили скуку уже ушедших англичан, одиноко сидела Конни Эскобар в черной шляпке и мехах; жемчужное ожерелье тихо звякало о полупустой бокал; слабый свет освещал голое плечо, с которого соскользнул мех. Когда он подошел и она подняла голову, он отчетливо увидел, что у нее измученное лицо еще совсем юной девушки, маска развязности, которую она надела сегодня утром, исчезла.
Она сказала:
– Я так долго ждала вас сегодня…
– Неужели вы всерьез думали, что я приду? – насмешливо спросил он.
Мука на ее лице сменилась удивлением.
– Как вы узнали, что я здесь? – спросил он.
– Я приходила к вам еще раз. Там был только ваш слуга, и он… Но почему вы не садитесь?
– Я не могу задерживаться. Мне жаль, что вам пришлось ждать.
– Сегодня к вам приходила моя мать.
У него покраснели уши. Итак, история приобретала огласку.
– Вы здорово повеселились за мой счет сегодня утром, – холодно сказал он.
– Как вы могли поверить ей!
– Как я мог хоть на минуту поверить вам!
– Но я говорила правду. То есть, конечно, не только правду, но я не лгала, когда сказала вам, что у меня…
– Не стоит повторять эту чушь.
– Но вы должны поверить мне. Пожалуйста! Я ведь уже сказала – от этого зависит моя жизнь. Я в отчаянии. Вы знаете, я весь вечер ходила взад и вперед по этому переулку и не могла войти – мама была здесь. Весь вечер я мерзла на улице ради того, чтобы увидеть вас. Разве это похоже на розыгрыш?
– Да, похоже! – крикнул он. – Вы же знаете, я ветеринар, занимаюсь лошадьми. Скажите же, почему вы так стремитесь встретиться со мной? Вы что, лошадь? И безусловно, я не собираюсь показывать вас никакому врачу – я не хочу, чтобы и меня приняли за сумасшедшего. Любой врач спустит нас обоих с лестницы, как только вы изложите ему суть дела. Я ничего не могу сделать для вас. И откровенно говоря, мне не хочется ничего для вас делать. Вы пустая испорченная девчонка и ужасная врунья. А теперь разрешите откланяться.
Она сжалась в комочек. Глаза ее округлились, рот широко раскрылся. Затем она быстро вскочила на ноги, схватила перчатки и сумочку. Лицо ее окаменело.
– Пожалуйста, извините меня, – неожиданно спокойно сказала она, глядя в сторону. – Больше я не побеспокою вас, доктор. Прощайте.
– Куда вы? – беспомощно спросил он.
Она на секунду подняла глаза, и он понял, что она хотела сказать этим взглядом.
– Минутку! – воскликнул он в отчаянии. – Если вы хотите поговорить со мной, будь по-вашему, но я должен предупредить моих друзей. Вы подождете меня здесь? Сядьте и допейте ваше виски.
Он взял ее за руку и усадил за стол. Она не сопротивлялась.
– Я вернусь через минуту, – сказал он, вытирая платком взмокший лоб.
Вся компания уже поднималась на балкон, Пако был в отличном настроении и напевал марш, заставляя девушек шагать в такт.
– Пора двигаться, – сказала Мэри. – А то мы не успеем на последний паром.
– Пристраивайся в затылок, дружище, пристраивайся в затылок! – заорал Пако.
– Я остаюсь, – сказал Пепе.
– Почему? – спросила Рита.
– Мне надо с ней поговорить.
– Вот это да! – выдохнул Пако.
– Рита, завтра я тебе все объясню. Поезжай на моей машине. Я провожу вас до двери.
Проходя по балкону, они даже не взглянули в сторону Конни – она одиноко сидела за своим столиком, опустив голову. Наверху, там, где кончалась лестница, призрачной глыбой льда мерцала в лунном свете призма вестибюля и две кошки, в ярости застывшие друг против друга, казалось, вмерзли в ледяную толщу. Выйдя на улицу, Пако пустился в пляс, пока Мэри и Рита завязывали шарфы. Пепе тронул Риту за руку:
– Я позвоню тебе завтра утром.
– Оставьте меня в покое, Пепе Монсон!
Когда он вернулся на балкон, там никого не было – даже ее бокал исчез со стола. Он секунду постоял, потом глянул через перила вниз. Оркестр играл быстрый буги, и Конни Эскобар лихо отплясывала с дирижером в кругу восхищенных зрителей, подбадривавших их криками. Она сняла шляпку и меха и, трясясь от смеха, танцевала в красном коротком платье. Ее голова была самозабвенно откинута, волосы развевались, а юные глаза светились ничем не омраченной радостью.
Час спустя они мчались в открытой машине к вершине утеса: дорога так круто петляла, что казалось, они вот-вот слетят с шоссе и понесутся в пустоту, в светлую ночь, наполненную ревом дикого ветра.







