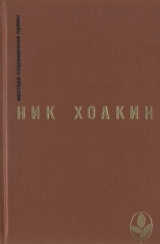
Текст книги "Женщина, потерявшая себя"
Автор книги: Ник Хоакин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)
– Облегчение? – Падре Тони передернул плечами и сел на диван рядом с Ритой. – Какое там облегчение? – пробормотал он, стиснув пальцы и опустив голову. – Я всего лишь надеюсь, и я никогда не предполагал, что надежда может причинять столько боли. Когда я думал, что она мертва и в этом виноваты мы, я чувствовал, что вот-вот сойду с ума, но теперь мне кажется, что сойти с ума, впасть в отчаяние не так страшно, как надеяться. Вчера ей пришлось выбирать между жизнью и смертью, сейчас ей придется выбирать между добром и злом. И если она выберет зло, этот выбор ляжет на мою совесть более тяжким бременем, чем ее смерть. Тогда – как ты сказала, Рита, – нечем будет оправдать страдания Мэри и ее детей. И отныне всю жизнь надо мной будет висеть эта угроза…
– Но ведь мы спасли ее, Тони! – воскликнул Пепе, сидевший на полу. – По меньшей мере мы помогли ей вновь обрести веру в себя, желание жить…
– …и свободу обречь себя на муки ада, – подхватил падре Тони. – Что ж, может быть, мы и помогли ей вновь стать личностью, но мы не знаем какой.
– Да, это был риск, и мы вчера пошли на него, Тони.
– И если бы сейчас все повторилось, – сказал падре Тони, медленно выпрямляясь, – я бы снова рискнул.
Последовавшая тишина восклицательным знаком завершила сказанное Тони. Они сидели и молча смотрели, как комната постепенно пробуждается: дождь прекратился, робкий солнечный свет, лившийся в окна, смешивался с электрическим, но еще не мог одолеть его. И все-таки комната оживала, в ней становилось теплее от красок заката. В дрожащем воздухе ощущался легкий аромат, словно вместо мебели вокруг были цветы. В комнату пришла весна, и она заставила Пепе положить голову на колени Рите, а Риту – всепрощающим жестом погладить его волосы. С улицы опять доносился треск фейерверка, но, очарованные странным пробуждением комнаты, они слышали только тишину, которая сгущалась и становилась напряженной, словно хотела сообщить удивительную новость, как вдруг дверь спальни распахнулась и перед ними возникло в призрачном свете лицо медсестры.
– Вам лучше войти, – сказала она. – Он просыпается.
Волшебная тишина последовала за ними в спальню, где на старинной огромной кровати под балдахином умирал доктор Монсон. Он лежал, до подбородка укрытый белой простыней, а под ней беспокойно двигались руки. Глаза его были по-прежнему закрыты, но губы шевелились, и он тщетно старался оторвать голову от подушки. В приглушенном свете ярко поблескивали его седые волосы и капли пота на бровях. Встав по обе стороны кровати, сыновья склонились к нему, чтобы услышать, что он пытается сказать, но не могли разобрать ни слова. Тонкие губы дрожали, он напрягал шею, стараясь приподнять голову, но напрасно. Наклонившись еще ниже, Пепе просунул руку под плечи старика и приподнял его. Но запавшие глаза не открылись, только губы продолжали шевелиться. Пепе нагнулся к уху умирающего.
– Отец, – тихо позвал он, – отец, мы здесь.
Но доктора Монсона здесь не было. Он был на горном перевале, там, в истории, молодой, в сапогах и военной форме; и долгий трудный день наконец-то завершился.
Он был на горном перевале. Солнце клонилось к западу, и жесткий декабрьский ветер, дувший весь день, наконец-то стих. Наступившая тишина была такой же всепроникающей, как и холод, который пронизывал его до костей; ему казалось, что он стоит по горло в ледяной воде, хотя все вокруг было залито лучами заходящего солнца, и он, скосив глаза в сторону, увидел его сплющенный диск, повисший всего в нескольких дюймах над туманной дымкой далекого моря.
Он стоял в самой узкой части перевала, на маленьком уступе, который вырубили в крутом склоне люди горных племен, и его нервы, нервы жителя равнин, были напряжены – он не доверял этим кручам, не доверял обманчивой близости неба. Справа возвышалась стена утеса, кое-где покрытого мхом и увенчанного соснами, слева крутой склон обрывался в долину. Тропа за его спиной змеилась вверх и, расширяясь, исчезала в сосновом лесу, а прямо перед ним она огибала скалу и вливалась в дорогу, ведущую вниз, в долину. В долине уже наступили сумерки, потому что со всех сторон она была замкнута горами, но он еще различал внизу речку, коричневые крыши деревни, занятой американцами, и разрушенный мост у подножия горы. В тот ветреный день американцы трижды устремлялись вверх по тропе, трижды пытались взять перевал и трижды откатывались назад. Он поднял глаза на высокие сосны, так красиво окрашенные золотом заходящего солнца, такие спокойные и мирные; но в сумраке, темневшем за первым рядом стволов, притаились в ожидании люди: крестьяне-повстанцы, босоногие, сидевшие на поросшей папоротником земле, закутавшись в цветные яркие одеяла и положив на колени ружья, – двадцать защитников, все, что осталось от пятидесяти человек, поклявшихся, если понадобится, своими телами закрыть перевал и удержать его хотя бы на день, чтобы их товарищи сумели пронести через дикие горы и доставить в спасительное убежище – вселявшее больше отчаяния, чем сотня любых других убежищ, – больного, обессиленного и преследуемого человека, который сейчас один олицетворял Республику и все, что осталось от Республики.
Он шел за этим человеком, с боями отступавшим от побережья, где теперь американские военные корабли господствовали на море, через равнины, в каждой из которых шли затяжные арьергардные бои; они отступали по кровавой дороге пожарищ, и она привела жалкие остатки армии на край земли в глушь высоких и холодных северных гор, окутанных мокрыми туманами. И здесь, на этом перевале, он простился вчера со своим генералом, он поклялся ему, что задержит врага, чтобы дать возможность отступающей Республике укрыться в дикой горной стране. Не успели они расстаться, как он услышал пушечный залп, возвестивший, что американцы уже в долине и обстреливают покинутую деревню у подножия горы. Он ужаснулся, осознав, как быстро настигает беглецов погоня – преследователей и преследуемых разделяли лишь несколько минут, лишь этот узкий перевал, а он обещал удерживать его целый день.
Что ж, он остался верен своему слову. День уже кончался, хотя и не так быстро, как ему бы хотелось. Тишина внизу настораживала, и он мечтал, чтобы поскорее опустилась ночь, чтобы все скрыла тьма, но сплющенный диск солнца словно замер в одной точке над горизонтом. Он поднес к глазам бинокль и скользнул взглядом по речке внизу: никто не переправлялся через поток, на берегах солдат тоже не было видно, и даже часовые, поставленные по обе стороны разрушенного моста, куда-то исчезли. Он не сомневался, что американцы затаились ниже по склону горы и ждут, но не ночи, нет, они не пойдут в атаку ночью; он не смел надеяться, что они получили свое за день, и эти тишина и спокойствие означают лишь передышку до утра. Его судьба зависела от тех нескольких дюймов, что сейчас отделяли солнечный диск от горизонта.
Он повернулся и двинулся вверх по тропе, в сосновую рощу. Из зеленого влажного сумрака, прошитого редкими нитями солнечного света, доносились звуки гитары, но с его приближением они смолкли, и из-за стволов выглянули лица. Он вышел на поляну, где на трех камнях стоял над раскаленными углями глиняный горшок. Воду уже слили, и сейчас рис в горшке подсушивался; на углях запекались полоски оленины – запах еды разносился среди сосен и будил голод. Он остановился у костра, и, пока он грел над огнем руки, за его спиной молча собрались его люди. Посмотрев через плечо, он увидел, что они ждут; завернувшись в цветные одеяла и прижав ружья к груди, они стояли, подавшись к костру, и вдыхали дразнящий дымок, домашний запах риса и жареного мяса.
Повернувшись к ним, он коротко сказал:
– Друзья, наш день еще не кончился. Я думаю, гости пожалуют снова. Они не станут дожидаться утра, они предпримут еще одну попытку до наступления ночи. Давайте поужинаем, а потом – каждый на свой пост. И побыстрее: иначе гости не дадут нам доесть.
Улыбаясь, они сгрудились вокруг костра, а он вернулся на выступ в скале. Лежа на животе, он смотрел вниз на перевал и поросший соснами склон за ним, где притаились американцы. Зазор между солнцем и горизонтом, казалось, совсем не уменьшился – еще целый час будет светло. Снизу вскарабкался солдат и поставил перед ним ужин: чашку вареного риса и миску, в которой плавали в уксусе две полоски мяса и бесформенный помидор.
Он отполз за дерево и сел ужинать, размял в рисе помидор и принялся руками есть рис, закусывая его жестким соленым мясом.
В Маниле сейчас, наверное, уже вечер, но небо еще расцвечено золотом – роскошный манильский закат. Колокола звонят к вечерней молитве, к ужину, улицы опустели – остались, пожалуй, только булочники, продающие хлеб вечерней выпечки. Ночные цветы издают острый запах. Домашние ящерицы спускаются вниз, чтобы коснуться безмолвной потемневшей земли. Но после ужина улицы снова наполнятся людьми и оживут: дети будут играть на булыжной мостовой, влюбленные будут перешептываться через зарешеченные окна, кареты покатят на набережную. Уличные торговцы зажгут свечи и примутся жарить на углях каштаны и кукурузные початки; он почувствовал, как запахло горячей корочкой рисовых лепешек, только что снятых с огня, завернутых в листья банана, посыпанных деревенским сыром, политых кокосовым маслом, – их едят, запивая чаем из больших чашек. Сейчас начало декабря, и старики уже, наверное, принялись мастерить яркие фонари к рождеству. В его родном Бинондо вечер кончался, когда по улицам проходили, распевая псалмы, процессии прихожан со свечами и флагами. Это было как бы второй вечерней молитвой, сигналом ко сну. После этого по пустынным улицам бродил лишь сторож с фонарем, мерно выкликая время. Обычно он засыпал под его протяжные крики и, просыпаясь, думал, что все еще слышит их, но на самом деле он слышал уже крики рыбаков, которые, проплывая на лодках по каналу, тянущемуся за домами, громко предлагали ночной улов к завтраку.
Он мысленно отправился по каналу сквозь светлеющий город, мимо поросших мхом торцов старых домов, с низкими, выходящими на канал террасами, на которых, раздеваясь для утреннего купания, перекликались друг с другом мальчишки; мимо огромной квадратной площади с высокими пальмами, где стояла табачная фабрика, как будто сотканная из кружев и похожая на мавританский дворец, и было множество книжных лавок, мелких типографий, похоронных контор; а через площадь спешили женщины, прикрыв лицо черными вуалями, и исчезали в дверях церкви – самой темной в городе и густо заселенной летучими мышами; обогнув площадь, канал расширялся и вливался в китайский квартал – здесь течение замедляли целые островки водяных лилий, над водой низко висели мостики, по которым сновали китайцы с косами; над головой высились крыши пагод, в бесчисленных христианских святилищах на залитых солнцем тротуарах горели красные свечи; по мере того как разгорался день, шум кругом нарастал – теперь он был уже в сердце Манилы, в Санта-Крус, районе торговцев, ювелиров и самых тщеславных людей города; здесь возвышалась закопченная церковь, и с ее колокольни свисали пучки сорной травы, а перед церковью расстилалась маленькая площадь, где во время октябрьских религиозных праздников прохаживались увешанные драгоценностями надменные женщины из богатых семейств; справа от него была Эскольта с ее небольшими элегантными магазинами и потоком фешенебельных экипажей, а впереди канал вливался в Пасиг, реку, в которой жили соблазнительницы-русалки – под водой часто поблескивало золото их кубков и блюд; и вот он снова на реке, на коричневых водах этой самой ему дорогой из всех рек его родины, на реке, через которую переброшены три моста и на которой толпятся суда; двигаясь по реке дальше, к морю, он видел по левую руку в самом устье старый город – окруженный стенами, «благородный и навеки преданный короне» Интрамурос; легендарные ворота, бастионы и башни проплывали сквозь его сердце, сияли в солнечном свете, а он уже был в бухте, в фиолетовом море, и перед ним возвышались горы, напоминавшие очертаниями спящую женщину, а за его спиной пламенел в полуденном солнце весь прекрасный любимый город – город, который он охранял даже сейчас, здесь, на этом горном перевале, и ради которого он отправился умирать так далеко – на край земли, в глушь высоких и холодных северных гор, окутанных мокрыми туманами, – и он сказал себе, что в конце концов человек осознает, что сражался не за честь знамени и даже не за народ, а всего лишь за один город, за одну улицу, один дом – за разноголосый шум на канале по утрам, за панораму крыш, залитых полуденным солнцем, за аромат какого-то одного ночного цветка.
Он сказал себе, что в конце концов человек осознает, что готов умереть не ради великого будущего, но ради своего маленького личного прошлого; и, кончив ужин, он взял револьвер и пополз назад к обрыву. Солнце уже коснулось линии горизонта, внизу лежал залитый светом перевал, а из долины поднимались сгущавшиеся сумерки. Он направил бинокль к подножию горы: бледно-зеленые купы деревьев, круглые и плотные, как капустные кочаны, замерли, тесно прижавшись друг к другу, но тьма под ними мерно колыхалась, и он увидел поднимавшуюся над рощей пыль. Весь склон горы двигался.
Он обернулся: из-за стволов высунулись несколько голов, кивнули ему и опять пропали. Сжимая револьвер, он подполз ближе к обрыву и впился глазами в опушку леса прямо под собой. Солнце опускалось в море, в тишине он слышал, как над головой гудят сосны. Распростершись на краю обрыва, он ждал, прижавшись губами к рукоятке револьвера, и молил бога, чтобы поскорее стемнело.
Тишину вспорол выстрел, и кровь застыла у него в жилах, потому что звук этот донесся не снизу, а сзади. Мгновенно повернувшись, он услышал еще несколько выстрелов, увидел, как один из его людей выскочил из-за сосны и рухнул на землю, а следом за ним из гущи сосен выбежал высокий чужой человек; он поднял револьвер и выстрелил – американец упал. Внизу появились американские солдаты – они карабкались вверх по голому склону, а скалы содрогались от разрывов снарядов. «Держите перевал! Держите перевал!» – крикнул он своим людям, быстро поднялся и помчался к соснам, потому что увидел там еще одного американца, перебегавшего от дерева к дереву. Рядом просвистела пуля, он бросился на землю, но тут же снова вскочил и выстрелил, прежде чем это успел сделать американец – тот обхватил ствол сосны в последнем страстном объятии и сполз на землю. В темной глубине леса он услышал иностранную речь и, снова упав на землю, пополз на шум. За его спиной грохотала битва на перевале, спереди доносились журчание горного ручья и топот бегущих ног. Он присел на корточки за деревом и всмотрелся в сумрак. Вначале ничего не было видно, потом ему показалось, что деревья отделяются друг от друга и движутся к нему; прижавшись к сосне, он ждал, наблюдая за приближающимися огромными тенями. Когда треск веток под их ногами загремел в его ушах как раскаты грома, он наклонился вперед и начал стрелять. Он стрелял размеренно, упорно и отрешенно, зная – хотя он принял решение умереть сражаясь, – что и храбрость и героизм теперь бессмысленны. Перевал потерян, его люди погибли, а он теперь тщетно сражается с лесом. Сумрак свистел пулями, но деревья по-прежнему приближались к нему, неубитые, и тогда он в отчаянии вскочил, чтобы броситься на них, но боль пронзила ему живот, он почувствовал, как жаркий огонь проедает его внутренности, и, уже падая на землю, услышал, как весь лес мчится мимо с победным кличем.
Звуки битвы стихали, становились слабее, и теперь до него доносилось только стрекотание насекомых да журчание ручья. Шум воды вызвал у него страшную жажду. Он открыл глаза, но увидел лишь тьму, за которой ему чудилась вода. Он пошарил вокруг руками и нащупал ствол дерева. Цепляясь за него, он встал и заковылял на шум воды. Вскоре он увидел вдали поблескивающий ручей и побежал к нему, но споткнулся о корень и упал лицом вниз. Тотчас же боль в животе снова обожгла его. Скорчившись, он застонал, перевернулся на спину и увидел звезды, мерцавшие между ветвями сосен. Он смотрел на звезды с изумлением, с радостью: наконец-то ночь – значит, и он выполнил свою задачу. Там, высоко наверху, Республику пронесли через дикие горы, в безопасное укрытие.
Восторженно улыбаясь, он закрыл глаза, сложил руки на груди и собрался произнести:
«Nunc dimittis…»
Но слова застряли у него в горле, потому что боль снова волной захлестнула тело, и, открыв глаза, он увидел не звезды и не ветви сосен, а полог балдахина и лица сыновей, склонившихся над ним; и неожиданно в их глазах он увидел все годы скитаний на чужбине, годы изгнания, но сейчас вдруг понял, что в конечном счете это изгнание было больше, чем просто красивый жест, что его миссия не закончилась одновременно с той, другой, смертью в сосновом лесу, что он стоял на страже все эти годы, как на том горном перевале, пока нечто очень ценное несли дальше, в безопасное убежище. Потому что все это он видел сейчас в глазах сыновей: горный перевал, сосновый лес, лица людей, которые там пали. Все это было сейчас в их глазах: Революция и Республика и то маленькое личное прошлое, ради которого он отправился умирать так далеко. Оно не потеряно, он напрасно думал, будто прошлое может погибнуть, и не надо было пересекать море, чтобы убедиться в обратном. Это прошлое жило в глазах его сыновей, и он попытался приподняться, чтобы отдать ему честь. Он спас его, и теперь оно жило в настоящем, склонившиеся над ним лица озарились светом, заколебались и превратились в звуки утра на канале, в панораму крыш под полуденным солнцем, в запах какого-то одного ночного цветка. Наконец-то он дома. За его спиной горы и силуэт спящей женщины на фоне неба, а перед ним пламенел в лучах заката весь прекрасный любимый город. «Nunc dimittis servum tuum, Domini!»– восторженно прошептал он, и, когда сыновья наклонились и вдвоем приподняли его, он улыбнулся, закрыл глаза, сложил руки на груди и умер.
Потом, в гостиной, они пытались понять причину этого предсмертного восторга.
– Я пытался разбудить его, – сказал Пепе, – и в то же время боялся момента, когда он откроет глаза.
– Я тоже этого боялся, – сказал падре Тони. – У меня было ощущение, что он возвращается откуда-то из далекого прошлого. А мы стояли рядом и ждали – мы, страшное настоящее. Он узнал нас, и это было последним ударом.
– Нет, он был счастлив увидеть вас, – возразила Рита. – О, я никогда не забуду, как посветлело его лицо, когда он вас увидел.
– Может быть, он видел вовсе не нас, – предположил Пепе. – Может быть, он так и не пришел в сознание.
– Нет, он узнал нас, – сказал падре Тони. – Он узнал, я видел это по его глазам, и… и он был рад.
– И он произнес «Nunc dimittis», – сказал Пепе, – словно для того, чтобы подбодрить нас, порадовать…
– …и словно чтобы дать нам знать, – подхватил падре Тони, – что он примирился с настоящим.
– Он умер счастливым, – сказала Рита. – Он умер таким счастливым, что оплакивать его почти неуместно.
Они стояли вокруг стола Пепе, и она протянула руку пощупать старую голубую военную форму, которая дожидалась своего владельца. Солнце ушло из комнаты, но еще освещало окна, за которыми двигались взад-вперед паромы, празднуя улучшение погоды. На полу, там же, куда Пепе бросил его, лежало письмо Конни Эскобар. Они посмотрели на письмо, потом друг на друга.
– Я полагаю, – сказал Пепе, когда тишина стала уже невыносимой, – она ожидает, что мы сообщим эту новость всем.
– А больше в письме ничего нет? – спросила Рита.
– Там написано, что онипосылают только одно это письмо. Значит, от нас зависит, сообщим ли мы ее матери, мужу…
– Кто-то должен немедленно сообщить мужу, – сказала Рита. – Мне даже страшно представить, как он сейчас терзается, думая, что убил ее.
– Но ведь никто не знает, где он, – заметил падре Тони.
– Интересно, как воспримет эту новость ее мать, – сказал Пепе.
– Я загляну к ней по пути в монастырь, – сказал падре Тони.
– Нет, она должна узнать об этом раньше, – возразил Пепе.
– Тогда я позвоню ей сейчас же, – сказал падре Тони, – и объясню, почему я собираюсь к ней заехать.
Как только он вышел из комнаты, в холле зазвонил телефон.
– А ведь есть еще Мэри, – сказала Рита и, подойдя к Пепе, встревоженно прижалась к его груди. – Но ведь мы не можем просто позвонить ей и сказать. Мне придется самой пойти к ней.
– Ты права, – сказал Пепе, – хотя, я думаю, Мэри уже знает.
– Я чувствую себя такой беспомощной…
– Не надо. Возьми себя в руки и перестань считать, что ты отвечаешь за всех. Мы уже взрослые люди.
– Но она ведет себя так странно… Он вчера не ночевал дома, потом не появлялся весь день, а она до сих пор никому из нас не позвонила, не поинтересовалась, что с ним.
– С этой бедой она должна справиться сама.
– Но что же она сейчас делает? Что она делает там, дома, одна? И если она все уже знает, почему ей даже не захотелось позвонить мне!
– Ради бога, перестань волноваться. Я уже сказал – тебе пора перестать всех нас нянчить.
– Я должна пойти к ней, Пепе, я должна пойти к ней немедленно, но я боюсь.
– Мэри не из тех, кого легко сломить.
– Да. Но я боюсь не этого.
Прижимаясь к его груди, она всматривалась в темнеющую комнату, ища утешения и поддержки в знакомых предметах – в сердце Иисусовом, в подсвечниках, флагах и в портрете генерала, в стареньком диване и рогатых головах буйволов над померкшими окнами, за которыми скользили уже освещенные огнями паромы. В соседней комнате между четырьмя свечами лежал доктор Монсон. Она вспомнила вчерашний обед у Мэри, вспомнила, как они сидели вокруг пылающего рома и провожали зиму. Но оказалось, они подняли бокалы, прощаясь не только с зимой.
– Боюсь, я больше не увижу прежнюю Мэри, – сказала она. – Я чувствую, что она уже стала другой, недосягаемой и чужой. Она там целый день одна, и никто из нас ей не понадобился. Как будто она снова кинула нас и даже не сказала «до свидания» – совсем как тогда, когда уехала за границу. О Пепе, я не могу забыть, как она молчала…
Она оборвала себя на полуслове, и они отпрянули друг от друга – в комнату стремительно вбежал падре Тони с застывшим от ужаса лицом.
– Звонила Кикай Валеро, – выдохнул он. – Она сказала, что в Кончу Видаль только что стреляли.
– Боже мой! – вскрикнул Пепе.
– Мачо? – спросила Рита.
Падре Тони кивнул.
– Кикай сказала, что, когда она была у Кончи Видаль, туда пришел Мачо. Она вышла в другую комнату, чтобы дать им возможность поговорить наедине. По ее словам, они не ссорились. Они просто спокойно разговаривали, как вдруг он выхватил пистолет, выстрелил в нее несколько раз, а потом застрелился сам.
– Оба погибли? – спросил Пепе.
– Он умер мгновенно, она еще жива – ее отвезли в больницу. Кикай говорит, что она в сознании и хочет меня видеть. Мне надо спешить!
И падре Тони торопливо вышел, потрясенный и страдающий – наконец он стал священником.
– Вот, значит, то,чего она ждала, – сказал Пепе.
Рита вздрогнула и снова прижалась к нему.
– Может быть, – в раздумье продолжал он, – если бы мы позвонили ей сразу же… если бы в это время не умирал отец…
– Не надо, не надо, не надо! – прошептала Рита, пряча лицо у него на груди.
– Надеюсь, Тони успеет, – сказал он.
Но когда Тони прибыл в больницу, Конча Видаль была уже без сознания. Ей сделали две операции и несколько переливаний крови, но это ее не спасло, и к утру она умерла.







