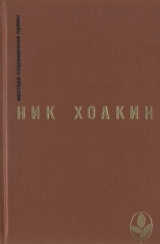
Текст книги "Женщина, потерявшая себя"
Автор книги: Ник Хоакин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Те два года – первый, когда Мачо вернулся в город изучать право, и второй, когда он стал любовником Кончи Видаль, – для остального мира были годами агонии и террора, блицкригов и концлагерей, но для манильцев эти годы были всего лишь эпохой буги-вуги, маджонга и платьев с вырезом на животе. Уныние тридцатых годов осталось позади, снова настали веселые времена, гул войны доносился сюда приглушенно; у манильцев были деньги, была уверенность в себе и был американский флот. И в этом светлом, радостном мире только над Мачо и Кончей Видаль сгущались тучи. То, что началось как случайная интрижка, превратилось в нечто посерьезнее: они полюбили друг друга, а это, конечно же, было излишне. Завести роман считалось даже модным, это означало добродушные шутки друзей, излюбленные столики в ночных клубах, беззлобные, в сущности, высказывания: «Конча Видаль совсем потеряла голову, и ей абсолютно наплевать, что все это видят». Но любовь была позором, любовь надо было скрывать, любовь означала нервы и слезы, бессонницу и дикие, исступленные письма, агонию и ужас. Когда все чувствовали себя в безопасности, эти двое ощущали тревогу; когда все были полны уверенности, эти двое боялись грядущего и не утешали себя надеждами на присутствие американского флота.
Отчаянный светский повеса стал собранным и серьезным; она похудела, начала больше пить и уже не походила на женщину, способную станцевать экзотический танец с гроздью бананов на голове. В их любви был привкус недозволенного – «она ему в матери годится», «май и декабрь», «молодое вино и старые мехи», – и поэтому она сама сказала ему, что рано или поздно, может быть уже через год, они устанут друг от друга; но год прошел, а их страсть осталась прежней; неодобрение окружающих сменилось открытой враждебностью; и они стали поговаривать о том, чтобы вместе уехать куда-нибудь. На его настойчивые уговоры она с плачем отвечала, что обязана подумать о дочери. Конни тогда шел девятый год, и она боготворила мать. Бросить дочь значило разбить ее сердце, но и взять ребенка с собой в запретное путешествие за границу было бы не менее жестоко.
В это время отца Мачо разбил паралич. Мачо немедленно вылетел на юг, где в огромном запущенном доме умирал его отец среди пустых бутылок, грязных башмаков и ссорящихся слуг. Накануне смерти отца (а тому потребовалась неделя, чтобы отойти в лучший мир) он получил письмо от Кончи. Он виделся с ней перед отъездом и вынудил ее принять решение: дочку она оставит в Маниле, а они уедут за границу, как только он вернется из провинции, что бы там ни случилось. Наконец-то покончив с неопределенностью, Конча почувствовала облегчение и даже, развеселившись, потащила его прощаться с полыхающими деревьями – снова было лето, – и она смеялась, как девочка на воскресной прогулке, когда он вытаскивал у нее из-за шиворота красные лепестки и толстых зеленых гусениц.
А теперь она писала, что решила ехать одна и что, когда он получит письмо, она будет уже далеко. Она все тщательно обдумала, она не может губить его жизнь, не может губить жизнь своей дочери – она слишком любит их обоих. Мачо должен подумать о своей карьере, заняться своим имением и поскорее жениться на девушке из хорошей семьи. И ему лучше всего сразу же сказать об этом отцу – старик перестанет беспокоиться и выздоровеет.
Мачо скомкал письмо, швырнул его в ночной горшок и вернулся к постели больного. Отец действительно был обеспокоен. Перед смертью старый развратник вдруг превратился в библейского патриарха, пекущегося исключительно о продолжении рода; как только Мачо приехал, отец вцепился в него и со слезами умолял бросить «эту старую шлюху» и жениться на девушке, которая родит ему сыновей. Но письмо Кончи пришло слишком поздно – старик уже не приходил в сознание.
После смерти отца Мачо не вернулся в город и окончательно забросил учебу. Он пошел по стопам отца, и скоро крестьяне в крытых травой хижинах почувствовали то, что чувствовали поколения крестьян до них: старый хозяин не умер, хозяева вообще не умирают, они просто стареют, а потом снова молодеют, и они всегда, неизбежно здесь – в рубашках цвета хаки, в красных сапогах, с кнутом в руках и с пистолетом за поясом, – они все так же охотятся, пьют и развратничают, они вечно живут в большом доме, который тоже стоит вечно, полный кресел-качалок и мерзости запустения. Мачо казался крестьянам даже хуже своих предков: он редко бывал спокоен, редко бывал трезв и каждый вечер ложился в постель в грязных сапогах.
За несколько месяцев до начала войны он узнал, что Конча вернулась из-за границы, и вскоре получил от нее несколько писем. Она была шокирована и встревожена ходившими о нем слухами. Люди говорили, что он спился, сошел с ума. Судя по всему, он вел совершенно недопустимый образ жизни. Почему он отказался от карьеры? Почему не женился? Она сделала все, чтобы спасти его, а теперь он сам губит себя. Мачо порвал письма и не ответил ей, он не встречался с ней целых пять лет, до тех пор пока не кончилась война и он, спустившись с гор, где три года партизанил во главе небольшого отряда, обнаружил, что все новенькие дома, которые выстроили для себя сахарные бароны, разграблены и сожжены дотла, а дом Эскобаров стоит целехонек, потому что для японцев он был слишком уродлив и стар, в нем только почернели зеркала да на креслах проросла трава; и он погрузился в скучную работу по восстановлению хозяйства, перемежая ее, как встарь, попойками, женщинами и охотой (последняя не доставляла ему прежней радости, воевал он с большим удовольствием: он собрал своих крестьян-арендаторов, совсем как средневековый сюзерен – вассалов, и вскоре пришел к выводу, что охотиться на японцев и предателей куда веселее, чем на дичь); так он провел примерно год, страдая от малярии и старых ран, а потом в один прекрасный день вдруг собрался и уехал в Манилу, хотя его вовсе не тянуло увидеть город или старых знакомых и почти не тронуло то, что от города остались одни руины, а голые искореженные балки вырисовывались на фоне неба гравюрой страданий; не был он поражен и живучестью города – между грудами битого кирпича сновали автомобили, очереди в кинотеатры растягивались на целые кварталы, среди развалин шумно гудели ночные клубы; а на третий вечер он пошел на показ мод – апогей кошмара – в изрешеченном пулями бальном зале разграбленного отеля, и там, не в силах больше смотреть на блестки и бриллианты, на потолок с обвалившейся штукатуркой и на пол в еще не отмытых пятнах крови, Мачо повернулся, чтобы уйти, и оказался лицом к лицу с Кончей Видаль – это было так неожиданно, что на миг он перестал соображать и не мог понять, где он, кто она такая и когда все это происходит; он словно пробудился от долгого сна и вдруг услышал, как, заикаясь, произносит старое приветствие: «А где же ваши бананы?» – и в его растерянных глазах отразилась ее диадема, сверкающие подвески серег, ее улыбка, он снова почувствовал знакомую боль в костях, мысленно увидел пылающие цветами деревья и отчетливо осознал, что никогда не переставал любить, никогда не переставал желать эту женщину.
К ней вернулась былая красота, которую чуть не погубила их любовь, и она демонстрировала эту красоту куда откровеннее, чем та женщина, помоложе, что некогда танцевала с гроздью бананов на голове. Восторг узнавания длился несколько дней, и, хотя у него кружилась голова от ее красоты и своей радости, он все же почувствовал, что она изменилась, стала тверже и, пожалуй, более жестокой. Теперь казалось невероятным, что когда-то эта женщина трепетала в его объятиях и рыдала от страха и стыда. Все свои слезы она выплакала в войну, сказала Конча. Она потеряла двух сыновей, мужа посадили в тюрьму, и целую неделю, пока шли бои за Манилу, она находилась на грани смерти, переползая из одного убежища в другое: ее платье было разодрано в клочья колючей проволокой, а кругом рвались бомбы. Она уцелела в этом аду и теперь прикрыла раны бриллиантами.
Мачо хотел знать, сумела ли она побороть свою страсть так же, как поборола страх и слезы. Он сам провел три года в аду, и это закалило его – теперь он игнорировал мнение общества, некогда так влиявшее на его отношения с Кончей. Он начал открыто преследовать ее, не заботясь ни о чем. Она не отталкивала его, и все же он чувствовал между ней и собой барьер, хотя порой, когда ему удавалось измотать ее своей погоней, она впивалась ему в губы с прежней жадностью, которая так поразила его пять лет назад. Но, кроме этих случайных поцелуев, он не мог добиться ничего; и вдруг она снова уехала, уехала с Конни за границу, оставив в Маниле кипящего от ярости Мачо. Через год она вернулась и тут же вызвала его к себе. Она сказала, что хочет, чтобы он женился на Конни.
Стоя перед ним на увитом плющом крыльце своего нового дома, очень сдержанная, в зеленом платье и позвякивающих браслетах, она холодно и бесстрастно попросила его жениться на Конни и не шелохнулась, когда он в ярости на нее замахнулся; спокойно посмотрела на его руку, которая на секунду замерла рядом с ее лицом и затем медленно опустилась; а он в этот миг дрожал от стыда, ужаса и ненависти – он искренне ненавидел ее, чувствуя, что она порочна до мозга костей, раз могла сделать такое чудовищное предложение, и в то же время он знал, что пойдет на это, пойдет на все, что она попросит, сделает все, что угодно, лишь бы остаться в ее власти; ненавидя ее, он любил ее так сильно, что не мог даже пошевелиться, не мог повернуться и уйти, не мог порвать с ней и бежать; он мог только, дрожа, стоять лицом к лицу с этой женщиной на тенистом крыльце в зеленоватых сумерках, точь-в-точь как когда-то, много лет назад, он стоял с ней под пестрым зонтом, и лил дождь, и еще в другой раз, на крепостной стене под летним солнцем над новым городом, который тогда полыхал огнем, а теперь превратился в пепел, старые стены и деревья исчезли навеки, а с ними и полусонный счастливый юноша и закутанная в голубую шаль веселая женщина, которая дернула его за ухо в соборе, а потом ела рисовые пирожки возле уличной забегаловки; от той поры ничего не осталось – лишь груда камней, обгорелые корни, ноющая боль в костях и эта все выстоявшая женщина в зеленом с унизанными браслетами руками, которая улыбалась ему в сумраке крыльца; а когда слезы выступили у него на глазах, она простерла к нему руки так неожиданно и браслеты звякнули так громко, что и сейчас, год спустя, сидя в синем костюме и полосатом галстуке в ярко освещенном номере гонконгского отеля, слушая визг проигрывателя и вглядываясь в тающую за окном зимнюю ночь, Мачо гадал, что означал этот жест, что она хотела этим сказать, и, наливая себе еще виски, снова почувствовал, что не сумел правильно понять ее, потому что тогда он решил, что за всем этим не было ничего, кроме бесстыдства, и нехорошо улыбнулся ей сквозь слезы; она отпрянула в зеленоватый сумрак и закрыла лицо руками, словно ожидая удара.
Мачо допил виски одним глотком, вскочил на ноги и обвел комнату безумными глазами. Визжал проигрыватель, ярко горели все лампы, за окнами сиял лунный свет, но Мачо видел сейчас другую комнату и другое окно, возле которого стояла Конни. Он вошел, и она посмотрела на него так серьезно, что он хмыкнул.
Когда он наклонился поцеловать ее, она отпрянула и закрыла лицо руками, словно ожидая удара. Наверное, уже тогда она нашла эти письма. Он чувствовал, что что-то случилось, что она страдает. Ночами она лежала рядом с ним без сна, но и без движения, и всякий раз, когда она догадывалась, что он тоже не спит, ее тело напрягалось и каменело. Мысль о том, что он, сам того не сознавая, мучил ее все эти месяцы и что его поцелуи, его прикосновения, даже просто его присутствие рядом с ней были для нее пыткой, ужаснула его, и холодный пот выступил у него на лбу, а в памяти всплыло другое искаженное болью лицо, – лицо девушки, которая опускалась на колени и мелко дрожала, когда он приближался к ней: он вспомнил, что и та, другая, тоже страдала, а он ничего не знал об этом, вспомнил, как он врезался на автомобиле прямо в заросли сахарного тростника, а потом его вытащили из обломков, и он, все еще в ярости, кусался и отбивался ногами, а его лицо и руки превратились в сплошное кровавое месиво.
Узнав, почему сбежала Конни, он не разбил машину и не поранился, а попробовал отогнать ужас, уверяя себя, что «Конни – совсем ребенок и, вероятно, даже не заметила, что письма написаны давным-давно». А теперь он понял то, что поняла Конни. Даты ничего не значили, письма – дело прошлое, но не забыто предательство. И в сознании девочки постепенно и мучительно складывалась картина того, что произошло: он губил ее, они губили ее еще до того, как отдали ее ему в жены. Предательство, совершенное до их свадьбы, совершалось и после, хотя он не был уже любовником Кончи. Простертые к нему руки Кончи в сумраке крыльца – теперь он это понял – могли означать многое, но прежде всего этот жест означал прощание, конец всему, что было между ними. Но в то время он истолковал это как условный знак заговорщиков, а теперь Конни знала, что вышла замуж за любовника своей матери, что это любовник ее матери прикасался к ней, целовал ее и целый год их супружества лежал рядом с ней каждую ночь. Он перестал быть любовником ее матери только неделю назад, когда, открыв ящик стола, обнаружил, что письма исчезли, и понял, что все действительно было «давным-давно и с этим покончено раз и навсегда».
Вдруг, успокоившись, Мачо подошел к телефону, взял трубку, назвал номер и долго слушал гудки, пока телефонистка не сказала, что, к сожалению, номер не отвечает. Он знал, что там, где звенел телефон, тоже не спали, он знал, что она слушает сейчас звонки, и чувствовал ее близость, ощущал прежнюю сладкую боль в костях, но теперь, когда он положил трубку и стоял посреди комнаты в синем костюме и в полосатом галстуке, он понял, что с этим действительно покончено раз и навсегда, раз и навсегда; крепостная стена и полыхающие деревья канули в вечность, остались лишь груда камней, обгорелые корни и непреходящее чувство вины, которое одно только отныне связывало их, да еще телефонные звонки среди ночи в ее номере, а здесь – яркий свет и предсмертный вопль проигрывателя, который он опрокинул ногой на пол; и в наступившей тишине он вдруг услышал свое дыхание и биение собственного сердца.
В это же время в Гонконге не спали еще пятеро.
Конча Видаль действительно слышала телефонные звонки и знала, кто звонит, но не поднялась – она сидела в махровом халате на полу, уронив руки и голову на край постели; телефон звонил и звонил в залитой лунным светом комнате, но она уткнулась лицом в простыни и крепко стискивала в руках подрагивающие четки. Читая молитву, она уже начала засыпать, но телефон разбудил ее, а теперь, когда звонки отзвенели, наступила тишина, спастись от которой было невозможно. Ее нашли, ее снова выследили. Когда человек с нечистыми руками совершает добрые дела, их последствия оказываются более мрачными и тяжкими, чем его грехи. В свое время она подчинилась голосу совести и отказалась от Мачо, хотя для нее это было равносильно отказу от самой жизни. Но этот отказ развратил его гораздо больше, чем ее страсть. И все же она не теряла надежды спасти его и спасти свою дочь и отдала их друг другу – двух людей, которых она любила и которых боялась больше всего на свете, двух заблудившихся детей, – в глубине души она знала, что они могут быть счастливы, потому что их можно доверить друг другу. Она последовала зову сердца и с ужасом узнала, что люди видят в ее поступке только жестокость, циничность и разврат. После войны у нее был выбор; снова начать все с Мачо или погибнуть без него. Она предпочла погибнуть. Ее спасение означало бы его гибель. То была вторая и отчаянная попытка спасти его, но даже Мачо этого не понял – он только нехорошо улыбнулся тогда сквозь слезы, доказывавшие его невинность, а она, простирая к нему руки, заключила в объятия свою судьбу. Она протянула к нему руки, а в ответ – нехорошая улыбка тогда и сейчас яростный телефонный звонок, несущий известие о том, чего ей не следовало бы знать. Пытаясь спасти двух самых дорогих ей людей, она погубила их обоих. Ее благие порывы оборачивались муками для них, ее добрые намерения только мостили дорогу в ад для нее самой, и теперь она даже не удивлялась этому. В жизни Кончи Видаль был момент, когда ей пришлось сделать высший выбор между добром и злом – она решилась. И стала фаталисткой. Она знала, что все, что она делает, предопределено, но и не могла отказаться от молитв, от мучительных усилий и ночных страданий, о которых никто бы не догадался, увидев ее днем. И сейчас она долго молилась, прижавшись лицом к краю кровати и стискивая в руках подрагивающие четки, молилась до тех пор, пока полосы лунного света не сменил свет солнца.
Жалюзи рассекали лунный свет на полосы возле кровати, на которой ворочалась Рита Лопес, мрачно слушая, как на соседней кровати мерно дышит сладко спящая Элен Сильва. Полосы лунного света медленно передвигались по комнате: ножки кресел и горлышки бутылок то выступали из темноты, то снова погружались во мрак небытия. Но Рита уже не смотрела на них. Сначала беда пришла в ее салон, теперь она пришла к ней в дом и даже заняла ее диван. Если она сейчас заснет, дом рухнет; если она сейчас заснет, она проснется в чужой комнате. «А если ты сейчас не заснешь, – сказала себе Рита, отгоняя эти дикие мысли, – то завтра встанешь сумасшедшей». Она встала и задернула занавеси на окнах. Светлые полосы исчезли, комната утонула во мраке, в ней слышалось только могучее дыхание Элен Сильвы. Рита открыла дверь в гостиную и заглянула туда. Занавеси там не были задернуты, и лунный свет делил пол на квадраты, пятнами белел на стенах, освещал кресло, заваленное черными мехами, мерцал в валявшемся на полу жемчужном ожерелье, на свесившейся над ним руке и на краешке одеяла, а остальная часть комнаты была погружена в темноту, и в этой темноте лежала девушка – на диване Риты, укрытая одеялом Риты, спавшая на подушке Риты, – девушка, которая, в изнеможении опустившись на диван, не забыла снять ожерелье, но уже была не в силах донести его до стола и, засыпая, уронила на пол. Риту охватила жалость, она на цыпочках пересекла комнату и задернула занавеси. В темноте она слышала лишь дыхание девушки и шум поднимавшегося за окном ветра.
Шум ветра заставил Мэри Тексейра зябко поежиться, и она подумала о муже, спавшем рядом с ней, и о детях в соседней комнате, потом она улыбнулась – ей было тепло. Она немного отодвинулась от Пако, словно заявляя, что существует и отдельно от него; она не спала сейчас, но, глядя на него, делила с ним наслаждение крепкого сна, точно так же, как в другие ночи разделяла с ним бессонницу. Ночные кошмары вновь и вновь убеждали ее, что она теперь больше не «я», а «мы»: ей чудилось, будто она просыпается и, увидев, что Пако исчез, бродит из спальни в детскую, из детской в кухню в поисках самой себя. Точно такие же сновидения преследовали ее и до того, как их супружеская жизнь оказалась под угрозой, но тогда это были сладкие сны, немного смешные и желанные, а не кошмары, от которых она просыпалась в холодном поту. Счастливые супруги не осознают своего счастья, не воспринимают себя «как единую плоть»; только теперь, почувствовав, что муж отдаляется от нее, она поняла: их супружеская жизнь перешла в новую фазу, и эта мысль заставила ее сесть в постели и оглядеть маленькую спальню; ей казалось, что она погрузилась в сон Пако, как в пучину, а теперь вынырнула на поверхность и искала глазами берег. И еще она думала: а если ей действительно однажды придется бродить из спальни в детскую и из детской в кухню в поисках самой себя, того, что осталось от ее «я», что она найдет? Ветер за окном зашелестел в ветвях деревьев, и она увидела, как сквозь этот ветер идет девушка – высокая девушка в туфлях без каблуков, с развевающимися каштановыми волосами. За ее спиной высились горы Толедо, а над головой голубело летнее небо Испании. Она часто видела себя девушкой среди гор – тем летом (в год, когда началась война) она побывала в Испании; она уехала туда потому, что не хотела терять свою независимость, она уехала, не думая об отце, который так нуждался в ней, и о Пако, который так хотел жениться на ней; она уехала неожиданно, не сказав им ни слова, – просто однажды утром отправилась с маленьким чемоданчиком в порт и села на пароход, отплывавший в Испанию. Та девушка так и не вернулась, подумала Мэри, вернулась другая, измученная и порабощенная любовью. Но та, прежняя, все еще шла среди вечного лета навстречу горному ветру. Из пяти детей, которым Гонконг казался слишком маленьким, из пятерки друзей, некогда похитивших рыбацкую джонку, чтобы бежать в Патагонию, только одна та девушка избежала участи остальных, томившихся теперь в четырех стенах: Пепе – в своем кабинете ветеринара, Рита – в художественном салоне, Тони – в келье монастыря, а она сама и Пако – в тесной, как консервная банка, квартирке. Почувствовав себя совсем одинокой, Мэри снова легла и обняла мужа, словно умоляя его позволить и ей погрузиться в глубины его сна. Не просыпаясь, он прижался к ней, и она порадовалась, что его бессонница кончилась, что он снова крепко спит, а потом вспомнила, что утром ему впервые за долгое время снова надо будет идти на работу, и тотчас решила: сегодня мы устроим вечеринку, это событие надо отметить. Погрузив лицо в его волосы, она улыбалась и обдумывала, как устроить это маленькое торжество, и вдруг сквозь неожиданно убавившийся шум ветра различила отдаленные звуки – чьи-то еле слышные неверные шаги. Подсчитывая в уме тарелки, прикидывая необходимые закупки, мысленно делая в квартире уборку, она крепче обняла мужа и глубже зарылась лицом в его волосы, стараясь не слышать отдаленных шагов, не слышать, как она сама ходит из спальни в детскую и из детской в кухню, останавливаясь перед каждой дверью, парализованная страхом перед тем неизвестным, что ожидает ее по ту сторону порога.
С новым порывом ветра, всколыхнувшим в лунной ночи темные тени ветвей, до Пепе Монсона донеслись сквозь его мысли отдаленные звуки тяжелых ударов, но, приподняв голову с подушки, он услышал лишь шум ветра в верхушках деревьев и шаги в соседней комнате. Он вскочил с постели и, нащупывая ногами шлепанцы, потянулся за халатом, но как раз в это время шаги затихли. Пепе вслушивался, стараясь понять, что делает отец в соседней комнате. Может быть, старик согнулся у окна, может, неподвижно сидит в качалке, а может быть, тоже стоит в темноте, вслушиваясь в звуки ночи? Пепе сел на кровать и потянулся за сигаретой. Теперь ему не удастся заснуть, пока он не услышит, как заскрипит кровать в комнате отца. Но он ведь и до сих пор никак не мог заснуть, хотя ему и очень хотелось спать и он чувствовал себя усталым и разбитым. В его мозгу все еще пел проигрыватель Мачо, и под музыку снова и снова всплывали эпизоды сегодняшнего дня – утренний визит Конни; поразившее его в полдень состояние отца; визит сеньоры де Видаль; Пако, уткнувшийся лицом в траву; ужин в «Товарище»; стремительный подъем к вершине утеса на белом «ягуаре»; бегство сквозь светлую ночь; Конни сидит на тачке со связкой писем в руках, а в ее глазах отражается печальный свет луны; Мачо Эскобар стучит кулаком по столу, а, в ярко освещенной комнате поет и поет проигрыватель. Но за всем этим, за несмолкающими звуками музыки, за подавляемой тоской он видел отца, бессильно поникшего в качалке, без сознания, но с открытыми глазами и с улыбкой на губах. И Пепе Монсон вдруг подумал, что весь прошедший день – лишь иллюзия, видение его отца, бред курильщика опиума, наркомана, но в этом бреду действовали новые, непривычные персонажи. Вчера утром, когда отец уже погружался в блаженное забвение, раздался стук в дверь, и, открыв ее, Пепе оказался лицом к лицу с Конни Эскобар в черной шляпке, в мехах, с жемчугами на шее. Он вспомнил, что, когда она осведомилась: «Доктор Монсон?» – он подумал, что она спрашивает отца. Весь разговор с ней был бредом, молодая женщина была попросту видением старика, и ее бегство было бегством через отравленные наркотиком руины его сознания. Это видение растает в дневном свете, который вернет отца в обычное состояние; утро перечеркнет все, что было днем и ночью, завтрак восстановит четкость ума. И словно в ответ на эти мысли, он с облегчением услышал шаги в соседней комнате и скрип кровати. Он опять прислушался, но на этот раз до него донесся только шум ветра, который теперь изменил направление. Наверное, будет дождь, подумал он и, погасив сигарету, натянул на себя одеяло; звуки первых капель он услышал уже сквозь сон.
Перед самым рассветом Рита Лопес вздрогнула и проснулась от глухого шума. Но дом не рушился, и она была в своей комнате, просто в окно стучал дождь, и его дробь растворялась в посапывании, доносившемся с соседней кровати: Элен Сильва спешила доспать остаток ночи. Вдруг, все вспомнив, Рита спрыгнула с постели, подбежала к двери, чуть приоткрыла ее и заглянула в гостиную.
Диван был пуст, гостья исчезла.







