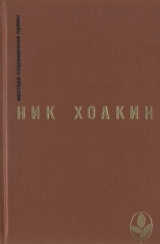
Текст книги "Женщина, потерявшая себя"
Автор книги: Ник Хоакин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
СЕНЬОРА ДЕ ВИДАЛЬ
Над сырым Гонконгом занималось ясное утро, удивляя ярким солнечным светом пассажиров, заполнивших первые паромы и спешивших выбраться на верхнюю палубу, окунуть в теплый воздух озябшие пальцы и радостно улыбнуться (был канун полнолуния, знаменовавшего начало китайского Нового года) огромному городу на скале, подымавшемуся, как гигантская губка, из черной воды навстречу слепящему свету; нагромождение домов у самого берега казалось огромным тортом, в который врезались узкие улочки, кишевшие бесчисленными муравьями-рикшами. В центре, где на каждом углу продавали охапки цветов – хризантем, георгинов и красных лилий – и где западную архитектуру теснили фантастические бамбуковые фасады, было полно китайцев в праздничных черных одеждах, англичан в костюмах из твида, сикхов в тюрбанах и с ружьями, метисов в свитерах или в кожаных куртках, русских эмигранток в белых мехах, нищих детей-попрошаек в причудливых одеяниях, сшитых из матрасных чехлов, – и все они сновали по улицам, украшенным свешивавшимися с балконов и окон коврами и потому, казалось, освещенным не дневным светом, а тысячами красных фонариков. Ночью, когда взойдет луна, вспыхнут огни фейерверков, а утром город будет завален красными патрончиками от потешных огней; но сейчас по солнечным улицам торопливо шагали белые и желтые люди, не обращая внимания на гул, то и дело сотрясавший скалу, которая, казалось, оседала, ища равновесия; хотя гул был глухим и отдаленным, он отчетливо слышался даже в шумном центре, а еще отчетливее – выше по склону, где шептались пальмы и сосны и стояли на расстоянии друг от друга элегантные белые виллы; но яснее всего гул был слышен на голых вершинах холмов и гор, в том числе и на вершине горы Святого Креста, где в келье монастыря святого Андрея молодой падре Тони Монсон стоял у окна и, вслушиваясь в неясные глухие отзвуки канонады (в ту зиму на континенте война все еще шла), вдруг почувствовал нежность, смешанную с горечью, нежность к этому весело гудевшему у его ног, обреченному языческому городу, который был и не был родным – здесь он родился, но не здесь была его родина; этот город он вначале любил, потом боялся его, а в конце концов отверг; и красоту этого города – сырую весной, душную летом, совершенную осенью и порочную зимой – он, чужеземец, знал, как женатый человек знает красоту своей жены, но он никогда не считал этот город своим, до конца познанным; этот город оставался для него арендованным пристанищем его детства, где он обитал телом, но не душой; и, когда он бродил по этим улицам, он грезил о совсем других улицах – улицах его настоящего родного города, которого он никогда не видел и который он тоже в конце концов отверг, но в его представлении тот, родной город всегда заслонялся вершинами, на которые он карабкался, когда был мальчишкой, и рядами крыш, спускавшихся вниз миллионами ступенек, бухтой с паромами и дымящимся на той стороне, отливающим на солнце черным и золотым Кулунем, где сейчас лежал его отец, умирая в изгнании.
Как приятно старому человеку погреться на теплом солнышке, подумал падре Тони, но тут же нахмурился, вспомнив, что рано утром, еще до завтрака, ему звонил Пепе, но не насчет отца, а по весьма странному поводу; и, отойдя от окна, чтобы собрать белье в прачечную, падре Тони с горечью подумал, что монастырская келья, в сущности, ненадежное убежище. Хотя монастырь одиноко высился на горной вершине, он не был отрезан от мира: с одной стороны горы у ее основания находился ипподром, и рев толпы перекрывал вечерние службы по субботам, с другой – был квартал веселых домов Вань Чай, откуда доносились крики воров, ссорившихся из-за добычи, и пронзительные вопли проституток, торговавшихся с моряками. Как говорили, зажимая носы, монахи, монастырь святого Андрея был пропитан запахом бренного мира – им пахли и портики, и коридоры, потому что китайцы удобряли свои огороды на склонах горы содержимым выгребных ям, и, когда вдруг жарким днем поднимался ветер, благочестивые отцы, вместе проводившие время в бдениях, отрываясь от молитв, подозрительно посматривали друг на друга, хотя постоянство запаха вскоре убеждало их, что никто не виноват. Отец-настоятель как-то раз не без ехидства заметил, что ни один монах из монастыря святого Андрея, каким бы святым он ни был, не может умереть окруженным духом святости.
Но как раз этот запах, думал облаченный в чистую белую сутану падре Тони, стоя на коленях на полу, покрытом ковром из солнечного света, и с улыбкой откладывая и пересчитывая белье для стирки, именно этот запах монастыря святого Андрея был для них в детстве духом святости. Пропитавшись этим запахом, он и Пепе свысока смотрели на других, потому что запах означал, что они только что вернулись с исповеди или причастия из монастыря святого Андрея, что они все еще осенены благодатью, и потому они всегда с негодованием отвергали предложение мамы принять ванну и переодеться перед завтраком. Свою святость они должны были прежде продемонстрировать Мэри, Пако и Рите, и, когда эти маленькие грешники только хихикали и затыкали носы, братьям Монсонам казалось, что к их благочестию добавляется еще и венец мученичества.
Раздался стук в дверь, и в келью просунулась голова послушника.
– Пришли из прачечной, падре Тони. Можно забирать?
Послушник широко распахнул дверь. За ним в темном зале толпились другие послушники – неожиданно хлынувший яркий солнечный свет заставил их сощуриться и засиял на белых одеждах.
– Доброе утро, молодые люди, – сказал падре Тони, поднимаясь с пола. Он немного отклонился назад, приподнял сутану, прицелился и так поддал ногой узел с грязным бельем, что тот вылетел за дверь под восторженные крики юных послушников, и они с дикими воплями пинками погнали его по коридору. Не успел падре Тони причесаться, как толпа его подопечных снова появилась в дверях, словно большой белый медведь с десятком черных голов.
– Входите, дети мои, – сказал падре Тони, отходя от умывальника, и нахмурился (он был помощником отца-настоятеля), увидев, как, робко войдя в келью, послушники тут же разбились на четыре группы: китайцы, вьетнамцы, филиппинцы и метисы. Падре Тони раскрыл было рот, чтобы сурово осудить подобное объединение по племенному признаку, но вместо этого рассмеялся, потому что они являли собой довольно странную картину: от холода лица китайцев и метисов раскраснелись, филиппинцев, напротив, почти почернели, и только лица вьетнамцев сохранили свою невозмутимую желтизну слоновой кости. Солнце бросало улыбки на средневековые одежды этих детей Востока.
– О, какие мы сегодня опрятные и аккуратные! – заметил падре Тони.
– После завтрака все будет не так, – сказал один из метисов, а филиппинцы закричали хором:
– Сегодня день китайских палочек, падре, сегодня мы должны есть китайскими палочками! Мы все перемажемся!
– Не перемажетесь, если научитесь пользоваться палочками как полагается.
– А разве нельзя устроить день палочек накануне банного дня, падре?
Падре Тони улыбнулся, представив себе мучения послушников-некитайцев в трапезной, где они пытались совладать с выскальзывавшими из рук палочками. Как они краснели, когда в самый последний момент роняли с великими трудами выловленную палочками еду на чистые сутаны. По дороге в часовню на благодарственную молитву после трапезы мальчики тайком отряхивались, и путь их был отмечен кусочками рыбы, мяса и лапшой, и, даже когда они уже выстраивались перед алтарем и пели Miserere mei,благочестивая обстановка неизменно нарушалась: у кого-то на воротнике красовалась вареная креветка, у кого-то изящно свисала с уха длинная полоска лапши.
– Как будущие миссионеры, – торжественно начал падре Тони, и улыбающиеся лица сразу посерьезнели, – как бесстрашные воины Иисусовы, мы, которые, когда придет день, будем призваны восстановить веру на континенте, должны уметь есть палочками. И как добрые верующие, мы должны признать, что отец-настоятель мудро определил днем китайских палочек именно тот день, когда меняют белье.
Он помолчал и продолжал уже обычным тоном:
– Ну, а чем же мы займемся сегодня утром? – Занятия уже не проводились: в монастыре чтили китайские обычаи, и по случаю китайского Нового года предстояли месячные каникулы. – Для фейерверков еще, кажется, рановато?
– На прогулку, падре, на прогулку!
– Наверх, в горы?
– Может быть, лучше вниз, к пагоде?
– Итак, мы все хотим сегодня посетить пагоду?
Резко зазвенел звонок у входа в послушническую, один из послушников убежал и вернулся с монахом-привратником.
– Вас спрашивает какая-то молодая дама, падре Тони.
– В исповедальне?
– В комнате для посетителей.
Сердце его упало.
– Сейчас иду, брат, спасибо. А вы, дети, пока переоденьтесь в мирское платье. Я скоро вернусь.
Опустив глаза и сложив руки под наплечниками, дети чинно вышли, но едва они оказались в коридоре, оттуда донеслись шум, взрывы смеха и хлопанье дверей. Каждый раз, как хлопала дверь, падре Тони вздрагивал – он сейчас чувствовал себя древним, как Мафусаил.
– Вот пострелята, – пробормотал он, ища глазами свои четки.
Она стояла в черной шляпке и черных мехах у высокого двустворчатого окна в дальнем конце узкой длинной комнаты, где было много таких же окон – все они выходили на одну сторону, все были затворены, и возле каждого стол и несколько стульев. Из окон виднелся край лужайки, окруженной низкой неровной стеной, из-за которой выглядывали верхушки деревьев, росших ниже по склону, листики удивленно парили в воздухе на фоне голубого неба и темно-синего моря. Солнце не заглядывало в эту часть монастыря, но огромные прозрачные стекла с одной стороны и белая стена с другой, аккуратный ряд полированных столов и черно-белые квадраты на полу излучали холодный свет, и комната сияла чистотой. Ближайший к двери стол был залит лужицами воды, завален обрывками бумаги и грудами папоротника – закутанные в меха дамы из общества святой Анны болтали по-китайски и пальцами, унизанными кольцами, разбирали принесенные с собой цветы и ставили их в огромные напольные вазы.
Падре Тони остановился в дверях и посмотрел на суетящихся дам и на единственный неприбранный угол комнаты с чувством облегчения. Этих женщин он знал и понимал. Они были набожны, немолоды и очаровательно некрасивы. Миниатюрная миссис By, ковыляя, обогнула стол и направилась к священнику (она представляла собой классический тип китаянки – от головы до крошечных ступней). Ее личико напоминало злобно сморщенный кокосовый орех, но падре Тони так к ней привык, что был готов расцеловать ее, обнять, схватить в охапку и закружить в танце по белым и черным квадратам.
– Какие великолепные цветы, миссис By!
– Увы, даже они не в силах заглушить вонь, падре!
Остальные дамы чуть не задохнулись от возмущения и закатили глаза, но падре Тони громко рассмеялся. Эта классическая китаянка говорила по-английски со странным акцентом, поскольку воспитывалась в монастыре у ирландских монахинь.
– В этом нет ничего смешного, падре. Вечером в пятницу прямо отсюда я отправилась на маджонг к мисс Чонг Бянь – это та самая дама, которая подумывает об обращении в христианство. Ну так вот, как только я вошла, она начала принюхиваться, а потом отвела меня в сторонку, попросила не обижаться и сказала, что, как ей кажется, от меня пахнет. «Да, дорогая, – пришлось мне объяснить, – я только что от добрых отцов из монастыря святого Андрея, а потому, пожалуйста, извините меня – я не успела вымыться и переодеться».
– Ах, миссис By, значит, из-за вас я потерял возможность обратить в истинную веру еще одну душу.
– Но по-моему, она была очень заинтригована, падре, и, очевидно, решила, что мы тут все вместе валяемся в грязи или что-то в этом роде. Я не стала ее разубеждать. Язычникам только на пользу, когда их поддразнивают, верно?
– Я содрогаюсь при мысли, каково приходится бедному мистеру By!
– О, он-то поклялся, что разрешит себя крестить только на смертном одре.
– Но это ведь, конечно, не значит, что его смерть следует ускорить?
– Вы всегда так жестоки ко мне, падре Тони! – воскликнула китаянка и, топнув маленькой ножкой, заковыляла к своим цветам, а падре, подмигнув хихикавшим дамам, напустил на себя уверенный вид и прошел в дальний конец комнаты.
Она стояла и глядела в окно, но, как только он подошел, резко повернулась, и падре Тони с беспокойством всмотрелся в ее бледное лицо – на фоне небесной голубизны глаза ее зловеще сверкали под черной шляпкой, а щеки тонули в черных мехах.
– Миссис Эскобар?
– Вы отец Тони?
– Да, так меня зовут почти все, увы. Это еще один крест, который мне приходится нести. Садитесь, пожалуйста. Сегодня утром звонил мой брат, он был несколько встревожен. Вы, как мне известно, исчезли вместе с ночным мраком, но он был уверен, что вы придете сюда сегодня.
– Он сказал почему?
– Сказал, – ответил падре Тони, садясь за стол напротив нее, – но, боюсь, я неправильно его понял. Пепе так легко возбуждается, а когда он говорит по телефону, то все путает. Сегодня утром он кричал в трубку, что я не должен уговаривать вас завести детей и молиться. Я спросил его, не пьян ли он.
– Нет, он не был пьян, падре.
– Значит, я понял его правильно?
– Полагаю, что да.
– Но ведь он сказал, что у вас…
Поглядев в сторону, падре Тони прислушался к голосам дам из общества святой Анны – их болтовня на кантонском диалекте напоминала звуки настраиваемого ксилофона. Убедившись таким образом, что слух его не подводит, он перевел взгляд на девушку. Она сидела, как ребенок, впервые пришедший в школу: очень прямо, положив руки на край стола и внимательно глядя в глаза учителя.
– А как, – спросил он голосом помощника отца-настоятеля, – как вы объясните этот странный, гм, феномен?
– Я надеялась, что вы поможете мне найти объяснение, падре.
– Я?
– Разве на теле людей не появляются иногда беспричинно таинственные знаки?
– Вы имеете в виду стигматы?
– Не думаете ли вы, что у меня…
– Дитя мое, стигматы – знаки особой благодати, которая нисходит только на святых. И потом я уверен, что господь не настолько, гм, неделикатен, чтобы позволить себе… Сама мысль об этом!..
– О, падре, все, кроме меня, думают, что это отвратительно! Поэтому я и хочу избавиться от них. Но я не должна этого делать, я не должна! Вы обязаны сказать мне, что я не должна!
– Тише, дитя мое, тише, пожалуйста. На нас смотрят.
– О, как мне заставить вас понять?!
– Прежде всего я хотел бы знать, как вам пришла в голову такая чудовищная мысль.
– Но это вовсе не мысль! А кроме того, какая разница – существуют ли они только в моей голове или на самом деле, вот здесь, если я действительноверю, что они существуют?
– Не показывайте пальцем! Пожалуйста, не показывайте пальцем!
– Но они действительно здесь!
– Полно, полно! Если бы вы были юношей, я бы посоветовал вам заниматься спортом.
– Я им занималась, когда училась в школе.
– Не могу же я рекомендовать спорт замужним женщинам всякий раз, когда они приходят и говорят, что у них на теле стигматы. Кстати, как у вас это появилось?
– Однажды ночью я проснулась и поняла, что их у меня два.
– У вас не было видений или чего-нибудь в этом роде?
– Я видела сон. Мне снилось, что я – это моя мать, но в то же время я оставалась и самой собой. Это все очень запутано. Нас с ней одинаково зовут. Я не знала, кто я. Я как-то стала… обеими сразу. А тут мой муж – он спал подле меня – пошевелился во сне, и я проснулась. Мне не нужно было смотреть или трогать себя. Я поняла, я з нала,что их два.
– И что же вы сделали?
– Я встала и что-то на себя набросила. Потом опустилась на колени, помолилась и возблагодарила господа.
– На вас снизошла благодать?
– О, я была в ужасе, но в то же время ощущала и благодать и облегчение. Видите ли, до этого я решила, что буду дурной, порочной. Но теперь я стала отмеченной, отличной от всех других – как прокаженная. Так я спаслась от самой себя. Но иногда, падре, мне кажется, что это спасение обходится мне слишком дорого.
С другого конца комнаты донеслись визги и хихиканье – почитательницы святой Анны поднимали вазы с пола. Затем дамы двинулись к выходу торжественной процессией, и каждая несла вазу с цветами – ни дать ни взять жрицы в коричневых мехах, а цветы на высоких стеблях колыхались у них над головой, как павлиньи хвосты. Падре Тони смотрел, как они, проходя через дверь, растворялись в сумраке соседнего зала, и ему казалось, что комната для посетителей вытягивается в длину – дверь как бы удалялась, черных и белых квадратов пола становилось все больше. Он еще шире раскрыл глаза и снова повернулся к молодой женщине, сидевшей напротив.
– Миссис Эскобар, не хотите ли вы исповедаться?
Она быстро перевела взгляд себе на руки, потом с вызовом посмотрела ему в глаза.
– Нет.
– Потому что на исповеди вам придется признать, что все, что вы мне здесь наговорили, – ложь?
– Это не ложь, падре, а если даже и ложь, я не хочу знать правду.
– Тогда не понимаю, чем я могу вам помочь.
Она вздохнула, неожиданно нырнула в свои меха, откинулась на стуле и вытащила сумочку.
– Здесь можно курить?
– Если вам это так необходимо.
Она уже прикуривала. Он наклонился к ней через стол.
– Послушайте, чем дольше вы откладываете, тем труднее вам будет принять правду.
Пожав плечиком, она отвернулась в сторону, чтобы сигаретный дым не летел на падре Тони.
– А со временем вы, может быть, окажетесь вообще не в состоянии взглянуть правде в глаза. Это вас не пугает, миссис Эскобар?
Она удивленно открыла рот.
– Пугает?
– Я не думаю, что вы уже окончательно уверовали в то, что говорите. Пока это еще шутка, своего рода игра, но, если вы будете играть в нее слишком долго, дело может принять серьезный оборот. Возможно, случится так, что вы не сумеете выкарабкаться из этого.
Она тоже наклонилась к нему через стол, и жемчуг на ее шее тускло сверкнул.
– А кто вам сказал, что я хочу выкарабкаться?
Он порывисто поднялся и, растерянно глядя на дверь, пробормотал:
– Миссис Эскобар, не думаю, что я тот человек, который вам нужен в данную минуту. Я недостаточно компетентен… я хочу сказать, у меня…
Он бессильно развел руками.
– Но в чем дело, падре? – Она смотрела на него с удивлением.
– Не хотите ли вы поговорить со священником постарше?
– Вы мне вполне подходите.
– Нет, лучше вам поговорить с отцом-настоятелем. Я всю жизнь исповедуюсь только у него. Сам я принял постриг совсем недавно. А он необыкновенный старик, он все понимает. Я ведь ношу эту сутану меньше года. Позвольте, я позову его.
Она смотрела на него по-прежнему недоуменно, потом вдруг улыбнулась.
– Подождите, я сейчас, – крикнул он и, не дожидаясь ответа, повернулся на каблуках и бросился к выходу. Только в дверях он понял, что даже не успел перевести дыхания. Он на секунду задержался, обернулся и увидел ее улыбающиеся глаза. Покраснев, он степенно сложил руки под наплечником и вышел, склонив голову.
На ступеньках лестницы, ведущей в спальни, сидели его послушники в джинсах и свитерах, и он недовольно подумал про себя, что надо будет им сказать, что монахам – будь они в сутане или в мирской одежде – не подобает сидеть развалившись и дергать друг друга за уши. Но, завидев его, они радостно вскочили на ноги, их поскучневшие лица посветлели, и он почувствовал угрызения совести.
– Простите, что заставил вас ждать, дети мои, но, боюсь, вам придется потерпеть еще немного. Почему бы вам пока не пойти на задний дворик? Там солнце.
– Вон идет брат-привратник, падре. Он, кажется, хочет вам что-то сказать.
– Падре Тони, та молодая дама в приемной просила вас не беспокоиться, она зайдет в другой раз.
– Она ушла?
– Как только вы вышли из приемной.
Молодой монах почувствовал, как кровь бросилась ему в голову. Он отвернулся к стене и закрыл лицо руками. Послушники замерли разинув рты, привратник жестом велел им удалиться. Заслышав их шаги, падре Тони повернулся, протянул к ним руку и сказал:
– Погодите.
Они остановились и смущенно уставились на него. В окно за их спинами были видны дамы из общества святой Анны – коричневый меховой кружок. Разведя руки в стороны и улыбаясь солнцу, они поджидали свои автомобили. Но все эти знакомые лица на сей раз вызвали у падре Тони отвращение. Его послушники казались похожими на ядовитые грибы, дамы внизу – на стаю мышей. «Ячувствую себя в безопасности только с детьми и со старухами», – пришла ему в голову нелепая мысль, а вслух он сказал:
– Дети мои, у меня для вас дурные вести. Придется нам отложить нашу прогулку. Мне нужно съездить в город, – и, повернувшись к привратнику, он спросил. – Отец-настоятель у себя?
– Когда сегодня утром я позвонила Пепе, – рассказывала братьям Монсонам Рита за обедом у них дома, – и сообщила ему, что девушка исчезла, он спросил: «Какая девушка?» А потом сказал: «Ты идиотка. Конечно же, она исчезла. Начнем с того, что ее там вообще никогда не было. Она – иллюзия, галлюцинация». А сразу после этогоон спросил: «Она не оставила для меня записки?» Если бы я могла добраться до него по телефонным проводам, я бы откусила ему нос!
– А потом он позвонил мне, – сказал падре Тони, – и говорил примерно так: «Тони, Тони, это ты? Слушай, Тони, слушай внимательно. Сегодня к тебе придет девушка, филиппинка. У нее два пупка. Да, два. Ты что, глухой? Когда она придет, пожалуйста, не проси ее читать молитвы и рожать детей!» Ну, я сказал ему, что, даже если женщину попросить родить ребенка, она все равно не сможет по первой просьбе извлечь на свет божий младенца, как фокусник – кролика из шляпы; а если бы даже эта девица и могла такое, я, конечно же, не стал бы просить ее делать это в монастыре святого Андрея. У нас там нет никакого родовспомогательного оборудования, а кроме того, только представьте себе скандальные заголовки в газетах: «Роды в монастыре! Шестерка близнецов появилась на свет в монастыре».
– Смейтесь, смейтесь, – сердито пробормотал Пепе, набив полный рот. – Вам не пришлось пережить того, что я пережил сегодняшней ночью. Я не спал ни минуты.
– Я тоже, – откликнулась Рита, очищая апельсин, – после того как ты, скотина этакая, вытащил меня из постели. А к тому же Элен Сильва, еще одна скотина, всю ночь готовилась в постели к олимпийским играм или чему-нибудь другому в этом же роде. А я была при ней хронометристом. Интересно, как тыведешь себя в постели, Пепе? Пожалуй, мне полезно это узнать, прежде чем я начну спать с тобой. Да, чуть не забыла – звонила Мэри. Она сегодня устраивает сборище во второй половине дня и приглашала нас всех.
– Мне она тоже звонила, – сказал падре Тони.
– Ты ведь сегодня свободен после обеда, Пепе?
– В честь чего она это затевает?
– Китайский Новый год, а кроме того, Пако нашел работу.
– Мэри становится истеричкой.
– Но, Пепе, что же истеричного в желании пригласить гостей?
– Она занимается пустяками или делает вид, что занимается ими, в то время как надо спасать семью.
– А ты занимаешься пустяками, в то время как надо спасать меня.Ты когда-нибудь справишься с этим салатом? И вообще, по-моему, ты не прав. Если Мэри приглашает гостей, значит, опять все в порядке. Да, я тоже почувствовала, что вчера она была, пожалуй, слишком весела, но это понятно: Пако нашел работу и теперь у Мэри камень с души свалился. Ну и, конечно, она слегка играла, чтобы это видела сеньора де Видаль – она ведь была тут же, в зале. Кофе, Тони?
– Да, пожалуйста, только не надо пирожных. Я стараюсь обходиться без них во время поста. Вы знаете, я бы не возражал встретиться с этой сеньорой де Видаль. Вот с чего мне, наверное, следовало бы начать. А ты что думаешь, Пепе?
– Ты и ее хочешь спасти?
– Думаешь, не справлюсь?
– Чего это вдруг у тебя появилось такое апостолическое рвение?
– Я же говорил – мне стыдно, мне очень стыдно за себя. Я испугался и сбежал от этой девушки.
– Что было очень благоразумно с твоей стороны, – сказала Рита, но падре Тони отрицательно покачал головой.
– Нет, я потерпел поражение. То было мое первое испытание, и я его не выдержал. Теперь я должен разыскать ее и попытаться помочь ей. Думаю, мне надо съездить к Кикай Валеро. Кикай всегда знает, кто где в Гонконге. Ты меня не подвезешь, Пепе?
– Я оставил машину возле салона. Рита захотела пройтись.
– Мы можем все вместе прогуляться пешком до салона, – сказала Рита. – На улице сейчас прекрасно – тепло и солнечно, как весной. Кстати, твой брат ведет себя теперь как влюбленный: принес мне цветы, пригласил на обед и даже похлопал по заду, когда мы поднимались по лестнице.
– Замолчи, Рита, и дай мне кофе.
– Это не тебе. Эту чашку я отнесу старику. Со вчерашнего дня ты что-то стал очень дерзким, тебе не кажется?
Когда Рита ушла, Пепе сказал брату:
– Конечно, мне не следовало посылать к тебе эту девушку, Тони.
– Почему? Потому что я глуп как осел?
– Я вовсе не это хотел сказать. Наверное, мне просто хотелось избавиться от нее, и я все взвалил на тебя.
– Это моя работа…
– Но мне не нужно было впутывать тебя…
– …а я с ней не справился.
– На твоем месте я бы не очень переживал.
– Мне страшно представить себе, как бедняжка мечется сейчас по Гонконгу, взывает о помощи…
– Ну да, бедняжка – в мехах, жемчугах и на «ягуаре»!
– Я думаю, что страдания всегда остаются страданиями, и не важно, ездит человек на «ягуаре» или ходит пешком.
– Послушай, ты, наивный младенец, я готов держать пари, что она сейчас вовсю отплясывает где-нибудь в ресторане и весела, как сто чертей.
– Нынче все веселы, как сто чертей, – подхватила Рита, входя в комнату. – Даже ваш отец. Мой бог, у него сегодня отличное настроение! Как он себя чувствовал ночью, Пепе?
– Я слышал, как он один раз поднялся, но тут же снова лег. И никаких крабов и пыли. Он хотел выйти к завтраку, но я уговорил его остаться в постели.
– Как бы я хотела быть на его месте! Все утро я зевала и потягивалась и еще нескромно грезила о тебе, Пепе, любовь моя. Подай мне плащ. Всякий раз, когда я не высплюсь, мне приходят в голову неприличные мысли. Тони, пожалуйста, отвернись на секунду.
Они шли пешком к салону Риты сквозь угасавший солнечный свет и первые вспышки фейерверка. Все вокруг замерло: смолк шорох листьев на деревьях, неподвижно застыли облака. Там, где кончались сужавшиеся улицы, виднелось море, несколько парусов и скала – словно тщательно нарисованные на фоне неба цветной тушью, совсем как на китайских картинках.
– Мне не нравится это затишье, – сказал Пепе. – Похоже, ночью будет шторм.
На обочине возле салона Риты, позади старенького «остина» Пепе, стоял великолепный «бентли». Братья Монсоны переглянулись, а потом взглянули на Риту. Она кивнула и поджала губы.
– Сеньора де Видаль, – сказала она.
Элен Сильва открывала ставни, когда в салон стремительно вошла сеньора, похожая на сгусток солнечного света: желтое платье, желтая шляпка, через плечо переброшен шитый золотом плащ тореадора. Элен, собравшаяся было зевнуть, от удивления забыла закрыть рот. Уперев руку в бедро, сеньора терпеливо подождала, а потом с улыбкой заметила, что у Элен превосходные гланды.
– О, простите! – воскликнула Элен.
– Но за что, дитя мое? У здоровых девушек должны быть здоровые гланды.
– Простите, что я так на вас уставилась.
– Мне нравятся люди, которые смотрят ртом. Это напоминает мне о поре моего младенчества.
Подумав, Элен решилась сделать сеньоре комплимент и вслух восхитилась ее плащом.
– О, это плащ одного тореадора, с которым я была знакома в Мадриде.
– Он, судя по всему, был невелик ростом?
– Но зато был великим тореадором. Чамакито. Может быть, вы слышали о нем? Он подарил мне этот плащ в день рождения – последний день рождения, который я рискнула праздновать.
– Ах вот оно что… – задумчиво протянула Элен. – Тогда, должно быть, это произошло еще до поры моегомладенчества.
Сеньора натянуто улыбнулась и спросила, где Рита.
– Она ушла обедать и будет с минуты на минуту. Вы насчет ширмы?
– Мне бы хотелось взглянуть на нее.
– К сожалению, она у нас не здесь.
– Тогда разрешите мне присесть и подождать мисс Лопес? Мне хотелось бы еще раз послушать, как она рассказывает про эту ширму.
Элен бросилась к дивану и убрала с него свое пальто.
– Спасибо, – сказала сеньора, садясь. – Пожалуйста, не обращайте на меня внимания и продолжайте заниматься тем, чем вы занимались до моего прихода.
– Собственно говоря, когда вы вошли, я зевала, но не думаю, что мне следует теперь продолжать это занятие.
– О дорогая, вы что же, не спите?
– Сплю, но мало. Особенно по ночам.
– Вы замужем?
Элен, выдержав долгую паузу, объявила, что помолвлена.
– Тогда почему, – спросила сеньора, снимая перчатки, – почему вы не узаконите ваши отношения?
К счастью, в этот момент вошла Рита с Монсонами.
– О, я о вас наслышана, падре Тони! Кикай Валеро утверждает, что вы здесь самый модный исповедник. Проходите, садитесь тут, возле меня. Итак, моя дочь надоедала и вам? Какую историю она выдумала на этот раз? О, у моей бедной Конни богатое воображение, но дальше разговоров у нее дело не идет. Надеюсь, вы хорошенько выбранили ее?
– Я бы не сказал.
– Вам все это показалось слишком глупым?
– Мне все это показалось слишком серьезным.
– Как удивительно вы похожи на своего отца! Даже голос тот же. Доктор, вы сказали падре, что ваш отец был нашим школьным врачом? Он тоже никогда не считал нас, маленьких девочек, глупыми. Он всегда был с нами очень серьезен.
– Отец тоже вас помнит, – вставил Пепе. – Сегодня утром я рассказывал ему о вас, и он сказал, что, должно быть, вы – маленькая Кончита Хиль.
– Да, – засмеялась сеньора, – тогда я была Кончитой Хиль, тоненькой, как прутик.
– И он еще сказал, что, кажется, вы вышли замуж за одного поэта. Это так?
Смех замер у нее на губах, и она погрустнела.
– Да, мой первый муж… Эстебан Борромео.
Она помолчала, а затем добавила, что никто уже не помнит бедного Эстебана как поэта.
– У нас есть его книги, – сказал Пепе, – и, кажется, у отца есть несколько его писем. Не хотите ли как-нибудь заехать к нам и взглянуть на них?
Она смотрела на него, но не отвечала. Пепе повторил вопрос. Она улыбнулась.
– О, простите меня. Вы что-то спросили?
– Не хотите ли вы встретиться с моим отцом?
– С огромным удовольствием.
– Он в последнее время неважно себя чувствует – но может быть, завтра?..
– Я позвоню вам утром, – пообещала она, закутываясь в золотой плащ, как будто ей было холодно. – Обычно я не люблю пускаться в воспоминания о прошлом, но та пора в моей жизни была счастливой, и мне хотелось бы поговорить с человеком из моего детства.
Она заметила, как братья переглянулись, и улыбка сошла с ее лица.
Надевая перчатки, она сказала:
– Я полагаю, мисс Лопес не слишком нравится, что мы пустились в воспоминания в ее салоне.







