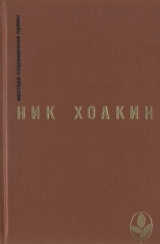
Текст книги "Женщина, потерявшая себя"
Автор книги: Ник Хоакин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
ГЛАВА ПЯТАЯ
ДОКТОР МОНСОН
Кикай Валеро первая узнала о происшедшем. Уже в четыре утра, набросив плащ прямо поверх пижамы, она гнала машину сквозь усиливающийся дождь через весь Гонконг, «чтобы подготовить Кончу Видаль к худшему». Сгоревший остов «ягуара» нашли среди прибрежных скал, валявшиеся поодаль шляпка и сумочка помогли установить личность погибшей, но тело обнаружено не было – вероятно, его унесло в море штормом и отливом. Обследовав содержимое сумочки, полиция пошла сразу по двум следам, и оба привели к дверям Кикай Валеро: во-первых, именно она продала «ягуар» приятельнице, а во-вторых, Мачо Эскобар оставил в отеле записку, что его можно найти через Кикай Валеро.
Кикай не в первый раз оказалась в самом центре трагедии, случившейся с ее друзьями. И право, она бы очень рассердилась на своих друзей, если бы те попали в трагическую ситуацию, когда ее не было поблизости. Но поскольку Кикай была почти вездесуща и знала всех и вся, она обычно первой – уж такая у меня судьба, говаривала она, – узнавала и приносила плохие вести, первой готовила кого-нибудь к худшему. Практически первая «эмансипе» в Маниле, именно она приучила целое поколение родителей не ужасаться при виде дочерей, остриженных под мальчиков, в коротких юбках и с накрашенными губами, и удовлетворение от услуги, которую она оказала своей стране и своему народу, никогда не покидало ее. Даже теперь, в сорок с лишним лет, маленькая и почти квадратная, с увядшей оливковой кожей, она по-прежнему держала себя как в дни своей триумфальной юности и все еще вела себя как героиня, проложившая дорогу моде в двадцатых годах, которой следовала до сих пор: короткая стрижка, накрашенные сердечком губки, густые ресницы, обрамлявшие удивленно раскрытые, насмешливые глаза. Но теперь она насмешливо таращила глаза только в тех частях земного шара, которые по несчастью отставали от Манилы в приобщении к благам современной цивилизации. Так, например, говоря о высотном здании (Эспанья билдинг) в Мадриде, она обязательно добавляла: «Этот, как ониговорят, небоскреб» или «То, что ониназывают небоскребом» – и снисходительно улыбалась с видом человека, родившегося под сенью Эмпайр стейт билдинг. И бесполезно было напоминать ей, что сама она выросла в стране, где здание в три этажа уже считается очень высоким. Для нее и людей ее класса американская цивилизация стала неотъемлемой частью их жизни, и они лишь машинально улыбались улыбкой собственников, когда в менее развитых странах народ восхищался такими чудесами, как эскалаторы, пианолы и кинематограф.
В двенадцать часов дня, того дня, который она впоследствии окрестила «днем трагедии Видалей», Кикай Валеро, все еще в пижаме, пила двадцатую чашечку кофе в отеле у Кончи Видаль, когда позвонил падре Тони. Он объяснил, что звонит снизу из холла, сказал, что только что узнал о происшедшем, и спросил, может ли быть чем-либо полезен. Кикай набросила плащ и, прихватив с собой чашку с недопитым кофе, спустилась вниз.
Все утро шел сильный дождь, было темно, и в холле горели люстры. Струйки дождя стекали по стеклам окон, за которыми виднелся пропитанный сыростью город, погруженный во мрак, как подводная лодка; на улице перед отелем мальчики-коридорные встречали с зонтами людей, входивших через главный вход, и с каждым вновь прибывшим врывался и растекался по вестибюлю холод, загоняя постояльцев в их комнаты. Огни люстр и темнота за окнами создавали у Кикай впечатление, что ночь еще не кончилась; позевывая между глотками кофе, она – в пижамных брюках под плащом и в туфлях на высоких каблуках, – уперев руку в бок, обошла сырой неуютный холл и увидела падре Тони. Он стоял за колонной, с его плаща капала вода. Он смотрел в ее сторону, но, кажется, ничего не видел. Ее ноздри настороженно затрепетали. Входная дверь распахнулась, в холл ворвалась новая порция холодного мокрого ветра, и снова несколько человек поднялись с диванов и ушли; но священник неподвижно стоял, ничего не замечая, с болью глядя прямо перед собой, и только нервно сжимал и разжимал кулаки. Кикай поставила чашку на конторку портье и направилась к застывшему в своем отстранении монаху. Она остановилась подле него, он вздрогнул и повернулся к ней.
– Здравствуйте, Кикай. Как она?
Она жестом велела ему снять мокрый плащ, потом взяла его под руку и подвела к дивану.
Они сели, и она спросила:
– В чем дело, Тони? Вы скверно выглядите.
Вежливая улыбка тотчас сошла с его лица.
– Отец умирает, – просто сказал он.
– Бедняга!.. Приступ?
– Похоже на то.
– Когда?
– Ночью. И рядом с ним никого не было.
Она облизнула губы и придвинулась к нему поближе – день обещал быть очень насыщенным.
– Тони, но ведь вчера вы говорили, что ему гораздо лучше.
– Ему действительно было лучше. Он даже заставил Пепе отпустить прислугу на праздник. Потом Пепе и Рита ушли смотреть фейерверк, а когда вернулись – это было около полуночи, – отец лежал на полу без сознания. На нем был его старый военный мундир. Пепе думает, что, наверное, он обессилел, надевая его.
– И с тех пор он не приходил в сознание?
– Нет. Он уже принял причастие. Доктор считает, что ему не выкарабкаться. Но я никак не могу понять, что вызвало приступ. Еще вчера он, казалось, хорошо себя чувствовал.
– Но ведь он уже старый человек, Тони.
– Мы всю ночь просидели у его постели, но он так и не пришел в себя.
– Вам следовало остаться с отцом, не надо было приезжать сюда.
– Пепе считает, что одному из нас необходимо было пойти. Вполне возможно, мы последними видели Конни Эскобар в живых.
– Вы хотите сказать, вы все же разыскали ее вчера?
– Она ждала нас у нас же дома.
Глаза Кикай расширились, она еще раз облизнула губы и придвинулась еще ближе.
– Вам не показалось, что она в отчаянии?
– Нет.
– А как все-таки она выглядела?
– Я бы сказал, как всегда. Вчера вечером она должна была приехать ко мне в монастырь святого Андрея. Наверное, это с ней случилось по дороге туда. Я все еще ждал ее, когда Пепе позвонил насчет отца.
Кикай досадливо поджала губы, но глаза ее коварно блеснули.
– Полиция считает, что это несчастный случай, – как бы невзначай бросила она. – Вы тоже так думаете?
Боль исказила его лицо.
– Нет! – громко выкрикнул он, но, поймав на ее лице слабую улыбку, взял себя в руки и спросил: – Как ее мать?
– О, она держится молодцом. Я просидела с ней всю ночь.
– Вы узнали об этом сразу же?
– Нет, не совсем. Это случилось, вероятно, часов в семь-восемь вечера. Какой-то лодочник в бухте видел, как в море свалилась машина, но полицейские прибыли только спустя несколько часов.
– И потом они приехали к вам?
– Да, в три часа утра. Видите ли, Мачо, ее муж, остановился у нас, и полиция хотела его видеть.
– Как Мачо воспринял все это?
– Тяжело, очень тяжело, Тони. Он очень любил ее, теперь я это вижу. И вы знаете, что он сделал, как только узнал обо всем?
Он нанял катер и теперь ищет тело в бухте – это, конечно, сумасшествие, в такой шторм. Я послала мужа, чтобы он отговорил его от этой затеи. Муж уже звонил и сказал, что Мачо просто-напросто отказывается бросить поиски. Он не ест, не пьет, продрог и промок до костей, и муж говорит, что он ведет себя как сумасшедший. Он нанял сотни китайских лодочников и назначил премию тому, кто найдет тело.
Падре Тони вдруг поднялся.
– Кикай, я не могу задерживаться, мне надо идти.
– Конча хочет видеть вас.
– Вы сказали ей, что я здесь?
– Да, и она попросила привести вас.
Она ждала их в темной гостиной. Занавеси были опущены, и рев шторма доносился приглушенно; в углу светила маленькая слабая лампочка. В другом конце комнаты, отвернувшись от света, лежала в глубоком кресле Конча Видаль, прикрыв ноги пледом. Рука, которую она подала падре Тони, была холодной и вялой, ненакрашенное лицо осунулось. На ней был розовый купальный халат, шея укутана темным шарфом, нечесаные волосы свисали по щекам. Но она улыбалась, голос ее был, как всегда, глубоким и сильным, большие подвижные глаза тоже улыбались. Когда она услышала о докторе Монсоне, она съежилась, а потом отвернулась и прижалась лицом к спинке кресла. Она не заплакала – она вообще не плакала, сказала Кикай Валеро, тщетно убеждавшая ее поплакать.
– Нет, мне нельзя плакать, – сказала она, вновь повернувшись к ним и улыбаясь. – Падре Тони знает – мне нельзя плакать. Присядьте на минутку, падре Тони. Кикай, пододвинь сюда еще кресло. Меня пугает, когда вы вот так стоите передо мной и смотрите на меня сверху вниз. Для меня ведь еще не все кончено, верно, падре? Мне еще не все равно, в каком виде я предстану перед людьми. Выгляжу я, наверное, ужасно, а потому сижу и прячусь здесь в темноте.
– Может быть, вам лучше лечь в постель? – сказал он.
– О, это не для нее, – возразила Кикай Валеро. – Слава богу, что она наконец-то присела. Все утро она ходила по комнате взад и вперед. Я собиралась увезти ее к себе, но она не хочет уезжать отсюда.
– Да, – подтвердила Конча Видаль, – я должна оставаться здесь и ждать.
– Ждать чего? – воскликнула Кикай. – Видаль прибудет, вероятно, не раньше, чем завтра утром.
Грустно улыбнувшись, Конча Видаль снова утонула в кресле.
– Бедный Маноло! – прошептала она, покачав головой. – Боюсь, его карьере теперь конец.
В соседней комнате зазвонил телефон.
– Наверное, это опять мой муж. – Кикай прошла в соседнюю комнату и закрыла за собой дверь.
Конча Видаль лежала в кресле и уже без улыбки смотрела прямо перед собой. Сумрачную тишину нарушал только монотонный шум дождя. Но шторм еще не дошел до этой сухой теплой комнаты.
Женщина в кресле прошептала:
– Зачем она это сделала, падре? Зачем она это сделала?
Падре Тони наклонился и прикоснулся к ее руке.
– Не вините себя, – сказал он.
– А я и не виню! – Она с возмущением отдернула руку. – С какой стати мне винить себя? У нее была своя жизнь – и я больше не собиралась вмешиваться в нее. Я устранилась, насколько это было возможно, и от нее, и от ее жизни. Когда это снова началось в Маниле – я имею в виду ее странное поведение, – я поняла, что мне остается только одно: исчезнуть. И я исчезла, я приехала сюда, в Гонконг, хотя мне этого вовсе не хотелось и никаких дел здесь не было. Я сделала это только ради нее. Так с какой стати мне теперь винить себя?
– И все же вы чувствуете себя виноватой, – сказал он, посуровев.
– О, нет, вовсе нет! Поверьте мне, это не так! Мне случалось совершать ужасные поступки, но я ничего не делала во вред своей дочери. Я никогда намеренно не желала ей зла. Да и с чего бы? Я знаю, что принесла ей достаточно зла уже тем, что произвела ее на свет. Я стремилась уберечь ее…
– Нет, вы стремились уберечь себя.
– Что вы хотите этим сказать, падре?
– Вы же сами говорите, что еще в Маниле почувствовали, что все начинается сначала. Вы знали: что-то произойдет – вы чуяли беду. И вы бежали, бежали без оглядки, но не для того, чтобы от чего-то там уберечь свою дочь, а лишь чтобы спастись самой. Вы убежали от нее, ведь так?
– Нет, падре. То есть да, я убегала. Но не от нее.
– Тогда от чего? От опасности? От собственных страхов?
– Я убегала от бога, падре. Разве я вам этого не говорила? О, я уже давно пытаюсь убежать от него. И я почувствовала, что он вот-вот настигнет меня. И я бежала, бежала в Гонконг. Конечно, я сделала глупость, ведь именно здесь и должна была произойти наша встреча. А теперь, как и моей бедной Конни, мне надоело убегать.
– И вы решили вернуться к богу?
Она улыбнулась с некоторым презрением.
– Мне не надо возвращаться. Он сам придет за мной. Мне в отличие от бедной Конни ради этого не придется никуда ехать… О, что такое, падре?
Он резко поднялся и теперь смотрел на нее в упор.
– Я думаю, вы должны кое-что знать, – сказал он. – Вчера вечером ваша дочь должна была приехать ко мне в монастырь святого Андрея. Вернее, у нее был выбор – приезжать или не приезжать.
– И она предпочла не приезжать.
– Но она была на пути ко мне! Наверное, она передумала. Та дорога идет мимо монастыря.
– И теперь вы вините себя за то, что заставили ее поехать.
– Я не заставлял ее.
– Но вы заставили ее сделать выбор.
– Да.
– Между исповедью и душевным смятением, между истиной и смертоносной скалой.
– Нет!
– Но именно так она должна была представлять себе это!
– Да, вероятно, вы правы.
– Бедный падре Тони – вы не должны винить себя. У вас были добрые намерения. Может быть, вы даже убедили ее. Может быть, истина открылась ей на пути к вам.
– Тогда почему же она не приехала? Почему пронеслась мимо?
– Потому что мы не всегда можем остановиться, когда нам этого хочется. Когда-то и я предприняла такое же путешествие… А может быть, она просто не смогла вынести правды.
– Вот этого-то я и боюсь! – простонал он, прижав ладонь к глазам и отвернувшись.
– Но почему, падре? По-моему, всегда лучше знать правду.
– Теперь я в этом не так уверен, – сказал он, все еще не поворачиваясь к ней. – Мой отец и ваша дочь – они оба отправились на поиски истины, и это погубило их обоих.
Она смотрела на человека в черной сутане, стоявшего в затемненной комнате и медленно покачивавшего склоненной головой. Охваченная жалостью и тревогой, она отбросила плед, встала и подошла к нему.
– Почему-то я думала, падре, – мягко сказала она, положив руку ему на плечо, – что ваше дело – нести людям утешение, а не ставить их в тупик.
– Простите меня, – сказал он, поворачиваясь к ней, – но я сам сейчас в таком смятении, что никому не могу помочь.
– О, мне не надо помогать, я не нуждаюсь в помощи.
– Зато мне она нужна.
– Тогда поплачьте у меня на плече, а придет время, я поплачу на вашем, хотите? И не забывайте – вы обещали прийти по первому моему зову.
– А если будет уже поздно? – спросил он, заглядывая ей в глаза.
– Не смотрите на меня так пристально, – сказала она, пряча лицо у него на груди. – Я знаю, я выгляжу ужасно старой. Но я не чувствую себя старухой, падре, не чувствую даже сейчас. Наверное, мне надо признать, что из-за всего этого моя жизнь подошла к концу. Но я не могу этого сделать, не могу! Поэтому я и не посылала за вами. Нет, я вовсе не чувствую себя сломленной. Да, у меня сердце обливается кровью каждый раз, когда я представляю ее тело в воде, в этот шторм; но в то же время мне хочется надеть шелковое платье, драгоценности и пойти гулять под дождем, мне хочется подставить себя ветру и дождю, мне хочется ощущать себя живой. Поверьте мне, падре: я вовсе не считаю, что для меня все кончено.
Он почувствовал, как ее маленькое тело качнулось к нему, и неуклюже обнял ее.
– Позвольте, я усажу вас в кресло, – сказал он. – Вам лучше сидеть.
Она покачала головой.
– Мне хочется стоять, – прошептала она. – Мне страшно сидеть или лежать. Пожалуйста, позвольте мне постоять минутку рядом с вами, падре. Когда я стою, мне не так страшно.
Смущенный и сбитый с толку, он держал ее в объятиях и отчетливо слышал в тишине вой ветра. Потом с легким тактичным щелчком повернулась дверная ручка, и из спальни вышла, вытаращив глаза, Кикай Валеро.
– О падре Тони! Вы лучше любого доктора – вам удалось поставить нашу пациентку на ноги! Он умеет утешить, как никто другой, верно, Конча? О, нет, падре, не отпускайте ее – обещаю вам, я ничего не скажу в монастыре святого Андрея. Конча, ты замерзла! Может быть, все же ляжешь в постель?
– Нет, нет, не надо. Когда я стою, мне гораздо лучше. Дайте мне покурить, падре. Кто это звонил, Кикай?
– Мой муж. Он сказал, что Мачо в конце концов отказался от поисков. Фидель говорит, что бедняга плакал как ребенок. Они пошли к нам домой переодеться в сухое, но, когда Фидель спустился вниз, Мачо уже не было. Ты о нем не беспокойся, Конча. Скорее всего, он пошел куда-нибудь напиться. Сейчас это ему будет только на пользу. Бедный малый, он так страдает. И еще долго будет страдать. Может быть, пошлем Видалю еще одну телеграмму? Он должен знать, к кому надо обратиться, чтобы нам помогли обыскать всю бухту. Впрочем, сомневаюсь, удастся ли что-нибудь сделать сегодня – такой шторм. А вообще тебе совершенно незачем сидеть здесь и ждать новостей. Умоляю тебя, Конча, поехали ко мне. Я считаю, что в подобных обстоятельствах отель не подходящее место, особенно отель за границей. Я понимаю, почему ты не в состоянии здесь плакать: тут такая казенная обстановка. Но уж у меня дома ты сможешь выплакаться вдоволь.
Падре Тони сказал, что ему пора домой.
Прислонившись к столу и сложив руки на груди, Конча сказала, не вынимая сигареты изо рта:
– Я хочу поехать с падре Тони и побыть возле его отца.
Она вздохнула, погасила сигарету и взяла со стола плащ падре Тони.
– Почему бы вам не взять меня с собой, падре? – продолжила она, помогая ему надеть плащ. – Пожалуйста, возьмите меня с собой!
Кикай Валеро, испугавшись, что на этом ее роль может кончиться, заявила, что подобное желание, конечно, свидетельствует о благородстве и добрых намерениях Кончи, однако в сложившихся обстоятельствах…
Засунув руки в карманы халата, Конча подошла к занавешенному окну.
– Мне хотелось бы быть подле него, – сказала она, помолчав, – потому что уходит последний человек из моего мира и я хочу быть рядом с ним, чтобы попрощаться с героем моего детства.
Она отодвинула тяжелую занавесь: ветер прижимал к стеклу ветку дерева, где-то над крышами полыхнула молния. Вздрогнув от раската грома, она отпустила занавесь и повернулась к двум наблюдавшим за ней людям.
– Но конечно, я не могу позволить себе этого… – сказала она и, снова засунув руки в карманы халата, прислонилась к тяжелым занавесям.
Тусклый свет лампочки очерчивал в темноте ее осунувшееся лицо.
Она поежилась, откинула голову назад и улыбнулась монаху.
– Попрощайтесь с ним за меня, падре Тони. Я должна остаться здесь и ждать.
– И она все еще там, ждет, – сказал падре Тони, – хотя не похоже, чтобы тело нашли сегодня. Когда я уходил, она пошла в спальню одеться. Она сказала, что должна быть наготове. И еще сказала, что ей хочется нарядиться в шелка и надеть драгоценности.
– Как странно она себя ведет в этой ситуации, – заметил Пепе.
– И все-таки я уверен, – продолжал его брат, – что это повлияло на нее гораздо серьезнее, чем она думает или говорит.
– И никаких признаков угрызений совести?
– Как я уже сказал, она ужасно осунулась и совсем без сил.
– Но она отказывается признать себя виновной, признать свою ответственность за случившееся.
– Как она может сказать это вслух? Она даже не осмеливается думать о чем-то подобном, иначе ведь можно сойти с ума, а кроме того, по ее же собственным словам, признать свою вину означает признать, что ее жизнь кончена. А она еще очень хочет жить.
– И поэтому она наряжается в свои дурацкие шелка и драгоценности?
– Совершенно верно. Чтобы доказать себе, что все это, в общем-то, ее не сломило.
– А это и на самом деле так. О, с ней все в порядке: она спокойно дождется, когда тело найдут и похоронят. Потом все друзья в один голос начнут убеждать ее, что она должна держаться мужественно и жить, как раньше. И вскоре все начнут говорить, как она мужественно все перенесла, какой она молодец, что находит в себе силы жить так, будто ничего не случилось. А для нее и действительно ничего не случилось. Уже через неделю она вернется к своим обычным занятиям.
– Сомневаюсь.
– Может быть, ты думаешь, она уйдет в монастырь замаливать грехи?
– Ее, по-моему, мучает мысль, что бог преследует ее.
– Ей следовало бы мучиться другими мыслями, – сказал Пепе Монсон, возмущенно поднимаясь с дивана. – Ей следовало бы думать о том, что ее дочь мертва!
Он сердито оглядел холодную комнату – потертый ковер на полу, два скрещенных флага под портретом генерала Агинальдо, сердце Иисусово на книжной полке между двумя бронзовыми подсвечниками, головы буйволов-тамарао над темными от дождя окнами. Сюда, в эту комнату, два дня назад явилась Конни Эскобар с дикими от ужаса глазами, накрашенная, в черных мехах и черной шляпке, с тускло поблескивавшим жемчугом на шее… Он вновь увидел, как она прошла через комнату к столу, видел, как она села в кресло и наклонилась вперед, тяжело дыша. Она сказала, что бегом поднялась наверх, на четвертый этаж. Когда он сел напротив нее, она стремительно подалась к нему, хватаясь руками в перчатках за край стола. Она сказала: «Умоляю вас – помогите мне, я в отчаянии!» А теперь ее тело плавало где-то в гонконгской бухте, медленно покачиваясь на волнах, и ее беспокойные глаза наконец-то закрылись во сне.
Но почему она пришла сюда? – снова задумался он, стоя посреди холодной комнаты и переводя взгляд со стола, за которым они беседовали в то туманное утро, на дверь в комнату, где умирал отец, а с двери на окна, между которыми на диване согнувшись сидел в черном монашеском одеянии Тони, сжав ладонями голову и уперев локти в колени. Жалость к брату заставила Пепе поспешно отвести глаза, и он опять уставился на стол, где лежал в ожидании отглаженный синий парадный мундир, тот, что был на отце прошлой ночью и в котором его похоронят. Нет, подумал он, поглаживая мундир, молодая беглянка, вынырнувшая из тумана, пришла сюда не случайно. Теперь ее недавнее появление здесь казалось предопределенным – она явилась замкнуть круг, завершить, закончить целую эпоху в истории. Не случайно в тот день в его сознании образ отца слился с образом этой молодой женщины, и сейчас на темной стене эти два лица сливались перед ним в неопределенно улыбавшееся одно.
Отвернувшись от стены, он обратился к брату:
– Помнишь, как вчера мы застали ее в тот момент, когда она стучалась к отцу?
Тони поднял голову и непонимающе посмотрел на него.
– А когда она пришла в первый раз, – продолжал Пепе, – и спросила доктора Монсона, я сначала подумал, что она спрашивает отца.
В задумчивости он пересек комнату и остановился перед братом.
– Ты знаешь, Тони, – сказал он, – у меня странное ощущение: мне все время кажется, что с самого начала она искала встречи именно с отцом.
– До приезда в Гонконг она, наверное, даже не подозревала о его существовании.
– Это так. И все же…
– Ты хочешь сказать, она сама не знала, какая сила привела ее сюда?
– Да. Она этого не знала, но искала именно его.
– А нашла всего лишь нас.
– Послушай, Тони, – сказал Пепе, положив руку на плечо брату. – Так не пойдет. Не вини себя. Что бы мы ни сделали…
Он оборвал себя на полуслове: дверь спальни отворилась, и в комнату вошла Рита. В ответ на их вопрошающие взгляды она отрицательно покачала головой, потом включила верхний свет и села на диван рядом с падре Тони.
– Все без изменений, – сказала она, – но у него вроде бы усилилась икота. Сейчас сестра сделает ему еще укол. Пепе, пожалуйста, сядь, не маячь перед глазами. Хотите чаю? Видимо, нам опять придется не спать всю ночь.
– Сеньора Видаль хотела приехать сюда и побыть с нами, – сообщил Пепе, тоже опускаясь на диван.
– Да, Тони мне уже сказал об этом. И очень жаль, что она не приехала. Мне бы хотелось поговорить с ней – просто по-житейски поговорить. Почему же ты ее не привез, Тони?
– Она должна была одеваться. Она хотела надеть шелковое платье и драгоценности.
– Бедняга! – Лицо Риты смягчилось. – Она, наверное, пытается таким способом отогнать страх. Это, знаешь, как некоторые свистят, чтобы не бояться темноты. А ее впереди ждут только темнота и страх. Ей теперь трудно будет засыпать по ночам. Кстати, Тони, звонил отец-настоятель. Он справлялся, будешь ли ты сегодня ночевать в монастыре.
– Нет.
– Тогда лучше позвони и предупреди его.
– Я вообще туда не вернусь, – сказал падре Тони.
Рита в удивлении раскрыла рот, посмотрела на Пепе – он сидел абсолютно спокойно и безучастно, – затем снова перевела взгляд на падре Тони. Он встал и отошел к окну.
Для Риты, всю ночь не сомкнувшей глаз, это было окончательным переходом в царство кошмара, ударом, завершающим события недавних дней. Нереальность происходящего вокруг в последнее время так сильно повлияла на нее, что, когда они с Пепе шли на фейерверк и он сказал ей, что ради спасения Конни Эскобар ему пришлось взглянуть на нее голую, Рита, вместо того чтобы устроить сцену, всего лишь спросила, во что Конни была одета до этого. Затем, когда они вернулись с фейерверка, то обнаружили, что доктор Монсон, которого они оставили спокойно сидящим в постели за книгой – во вполне приличной пижаме и ночном колпаке, – совершенно необъяснимым образом оказался без сознания на полу, причем был одет в старинный военный мундир и сжимал в руке старинную саблю. А сегодняшнее утро началось с того, что позвонила Элен Сильва и сообщила, что слышала, будто Конни Эскобар свалилась в машине со скалы в море. И вот теперь Тони заявляет, что никогда не вернется в монастырь. Ей казалось, что все эти сыпавшиеся один за другим удары как-то связаны между собой. Хотя Рита не могла объяснить, почему то, что Пепе взглянул на пупок какой-то женщины, повлияло на решение Тони уйти из монастыря, она нисколько не сомневалась, что оба эти события вызваны одним и тем же землетрясением, – землетрясением, к которому ни один из братьев Монсонов не имел ровно никакого отношения. Как бы то ни было, она метнула в Пепе гневный взгляд, смутно догадываясь, что в происшедшем есть и доля его вины: незачем было рассматривать женские пупки. Последний удар настолько вышиб ее из колеи, что, когда она повернулась к окну, падре Тони предстал перед ней на фоне серой тишины: рева бури, бившейся в окна, она просто не слышала.
– Не вернешься туда! – воскликнула она и, стремительно поднявшись, подошла к нему и стала рядом – Тони, ты что, сошел с ума?
– Нет. Я просто не могу теперь вернуться в монастырь.
– Но почему? Из-за этой девушки? Ты считаешь себя виновным в том, что случилось?
– Никто не имеет права заставлять людей принимать жизнь такой, какая она есть, если они этого не хотят.
– Но мы и не заставляли ее. Тони! – воскликнул Пепе, тоже вскочив с дивана и присоединившись к ним. – Она пришла к нам за помощью. Что нам оставалось делать – поддерживать ее бредовый самообман?
– Почему бы нет? Почему бы людям и не обманывать себя? Почему им нельзя жить в придуманном ими мире? Чем так уж замечательна реальность, что люди обязаны жить только ею?
– Другими словами, – сказала Рита, – мы должны не мешать людям сходить с ума, если они этого пожелают? А когда им приходится совсем туго, мы должны помогать им бежать в мир иллюзий, в их собственный маленький мирок? Или, может быть, ты предлагаешь снабжать их чем-нибудь вроде опиума?
– А разве это не лучше, чем убивать их? – выкрикнул падре Тони. – Разве это не лучше, чем заставлять их страдать, повергать их в отчаяние и в конце концов толкать на самоубийство? Да, мы убили ее, это мы столкнули ее машину со скалы. А она вовсе не была сумасшедшей. Она просто ужасно страдала и пыталась оградить себя от мучений. А мы как последние идиоты лишили ее единственной защиты.
– Какая уж там защита, – сказала Рита. – Рано или поздно она сама бы перестала верить в нее или, что еще хуже, потеряла бы способность верить во что-нибудь, кроме нее.
– А как еще мы могли поступить? – запальчиво спросил Пепе. – Если бы мы действовали иначе, мы пошли бы против самих себя, мы были бы не теми, кто мы есть, мы отказались бы и от того, во что верим.
– И потому мы убили ее, – сказал падре Тони. – Убили за пару прекрасных слов, таких, как «истина» и «свобода».
– У человека должны быть принципы, – сказал Пепе.
– И принципы оказываются важнее человека. «Истина» и «свобода» важнее человека. Все должны смотреть на мир широко раскрытыми глазами, все должны жить наяву, даже если это убивает. Мы отлично знаем, что нужно людям: им нужны «истина» и «свобода», и мы должны внушить им это. Вот мы и вынудили ее сделать выбор, мы вынудили ее раскрыть глаза, а это оказалось больше, чем она была в состоянии вынести. Теперь она мертва. А мы – о, конечно, нам не в чем упрекнуть себя! Потому что то, во что верим мы, гораздо значительнее, чем нелепая жизнь запутавшейся бедняжки, не так ли? И уж лучше пусть она умрет, чем мы усомнимся в своих принципах, верно?
– Прекрати, Тони! – закричала Рита. – Зачем ты так себя мучаешь? Ты обязан был помочь девушке взглянуть правде в глаза – да, даже если это грозило ей гибелью. Отказ от подобного риска вовсе не доброта, а обычная трусость.
– Ты права, – ответил падре Тони, – и поэтому-то я не могу вернуться в монастырь. Как я теперь осмелюсь советовать кому бы то ни было смотреть правде в глаза, когда я знаю, что не все такие сильные и храбрые, как мы, когда в каждом пришедшем ко мне за утешением я буду видеть еще одну Конни Эскобар?
– Ну вот, теперь ты ничем не лучше ее, – сказала Рита. – Ты боишься идти на риск, боишься ответственности.
– Да, – кивнул он, отходя от окна, – как и бедная Конни, я отрекаюсь от мира.
Он снова сел на диван и погрузил лицо в ладони.
Двое стоявших у окна людей беспомощно смотрели на него и слышали только рев ветра, бившего в темные стекла с бешеной силой. Затем в комнату вошел слуга-китайчонок и подал Пепе письмо. Пока Пепе вскрывал его, Рита подсела на диван к падре Тони.
– Не надо сейчас принимать никаких решений, Тони, – сказала она, погладив его по склоненной голове. – Мы все слишком устали и расстроены. Я позвоню отцу-настоятелю и скажу, что ты останешься ночевать здесь. Не старайся убедить себя, что ты уже решил бесповоротно. Подожди несколько дней, обдумай все как следует. Когда потрясение пройдет…
Она оборвала себя на полуслове и повернулась к окну, услышав удивленное восклицание Пепе. Он изумленно поглядывал то на письмо, то на конверт.
– Это письмо, – воскликнул он, – было отправлено сегодня утром отсюда, из Гонконга!
– От кого оно? – спросила Рита.
– От нее, от Конни!
Падре Тони поднял на брата глаза, Рита поднялась с дивана.
– Конни? – пробормотала она. – Так она жива?
Ошеломленный Пепе молча кивнул головой, потом протянул ей письмо.
– Она бежала вместе с Пако.
…Когда «ягуар» ударился о бордюр, перед ней взметнулась огромная луна и ей показалось, будто машина врезалась в нее; резкий порыв ветра заставил ее очнуться – она с ужасом увидела, что автомобиль летит с обрыва, а в глубине бездны мечется ревущее море; ее швырнуло вбок с такой силой, что под напором ее тела дверца распахнулась и она вывалилась из машины на землю; «ягуар» медленно описал в воздухе дугу, перевернулся вверх колесами, со скрежетом ударился о выступ скалы, подскочил и вспыхнул; она не отрываясь глядела, как машина летела между луной и морем, полыхая пламенем и разваливаясь на куски, и наконец взорвалась у подножия скалы с таким грохотом, что Конни содрогнулась, зубы ее застучали, дыхание остановилось, и она, бессильно прижавшись щекой к земле, в оцепенении смотрела с края обрыва, как далеко внизу белые волны гасили пламя, охватившее обломки.







