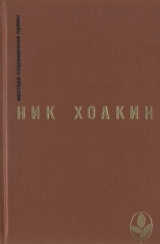
Текст книги "Женщина, потерявшая себя"
Автор книги: Ник Хоакин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
– Конни, тебя не задело?
– Кажется, нет.
– Оставайся здесь и не двигайся. Я пойду узнаю, в чем дело.
Она лежала в мехах на полу, и снизу до нее доносился запах сырой земли. Когда он ползком вернулся в купе – пули осыпали уже все длинное тело поезда.
– Конни…
– Мы в опасности?
– Поезд идет вдоль границы. По ту сторону война, ты же знаешь…
– Они хотят остановить поезд?
– Или пустить его под откос.
Они лежали, прижавшись лицом к полу, и слушали, как где-то сыпались стекла, как в коридоре визжала женщина. Поезд набирал скорость.
– Ты боишься, Конни?
– Нет. Мы же искали выход. А это единственный выход.
– Конни, я так хотел, чтобы мы с тобой уехали от всего…
– Я ведь сказала тебе: мы никуда не уедем от прошлого.
Повернувшись на бок, чтобы видеть ее лицо, он сказал:
– Неужели мы не можем пройти весь путь назад, к тому времени, когда ты была еще девочкой?
– Зачем?
– Мы бы раньше нашли друг друга.
– Но ведь я нашла тебя уже тогда, Мачо.
– И поэтому ты всегда так странно смотрела на меня?
– Но я же не понимала, в чем дело, Мачо. Поверь мне.
– Да, Конни.
– Я, помню, страшно разволновалась, когда ты впервые появился у нас. В доме творилось что-то неладное: папа, мама и даже я – все, казалось, ждали чего-то, а я, даже тогда, не смела спросить их, чего именно. Но я уже понимала, что в семье неблагополучно. Вначале я думала: это потому, что мои братья жили не с нами. Мне говорили, что у меня есть братья, но я никогда их не видела. И когда ты впервые пришел к нам, у меня было такое чувство, словно вернулись мои братья и теперь все пойдет хорошо. Поэтому я была очень счастлива, что узнала тебя, и считала, что мама счастлива по той же причине.
Он обнял ее и привлек к себе, она прижалась щекой к его шее и вспомнила все те ночи, когда они лежали так же рядом, стремясь друг к другу в темноте ночи, но темнота была бесконечной, и они так никогда в ней и не встретились.
– Теперь ты видишь, Мачо, что ты был для меня моим детством или тем, что я принимала за детство. И, лишь найдя эти письма, я поняла, что у меня вовсе не было детства и то, что я помнила как счастливую пору, было фальшью, такой же фальшью, как наша женитьба.
– Нет, Конни, нет!
– Теперь я просто не знаю, где правда. Я даже не знаю, правда ли то, что я сейчас говорю. Может быть, ты прав, и я всего лишь обманщица. Может быть, я и тогда знала все. Сейчас я не могу припомнить, было ли время, когда я не знала. Оглядываясь в прошлое, я вижу только ложь и ложь.
– Ты не знала тогда, Конни, ты не знала!
– Как я могу говорить об этом сейчас, если я лгу всем и даже самой себе?
– Тогда поверь мне: ты ничего не знала до тех пор, пока не нашла эти письма.
– Но теперь я понимаю, что я хотела найти их…
– Где они?
– Здесь, в сумочке.
– Дай их мне.
– Зачем?
– Я выброшу их.
– Теперь это ничего не изменит.
– Мы не можем быть вместе, пока между нами стоят эти письма.
– Теперь уже слишком поздно быть вместе.
– Отдай мне их, Конни, отдай!
Она потянулась к сумочке, но тут вагон так тряхнуло, что сумочку словно выдернуло у нее из рук, а ее самое подбросило и понесло вверх: крыша над головой и темнота вдруг исчезли, вспыхнул слепящий свет, загрохотал гром, и темная земля обрушилась на нее – она сыпалась на нее сверху, сыпалась ей на волосы, на лицо, на грудь, забивала рот и уши, и сквозь завесу земли она увидела прояснившимся взглядом, что муж смотрит на нее, ощутила все еще обнимавшие ее руки, а потом перестала вообще что-либо чувствовать и по выражению его лица поняла, что гибнут они оба и одновременно.
Коричневое небо потемнело, и по мере того, как дорога становилась круче и поднималась все выше, воздух, напоенный ароматом сосен, делался чище. Взглянув наверх, она снова увидела монастырь – ближе, чем раньше, но теперь не столь отчетливо; он медленно погружался во мрак, уже поглотивший город внизу, а «ягуар» несся быстрее и быстрее, бросая перед собой лучи света на дорожные знаки и рекламные щиты, на увитые зеленью стены, на кладбищенские ворота, за которыми из тьмы выплывали могильные камни, на ответвления дороги, прорезанные в теле скалы и ведшие к домам, полускрытым на вершине утеса.
Она вдруг почувствовала, что ей холодно, и задрожала; жемчужное ожерелье льдинками покалывало шею, ветер гнал пар ее дыхания обратно в лицо. Она сняла руку с руля, чтобы вытащить из сумочки носовой платок. Ее пальцы наткнулись на связку писем.
– Ты должен отвезти его назад, – услышала она голос матери.
Конни подошла к двери и притаилась за ней, вслушиваясь в каждое слово.
– Нет, Маноло, отвези его назад. Я не могу держать в доме это чудовище.
– Но надо же его куда-то пристроить.
– Почему бы не оставить его там, где он был?
– Я ведь уже сказал – армия занимает все наши административные здания.
– Ну и что? Ты мог бы запихнуть его куда-нибудь в угол, чтобы он никому не мешал.
– Нам приказали вывезти все наше имущество. А кроме того, мне жаль старикана. Нельзя же бросить историческую личность на произвол судьбы.
Конни отворила дверь и вошла в холл. Отец с матерью стояли у наружных дверей. На залитой солнцем веранде томились в ожидании два грузчика. Между ними на полу сидел Биликен – он, как всегда, счастливо улыбался, уши свешивались до плеч, круглый голый живот торчал вперед.
– А вот и Конни, – сказала мама. – Конни, хочешь, мы поставим его к тебе в комнату? Ты его очень любила, когда была маленькой.
Конни было уже одиннадцать лет, только что началась война.
– Его должны выкинуть, папа?
– Нет, детка. Его просто на время эвакуируют.
– Бедный Биликен!
– Мама не хочет держать его дома.
– Во всяком случае, не во время войны, – сказала мама. – У него такой вид, что добра от него не жди. Он принесет нам несчастье.
– Но почему? – удивился отец. – Он будет напоминать нам о счастливых временах, о молодости, о карнавалах.
– О балах, о конфетти, о праздничных шествиях, – улыбаясь, подхватила мама.
– Об ужинах в ресторане Рефихио, – добавил папа.
– И о завтраках в кафе Легаспи, – продолжала мама.
Они смотрели друг на друга и улыбались. Конни и Биликен тоже смотрели друг на друга через дверь и тоже улыбались – теперь они уже были примерно одного роста. Грузчики беспокойно переминались с ноги на ногу, ожидая приказаний. Позади них солнце заливало светом розы, асфальтированную дорожку и высокие железные ворота, у которых теперь стоял солдат в каске. За воротами клубилась пыль – мимо дома целый день катили коляски, телеги и грузовики, груженные мебелью: люди бежали из города.
– Ну, а тебе, Конни? – спросила мама. – О чем тебе напоминает Биликен?
– Бедный ребенок помнит только карнавалы в годы депрессии, – сказал папа.
– Однажды ты плакала из-за Биликена, помнишь?
– Помню, мама.
– Ты еще хотела взять его домой, помнишь?
– Да, мама.
– И вот он наконец здесь, в полном твоем распоряжении. Я велю отнести его в твою комнату. Хочешь, мы положим его к тебе в постель?
– Конча…
– Я же шучу, Маноло.
– Мне не нравится, как ты говоришь с ребенком.
– Она уже не ребенок, верно, Конни?
– Да, мама.
– И я не позволю ставить его в детскую.
– В таком случае, дорогой Маноло, поставь его, куда хочешь. Это твой дом.
– Скажи, почему ты его так ненавидишь?
– Ты про Биликена или про дом?
– Да наверное, и про то и про другое.
– Пожалуйста, не впадай в истерику. Сейчас и так полно истеричных людей. И вообще я не понимаю, из-за чего мы спорим. Я ведь уже сказала тебе, можешь поставить этого монстра, где хочешь.
– Я прикажу грузчикам бросить его в ближайшую мусорную кучу.
– Совсем как подкидыша! Бедный Биликен!
– Конча…
– Послушай, у меня от всего этого начинает болеть голова. Я не желаю, чтобы это чудовище стояло в доме и весь день скалило на меня зубы – у меня начнутся истерики. Но ведь за домом есть сад, и там в стене полно ниш. Почему бы не сунуть твоего Биликена в одну из них?
Наступило молчание. Отец смотрел на мать, а она с улыбкой подошла к Биликену и постучала по его голове. Грузчики уставились себе под ноги и, казалось, обливались потом от смущения и стыда.
– Поднимите его, – приказал отец, – и идите за мной.
Конни вышла на веранду, чтобы получше разглядеть маленькую процессию, огибавшую дом. Освещенного солнцем счастливого Биликена несли на плечах, и он весело кланялся. Сзади подошла мать и стала рядом с ней. Конни внутренне напряглась и не смела поднять глаз.
С тех пор как мать несколько месяцев назад вернулась из-за границы, Конни не могла заставить себя смотреть ей в глаза. Она боялась, что мать прочитает в ее взгляде вопрос. Никто не сказал ей, почему мать уезжала, и никто не сказал, почему она вернулась. Раньше они все были счастливы вместе – и она, и мама, и их друг Мачо. Потом Мачо вдруг куда-то уехал. А потом уехала и мама. Конни отослали к тетке, и в течение года она почти не виделась с отцом. Вскоре она поняла, что спрашивать, где мама, невежливо. Когда она попадала в компанию взрослых, они сразу же умолкали и начинали переглядываться. В школе за ее спиной перешептывались и таинственно хихикали, но Конни прошла через все это с высоко поднятой головой. Ее мама была красива, ее мама была добра – ни у одной из этих гадких девчонок не было такой мамы. Ну, ничего, мама приедет и только посмеется над завистливыми сплетниками. Когда Конни сказали, что ее везут обратно домой, потому что мама скоро возвращается, она заплакала от радости. Теперь все будет хорошо: она снова будет с мамой, мама все объяснит, и они будут счастливы, как раньше. Каждое утро Конни выбегала к железным воротам и ждала маму.
А вместо нее приехала незнакомая ослепительная дама, от которой люди испуганно отводили глаза.
Когда Биликен скрылся за углом, Конни подождала минуту, затем, не отрывая взгляд от пола, осторожно повернулась и пошла к двери.
– Конни, – позвала ее мать, когда девочка уже была в дверях.
Конни остановилась, медленно повернула голову и посмотрела на мать. Они некоторое время молча глядели друг на друга. Потом мать вздохнула, подошла к креслу и села.
– Поди сюда, Конни, – сказала она.
Конни подошла и остановилась рядом. Мать полулежала в кресле, откинувшись на спинку и прикрыв ладонью лоб, словно стараясь удержать свои мысли. Конни ждала, и в этот момент тишину прорезал страшный рев. Оглянувшись, она увидела, как солдат бросился прочь от ворот, а движение на улице разом замерло. Затем последовала короткая пауза, и снова в тишине раздался страшный рев.
Мать выпрямилась в кресле, и лицо ее опять приняло насмешливое выражение.
– Бомбежка, – сказала она. – Я же говорила: Биликен приносит несчастье, – и, с улыбкой поглядев на Конни, добавила: – Надо опять уползать в щель.
Биликен всю войну жил в стенной нише в саду за домом. Та часть сада стала для Конни убежищем. Она тайком притащила туда маленький столик и пару стульев, и там, под акациями, они с Биликеном вместе полдничали каждый день. Сначала она предлагала ему горячий шоколад, пока в доме был шоколад, потом кофе, а когда не стало и кофе – ячменный суррогат, единственный напиток, который тогда можно было достать. Теперь ужас бродил по улицам не только ночью, но и днем, однако в своем тайном укрытии под акациями Биликен по-прежнему заправлял карнавалом, улыбался и каждый день ждал новостей. Конни была очень счастлива снова обрести друга, с которым можно быть вместе, которому можно пересказывать слухи о том, что ровно через девять дней после такого-то числа (число переносилось из месяца в месяц) с триумфом вернутся американцы на целой туче самолетов и на караване судов длиной в милю. Но от солнца и от дождя краски Биликена поблекли, под слоем пыли божок посерел, земля, нанесенная ветром в нишу, высилась у скрещенных ног холмиком, на котором скоро зазеленело несколько чахлых растений, потом выросли папоротники, потом холмик покрылся ковром сорняков, а затем лоза дикого винограда медленно вскарабкалась вверх по краю ниши, разрослась в стороны и скоро густо оплела всю стену вокруг Биликена – а американцы не приходили. Потом лоза зачахла и умерла, листья опали, сплетение мертвых стеблей почернело, высохло и стало ломким, ветер раскачивал и разрушал его, осыпая сучками и веточками детский столик, гнивший среди сорной травы, поломанные стулья на пожелтевших газетах и самое Конни, вытянувшуюся и похудевшую, – ей было уже четырнадцать лет, когда однажды она прибежала под акации с чашкой рисового отвара и вареной сладкой картофелиной, чтобы сообщить Биликену, что она эвакуируется.
Шел последний год войны.
В день отъезда Конни уединилась у себя в комнате попрощаться с вещами. С собой она брала только небольшую сумку, но все полки в шкафу опустели – одежда кучей лежала на полу. Ее надо было увязать в узлы и спрятать в бомбоубежище. Разбирая старые платья, она наткнулась на сломанную куклу: бедная Минни пряталась в тряпье все эти годы. Конни легла на груду одежды и прижала Минни к себе.
– Вот видишь, я так и не выкинула тебя, Минни. Я сдержала слово.
Она услышала, что снизу ее зовет мать, села и принялась лихорадочно соображать. Потом она вскочила, выбежала из комнаты и черным ходом спустилась в сад.
Биликен ждал ее в своей нише.
– Биликен, это Минни. Помнишь? Я тебе про нее рассказывала. Пожалуйста, позаботься о ней, пока меня не будет, ладно?
И она положила куклу ему на колени.
Бедный Биликен к этому времени уже совсем почернел, но улыбался он, как всегда, весело. Какие бы заботы ни одолевали Конни, он всегда умел ее успокоить. И сейчас она приподнялась на цыпочки и поцеловала его в щеку.
– До свидания, Биликен. Ты был настоящим другом.
У дома стояла машина. Мама ждала Конни на веранде, а двоюродные братья и сестры уже сидели в машине.
– Где ты пропадала, Конни?
– Я была в саду.
– А мы тут все ждем тебя и волнуемся.
– Прости, мама. Я нарвала цветов для гостиной.
В затененном конце веранды дамы с оголенными спинами оторвали глаза от столов, за которыми они всю войну играли в маджонг, и посмотрели на нее.
– Ну, ладно, девочка, садись в машину.
– До свидания, мама. Как жаль, что ты не едешь с нами!
– Я должна дождаться отца.
Отца забрали японцы.
– Что ж, до свидания, Конни. Береги себя, ладно?
Они обнялись и прижались щекой друг к другу.
– Ах, Конни, я ведь собиралась поговорить с тобой до твоего отъезда…
Через плечо матери Конни видела, что дамы за столиками внимательно наблюдают за ними. Она быстро поцеловала мать и слегка оттолкнула ее.
– До свидания, мама, – еще раз сказала она и сбежала по ступенькам к машине.
Высунувшись из окна автомобиля помахать на прощание, она увидела, что мать все еще стоит с протянутыми к ней руками на веранде, очертания ее лица расплылись – машина объехала клумбы, где теперь вместо роз росли тыквы и кукуруза, миновала железные ворота, где теперь на посту стоял японский солдат, понеслась по пустой улице, где после бомбежки от домов остались руины, углубилась в холодную ночь, пропитанную запахом сосен, и взмыла на холодную скалу над Гонконгом; жемчужины ожерелья казались ледяными, холодный ветер гнал пар ее дыхания обратно в лицо, а «ягуар» с ревом взбирался все выше и все быстрее мчался по крутой дороге; казалось, он уже не подчинялся ей, не слушался руля и педалей; лучи фар дрожали в пустоте и устремлялись к небу, вырывая из темноты монастырь на вершине скалы.
– О нет, нет, нет! – в тревоге закричала она, чувствуя, как ее несет в пустую высоту, но ветер загнал ее крик назад, в горло.
Лицо ее окаменело.
– Нет, я этого не сделаю! – крикнула она монастырю, изо всех сил нажала на тормоз и вцепилась в руль.
Тормоза завизжали, машина замедлила ход, задрожала, потом развернулась и, оседая на один бок, заскользила вниз на бешеной скорости, заставившей ее сначала улыбнуться, потом засмеяться, потом ликующе закричать, а «ягуар» тонул в ночи, воздух бил ей в лицо и сдувал в сторону свет фар; Гонконг розоватой дымкой летел ей навстречу, машина все глубже и глубже погружалась в зыбкую темноту.
Когда она въехала в порт, в тумане стонал пароход. За пирсом мелькнул огонек фонарика, и у самых ног она увидела лицо лодочника.
– На пароход, мадам?
– Да, вон на тот. И побыстрее.
Лодчонка лавировала в лабиринте клочьев тумана. Стон корабля доносился все отчетливее, и вскоре она различила темную громаду. Весла замерли, и лодчонка ударилась о борт громады. Она заплатила лодочнику и осторожно поднялась по трапу.
Когда она вышла из каюты, пароход, непрерывно сигналя, уже двигался, вся палуба была скрыта в тумане. На ощупь она нашла поручень и, облокотившись, посмотрела вниз. Пароход был маленьким грузовым судном, и вода плескалась совсем рядом – казалось, чтобы коснуться ее, достаточно лишь опустить руку. Она слышала, как нос суденышка разрезает волны и они лепестками соскальзывают с боков парохода. Потом море внезапно поднялось к ней, внезапно дохнуло ей в лицо, и она наклонилась вперед, чтобы почувствовать его чистоту, его холод, его запах – запах чрева, и его вкус – вкус слез.
– Море – наша мать, – вслух сказала она и вдруг замерла, ссутулившись над поручнем; внутри у нее похолодело, по коже побежали мурашки – кто-то стоял за ее спиной и наблюдал.
Медленно повернувшись, она увидела простертые к ней руки, поблескивавшие в тумане глаза, тусклое сияние золотых серег и морозную дымку меха.
– Мама…
Руки упали, бледное лицо приблизилось.
– Здравствуй, Конни.
Они обе стояли по пояс в тумане и смотрели друг на друга: одна вся в белом, другая – в черном.
– Почему ты здесь, мама?
– Потому что и ты здесь, Конни.
– Неужели мы не можем существовать каждая сама по себе?
– Нет. Я уже пробовала.
– Оставь меня! Уйди! Разве ты мало меня мучила?
– Конни, Конни, я всегда желала тебе добра!
– Не прикасайся ко мне!
Ее руки упали в туман.
– Ты не изменилась, Конни.
– Нет, изменилась!
– Ты всегда была бессердечным ребенком – и осталась им.
– Тынаучила меня бессердечию, мама. Ведь я была нежеланным ребенком – это ты помнишь?
– Но я пыталась любить тебя…
– Нет. Ты всего лишь пыталась быть доброй, пыталась обуздать ненависть ко мне, но ты никогда не была той матерью, которую я создала в своем воображении. Когда я не смотрела на тебя, ты превращалась совсем в другого человека, – человека, который внимательно разглядывал меня и ненавидел. Так было, когда я была маленькой. А когда я выросла, ты даже перестала притворяться и вела себя так, словно я была уродом, а ты по доброте душевной – так и быть! – присматривала за мной.
– А разве на самом деле ты не урод?
– Да, мама, урод, страшный урод. Твойурод.
– Тогда ты должна пожалеть меня. Подумай, каким тяжким грузом на моей совести была ты все эти годы…
– …и каково тебе придется в будущем – еще много лет, потому что я все равно буду с тобой.
– Как ты можешь улыбаться!
– Почему я должна жалеть тебя, мама? Я ведь не плод твоей жалости, я плод твоего тщеславия, твоей порочности, твоей жестокости и твоей похоти. Я – все то зло, которое ты носишь в себе. И когда ты ненавидишь меня, ты ненавидишь свое зло. И я буду рядом с тобой до самой твоей смерти.
– Так ты поэтому последовала за мной? Поэтому приехала в Гонконг?
– Не бойся, я не убью тебя, мама, – во всяком случае, не сейчас.
Туман сгущался, и теперь они стояли в нем по грудь.
– Послушай меня, Конни. Я совершила преступление, выйдя замуж за твоего отца, но, когда ты родилась, я дала себе клятву, что ты не будешь страдать из-за того, что сделала я. Я старалась быть такой же матерью, как другие женщины. Верно – все это было ложью и притворством, но что мне оставалось делать? Я думала, что нужна тебе, Конни, и я не хотела, чтобы твое сердечко разбилось слишком рано. Но я все время знала, что рано или поздно ты раскусишь меня. И в конце концов мне пришлось бросить притворство. Я хотела, чтобы ты разобралась во всем сама. Я знала, что ты возненавидишь меня, но это было частью наложенной на меня епитимьи, и я думала, что, возненавидев меня, ты освободишься от меня и спасешься.
Теперь-то я вижу, что из этого ничего не вышло. Я не сумела оградить тебя от страдания, и сейчас ты мучаешься, а я ничем не могу тебе помочь. Но разве я одна во всем виновата? Мы с тобой не просто мать и дочь. Мы – две женщины, которых ничего не связывает между собой, кроме того, что у них были одни и те же мужчины, и ты при этом решилась быть моим судьей. Но так ли чиста твоя собственная совесть? О Конни, ты ненавидишь меня не за то, что я лгала тебе, а за то, что я перестала лгать. Ты хотела, чтобы мы и дальше притворялись, играли в любящую маму и любящую дочку, потому что тебе не нужна моя любовь, ты жаждешь моей крови. Ты и сейчас хотела бы жить в своем детском мире грез и чтобы я была подле тебя и плясала под твою дудку, выполняла бы твои прихоти, ты бы хотела шантажом подчинить меня себе – тебе нужно, чтобы кто-то стоял между тобой и реальным миром. Ты боишься свободы, Конни, ты не хочешь спасения. Из нас двоих именно ты лгунья, трусиха и обманщица, и, хотя ты стараешься внушить всем вокруг, что ты невинная жертва предательства, на деле это мы твои жертвы, и ты предаешь нас с тех самых пор, как обнаружила, что не можешь жить в нашем мире. И ты ни разу не упустила возможности – ни разу, Конни! – показать всем, как ты из-за нас страдаешь.
Ты убежала из школы не потому, что тебя травмировали сплетни обо мне и твоем отце, а потому, что хотела, чтобы весь мир узнал, что именно говорят о нас. И тебе это удалось, Конни, тебе это удалось. И потом ты вышла замуж за Мачо – о, ты сделала это с великой охотой, потому что этот брак ты тоже могла использовать против нас! Ты могла показать всему миру, что мы бессердечны, циничны и развращены, а ты – беспомощное дитя, которое мы продали в рабство. Но ведь ты сама бросалась на Мачо, еще когда была ребенком, и именно по той же причине, по которой сейчас бросаешься на Пако: ты хочешь, чтобы все видели, как я порочна, хочешь сделать меня посмешищем, хочешь лишить меня всякой надежды на радость, хочешь, чтобы вокруг хихикали, глядя, как мы обе охотимся за одним и тем же мужчиной. И как же ловко ты все рассчитываешь! Я не могу сейчас отшучиваться и закрывать глаза на то, что ты делаешь, потому что я должна думать о твоем отце, а отец должен думать о предстоящих выборах. И поэтому ты приехала сюда терроризировать нас, ты во всеуслышание с пафосом рассказываешь, какое ты чудовище и урод, чтобы все решили, что, должно быть, и семья твоя – сборище уродов. Ведь в этом цель твоей игры, верно, Конни?
– Нет, мама. И ты сама знаешь, что все, что ты сказала, неправда.
– Нет, Конни, это правда. Ты решила погубить нас. Либо ты, либо мы – вот твой принцип.
Они уже по шею погрузились в туман и, чтобы разглядеть лица друг друга, вынуждены были то и дело наклоняться вперед.
– Тогда спасай себя, мама, и возвращайся назад.
– Куда?
– Туда, где мы с тобой были раньше.
– И снова начать притворяться?
– Вовсе нет, мама! То был реальный, настоящий мир. Зачем только мы покинули его? Разве мы непременно должны были стать врагами? Почему мы не можем быть как все другие материи дочери?
– Потому что я не хотела тебя.
– Тогда захоти сейчас! Захоти и заново возьми меня в дочери!
– Захотеть! Как я могу этого захотеть, Конни? Ты сама только что сказала: ты порождение моего тщеславия, моей порочности, моей жестокости и похоти…
– Тогда роди меня снова! Роди меня другой!
– Тебе вообще не следовало появляться на свет, Конни.
– О мама, не отталкивай меня опять!
– Ты – все то зло, которое есть во мне…
– Не надо, мама, не надо!
– …и я не могу смотреть на тебя, не испытывая отвращения к самой себе.
– Тогда смотри же, мама, смотри, потому что ничего другого ты больше не увидишь.
Туман уже почти скрыл их лица, и они едва могли различить глаза друг друга, плывущие в потоке мутной пелены. Они неподвижно стояли, скрестив взгляды, как вдруг корабль громко застонал и содрогнулся, палубу тряхнуло и их бросило друг на друга, а потом на пол. Они покатились по палубе, их швыряло из стороны в сторону, и внезапно они услышали скрежет железа о гранит, услышали, как камень вспарывает сталь и рвет деревянные переборки. Издалека донесся тревожный гул голосов.
– Мама?
– Я здесь, Конни.
– Ты можешь встать?
– По-моему, нет. Моя нога…
– Я помогу тебе. Ну давай же, мама!
– Я не могу! Не могу!
– Ты должна попытаться! Должна!
– Бесполезно. Я не могу пошевельнуться. Ты иди, Конни.
В тумане глухо звучали панические свистки и звон колокола.
– О мама, я не смогу поднять тебя!
– Конечно, нет! Спасайся сама.
– Спасаться? Для чего?
– Разве ты не собиралась убить нас всех?
– Неужели ты в это верила?
– Конни, ты должна спастись, ты обязана!
– Слишком поздно, – сказала Конни и легла на палубу рядом с матерью.
Не успела она договорить, как погибающий корабль снова застонал и содрогнулся, и она почувствовала, как пол палубы под нею вспучился, а потом рассыпался на мелкие щепки и гора воды подбросила ее кверху в такой яркий свет, что она еле различала перед собой лицо матери в ореоле извивающихся змеями мокрых волос, с широко раскрытыми от ужаса глазами, белое лицо, поблескивавшее как отражение в зеркале; но вдруг светлая поверхность зеркала покрылась рябью, потемнела и превратилась в воду, спокойную, неподвижную воду у самого дна моря, чистую, холодную воду с запахом чрева и вкусом слез.
Пустое и черное небо, окружавшее ее теперь со всех сторон, ускользало, как только она начинала к нему приближаться, но при этом нависало над ней еще ниже по мере того, как «ягуар» пожирал километры дороги, выхваченные из тьмы светом фар. Ночь потрескивала, как лед на ветру, а она в одиночестве мчалась вверх в пустоту, но путь туда преграждал темный силуэт монастыря. В монастыре вдруг засветилось окно, потом другое, и скоро три четких ряда огней сияли на фоне черного неба. Услышав отдаленное ржание лошадей, она поглядела налево и увидела внизу, в пропасти, ровную площадку ипподрома, а за ней огни Счастливой Долины, рассыпанные, словно осколки луны. Там, внизу, были люди, они толпились на улицах, ели суп возле уличных лотков, выстраивались в очереди в храмы. Но то были другие люди и другая страна, а что, собственно, ей было нужно здесь?
– Да, – сказала мама, – а что нам здесь, собственно, нужно?
Они стояли на том самом месте, где раньше была веранда, и смотрели в ту сторону, где когда-то были клумбы роз и асфальтовая дорожка.
– Чего ради ты нас сюда привез, Маноло?
– Разве тебе не хочется снова увидеть наше старое гнездо? – спросил папа.
– А на что здесь смотреть? Ничего не осталось.
– Да, ничего… Нам пришлось бы строить дом заново.
– Я ни за что не согласилась бы снова жить здесь!
– Я знаю.
– Но тебе хотелось бы вернуться сюда, Маноло?
– Не приведи господь!
– Так в чем же дело?
– Моя семья жила здесь испокон веку.
– В таком случае благодари бога, что ты уцелел, что мы уцелели.
– …и что ониуцелели.
– О да. Не думаю, что они были бы очень счастливы жить с нами.
– Наверное, нет.
– В этом доме мне постоянно казалось, что все, что я делаю, действует другим на нервы.
– Но мне тяжело думать, что ониостались без дома…
– Ты мог бы построить здесь дом и подарить его Конни к свадьбе. Что ты на это скажешь, Конни?
– Я не хочу, мама.
Шел первый послевоенный год. Конни было уже почти пятнадцать, и она впервые постриглась.
– Если бы здесь по-прежнему стоял наш старый дом, – сказала она, – я бы с удовольствием снова в нем поселилась. Но поселиться здесь в новом доме – это все равно что переехать в любой другой новый дом в любом другом месте.
– А может, это было бы даже хуже, – подхватила мама. – Подумай об окружении. Оно было ужасно еще до войны, а теперь – вы только взгляните.
Сквозь пролом в стене, где когда-то были железные ворота, они увидели горевшие на послеполуденном солнце жестяные крыши лачуг, ютившихся между развалинами старых домов. Повсюду, насколько хватал глаз, виднелись эти жестяные крыши, словно за стенами расположились армейские бараки.
– Представьте, как бы нам здесь спалось по ночам, когда вокруг этот сброд, – сказала мать и, повернувшись спиной к трущобам, предложила: – Давайте заглянем в гостиную.
Там, где когда-то был холл, из-под обломков стены пробивалась трава: от лестницы уцелели только четыре ступеньки. Здесь после освобождения размещались американские солдаты, и, хотя они свернули лагерь всего неделю назад, там, где раньше была гостиная, трава выросла уже по колено.
– Боюсь, я все же не смогу пригласить вас войти, – сказала мать, потому что гостиная осела и была теперь на метр ниже, чем холл, – заросшая травой лужайка, окруженная обломками камней. – Так все же зачем ты нас сюда привез, Маноло?
– По-твоему, нам не следовало сюда приезжать?
– Зачем? Чтобы сказать «прощай»?
– Когда мы убегали отсюда, нам было некогда попрощаться с домом.
– Мой бог, конечно, нет. Я отсюда выползла на четвереньках.
– А меня увели со связанными руками.
– Повезло только Конни. Дом был к ней добрее: ее не вышвырнули отсюда. Она уехала с одной из последних машин.
– В тот день я нарвала цветов для гостиной, – сказала Конни, глядя на заросший травой квадрат.
Ей показалось странным, что сейчас этот квадрат был залит солнечным светом: в гостиной всегда было сумрачно. Она подняла голову и вздрогнула: потолка не было, и на них троих, снова собравшихся в доме, смотрело небо. Засунув руки в карманы, отец бездумно приминал ногой траву; мать, грустно улыбаясь, поднялась на четыре уцелевшие ступеньки и сейчас смотрела сверху по сторонам. Вокруг бессмысленно торчали обгоревшие балки, словно прутья сломанной клетки.
– По крайней мере хоть сад сохранился, – сказала мать, – но, насколько мне видно, все деревья почернели и ни на одном нет листьев.
– Интересно, – вдруг тоже улыбнулась Конни, – а Биликен все еще здесь?
– Кто? А, Биликен! Да, мы ведь, кажется, поставили его где-то тут?
– Там, в саду, – сказал отец. – Но должно быть, и он погиб, как все здесь.
– Пойду посмотрю, – нетерпеливо сказала Конни.
Возле самого дома стволы деревьев обгорели, но подальше царил зеленый мрак: трава выросла в рост человека, над головой сплетались лианы; вся средняя часть сада превратилась в джунгли. Конни продиралась через них, согнувшись и кашляя – поднятая ею пыль забивала нос; ей приходилось отводить ветви руками, она словно плыла сквозь сопротивляющиеся заросли, и пыль лезла в глаза и душила ее. Наконец она остановилась, чихая и кашляя, и огляделась. Рядом возвышалась стена. Она отвела руками ветви кустарника и затаила дыхание. Прямо перед ней, в нише, улыбался в зеленом сумраке Биликен. Он привалился затылком к стене, а его огромный живот смотрел вверх. Она в испуге уставилась на него. Кто-то стрелял в Биликена: две маленькие дырочки на животе глядели на нее, как два глаза.







