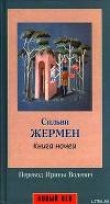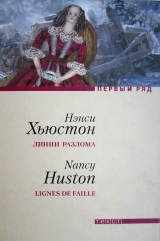
Текст книги "Линии разлома"
Автор книги: Нэнси Хьюстон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
С каждым днем я ухожу из дома все раньше, только бы улизнуть от родительских споров и ничего не слышать. Они ругаются еще яростней, чем обычно, теперь все у них вертится вокруг политики. Но приноровиться можно: как только ма и па повышают голос, я переключаю мозги на иврит, он защищает мою голову от их слов. Теперь я думаю по-еврейски целыми фразами.
В то утро воздух был особенно сладок. К школе я подходил раньше времени, настолько раньше, что лестница была еще безлюдна, я помчался вниз со всех ног, прыгая и перелетая через три ступеньки за раз, но при последнем прыжке наступил то ли на высохшую маслину, то ли на камешек, он покатился под моей левой ногой, я потерял равновесие и очень нехорошо брякнулся на камни мощеного школьного двора. Удар был жесток. От недавнего упоения не осталось и следа. Дыхание перехватило, в ушах зазвенело. Медленно поворачиваясь, чтобы сесть, я увидел, что правое колено в крови, ладони ободраны, в них впечатались инкрустациями мелкие камешки. А птички, как ни в чем не бывало, щебетали на деревьях, из зоосада доносился рев осла… Голова у меня кружилась, колено болело так, что я даже встать не мог и боялся потерять сознание от боли, прямо здесь, в полном одиночестве…
Внезапно я почувствовал, что у меня за спиной кто-то есть. Рука коснулась моего плеча, и нежный голос спросил по-английски:
– Хотел полетать, Рэндл?
Обернувшись, я будто во сне увидел самую красивую девочку на свете: она опустилась на колени рядом со мной. Ей было лет девять, по спине змеилась длинная черная коса, громадные глаза полны ласки, кожа золотисто-смуглая. Школьная форма – голубая юбка и такая же блузка И выглядели на ней, как будто их только что купили у Сакса на 5-й авеню. Она была так хороша, что я напрочь забыл про боль в колене.
– Ты знаешь, как меня зовут? – пробормотал я.
– Кто же этого не знает? Ты ведь американский супергерой, явился к нам прямиком из Нью-Йорка, весь из себя такой нарядный.
Произнося эти слова, она вытащила из кармашка платок, намочила его из лейки, стоявшей у вазонов с цветами, и бережно обтерла мое колено, смыв кровь и мелкие камешки. Следя глазами за умелыми и нежными движениями ее рук, я влюбился в эту девочку без памяти, хотя она была старше меня.
Я спросил, как ее зовут.
– Нузха, – ответила она и взяла меня за руку, помогая встать.
– Мне повезло, что ты пришла в школу пораньше.
– Отец подвозит меня, когда едет на работу. Я почти всегда прихожу первой, но сегодня утром ты меня обошел.
– Почему ты так хорошо говоришь по-английски?
– Я жила в Бостоне, когда была маленькой. Мой отец учился там на доктора.
– Моя мать тоже будет доктором, – сказал я. Потому что сейчас мне хотелось одного: чтобы у нас с ней нашлось хоть что-то общее.
– Это хорошо. Тогда все в порядке. Она вылечит твое колено.
– Нет-нет, она доктор другого типа… Доктор Зла.
– Ты хочешь сказать, она умеет прогонять злых духов?
– Да, пожалуй… Что-то вроде этого.
– А, понятно.
И Нузха серьезно кивнула. Я бы хотел, чтобы наш разговор никогда не кончался, но двор стал заполняться народом. Зазвонил колокол, нам пришло время идти каждому в свой класс. Она была в четвертом.
В полдень я снова поглядел на нее. Издали, в кафетерии. Она мне улыбнулась. Я никогда не видел такой улыбки, у меня от нее все внутри растаяло. Что мне сделать, чтобы эта девочка мною заинтересовалась? Я на что угодно пойду, умру. Съем свои ботинки. Женюсь на ней.
Нузха. Нузха. Нузха. Какое необыкновенное имя.
После занятий я увидел ее у лестницы. Приятели, наверно, станут потешаться надо мной за то, что разговариваю с девочкой из старшего класса, ну и пусть, мне все равно. Я догнал ее и сказал первое, что пришло в голову:
– Ох… ты не могла бы дать мне руку? У меня, по правде сказать, все еще жутко болит колено.
Она любезно взяла меня под руку, и я принялся прыгать со ступеньки на ступеньку – так медленно и терпеливо, как только мог, опираясь на ее руку и посылая ей широкие благодарные улыбки.
– Приятно встретить человека, который так хорошо говорит по-английски, – сказал я ей. – Иврит, когда он не твой родной язык, все-таки очень трудный.
– Он и мне не родной.
– Да что ты?
– Ну да. Мой язык – арабский.
– Значит, мы оба здесь иностранцы! – сказал я, радуясь, что между нами наконец обнаружилось сходство.
– Вовсе нет. Спорим, ты даже не знаешь, в какой стране находишься. Настоящее название этой страны Палестина. Я – палестинская арабка, это моя страна. Иностранцы здесь – евреи.
– А я думал, что…
– Евреи захватили ее. Ты еврей и не знаешь истории своего народа?
– Вообще-то я не такой уж и еврей, – промямлил я, с беспокойством заметив, что мы вступили на последний пролет лестницы. Нузха хихикнула:
– Что значит – «не такой уж»?
– Ну, моя мать по рождению не еврейка, и в семье всерьез не соблюдают еврейских обычаев. По сути, я американец, и все тут.
– Так или иначе, Америка на стороне евреев.
– Ну, я-то ни на чьей стороне, только на твоей, и это здорово, ведь без тебя я бы эту лестницу не одолел.
Я весь взмок: скакать, изображая больного, было ой как нелегко. Нузха смотрела на меня и улыбалась. На самом деле она была не намного старше меня. Встав на цыпочки, я мог без проблем поцеловать ее.
– Если ты не против, я побуду здесь, пока не подъедет твой отец. Ведь ты – моя первая знакомая арабка, мне очень интересно с тобой разговаривать.
– Нельзя. Отец не хочет, чтобы я общалась с евреями вне школы.
– Да ты что? Ну, тогда… а зачем же он послал тебя учиться в Еврейскую реальную?
– Потому что это лучшая школа нашего квартала, только и всего. Он хочет, чтобы его дети получили диплом. И чтобы они боролись за освобождение нашей родины. Вы, американцы, ничего не знаете.
– Так объясни мне. Честное слово, Нузха, я правда хочу понять. Ты не могла бы давать мне уроки истории?
– Если хочешь, встретимся завтра на перемене… под гибискусом у подножия холма, хорошо? Но теперь иди – это машина отца, вон там, у светофора.
Нузха. Взгляд Нузхи. Улыбка Нузхи. Рука Нузхи на сгибе моего локтя. «Я влюблен», – сказал я Марвину.
Листва у гибискуса была пышная, кудрявая и такая тяжелая, что ветви, клонились к земле, образуя внизу подобие ниши, укромной душистой пещерки, где никто не мог нас увидеть. Мы сидели рядышком, подтянув колени к подбородку и смотрели вниз, в долину.
– Ладно, сейчас я расскажу тебе настоящую историю Хайфы, – начала Нузха, и я сразу понял, что она сейчас отбарабанит длинную лекцию, которую ее заставили выучить наизусть, но мне важен был только ее голос – нежный и золотистый, как кленовый сироп. – Давным-давно, в прошлом столетии, в этом городе вместе жили самые разные люди. Первыми пришли палестинцы, в том числе мои предки с обеих сторон, – они живут здесь испокон веков. Потом, привлеченные удобной глубоководной гаванью, сюда во множестве перебрались друзы из Ливана, за ними евреи из Турции и Северной Африки, какие-то чокнутые немцы основали здесь колонию тамплиеров, ставшую со временем немецким кварталом, а также бехаиты, эти построили свою крепость и разбили парк на холме, чтобы трудно было до них добраться. А потом возник сионизм. Евреи решили вернуться в Палестину, где их предки жили в давние времена, но не учли одну маленькую деталь: за последние два тысячелетия здесь пустили корни несколько миллионов палестинцев со своими обычаями и традициями. Им вздумалось захватить всю страну. Случалось, что они врывались в селение и убивали всех, как в Дер-Ясине. В апреле 1948-го моему отцу было восемь лет, он помнит, как по Хайфе взад-вперед носились еврейские машины под крики: «Дер-Ясин! Дер-Ясин!», а из их громкоговорителей слышались крики и стоны истребляемых жителей. Палестинцев Хайфы охватила паника, тысячи людей бежали из города, а евреи вселились в их дома. Семья моего отца разделилась, большинство его дядей и теток с детьми бежали в Ливан, а родители осели близ Наблуса, на западном берегу реки Иордан. Моя бабушка и теперь там живет.
– А моя бабушка – знаменитая певица, – вставил я в надежде, что Нузха тоже проявит интерес к моей истории. Но она смотрела на меня без всякого выражения, и я спросил: – Ее зовут Эрра. Хочешь, расскажу?
Она отрицательно покачала головой и призналась, что даже имени такого никогда не слышала! У меня аж дыхание перехватило: я был уверен, что у Эрры мировая слава. Как продолжать разговор после такого конфуза?
– Своим голосом она творит чудеса, – сказал я. – И она… гм… считает, что я тоже могу их творить.
– Как это?
– Это секрет, но тебе скажу, если я для тебя не слишком еврей и могу быть твоим другом.
Она задумалась, потом кивнула.
Тогда я отогнул воротник рубашки и показал ей безупречно круглое пятно у меня на плече.
Нузха внимательно разглядывала его, будто изучала. Потом спросила:
– Ты его используешь при ритуалах?
– М-м-м… нет, не совсем, – протянул я поглаживая свой «аталеф». – Но для меня оно почти живое. Как маленькая летучая мышка которая со мной говорит, советует, что я должен делать.
– Похоже на «мандал», – почти беззвучно шепнула она.
– Что-что? Извини, я…
– Круг, нарисованный на земле, в котором производят магические ритуалы. У меня тоже есть один знак, «захри», – она протянула мне свою правую руку ладонью вверх, и я увидел в середине, прямо над линией жизни, маленькое фиолетовое пятнышко. – В прошлом месяце, – сказала она, снова обхватив колени руками, – родители возили меня в селение возле Наблуса, повидаться с бабушкой. Это всего в нескольких часах пути от Хайфы, но там другой мир. Когда бабушка увидела, что моя рука отмечена захри, она закричала от радости. Я так люблю бабушку… Ты свою тоже любишь, да?
– Конечно.
– Она мне сказала, что я назир, это значит, мне дано видеть малак– ангела, который приказывает и задает вопросы. Считается, что только малые дети могут быть такими медиумами. Понимаешь, бабушка хочет узнать судьбу своего брата Селима. Много лет от него нет вестей, она не знает, прячется он где-то или евреи уже убили его. Тогда она повела меня к шейху. Он рассматривал мою руку и со строгим видом качал головой. И сказал, что, когда я приеду в следующий раз, нам не обойтись без мандала.
Я чувствовал себя не в своей тарелке от всех этих новых слов, но что с того, главное – она поняла, что мы с ней похожи. И я спросил:
– Что же он станет делать, чтобы привести тебя в контакт с этим… ангелом?
– Сначала он сам должен приготовиться. Для этого нужно много молитв и песнопений. А потом, в урочный день, он воскурит ладан и капнет тушью на мою ладонь, вот сюда, а когда тушь высохнет, – еще каплю масла. – Нузха умолкла и почесала нос. Обожаю, когда она так делает.
– Hy, и? – поторопил я с некоторым сомнением в голосе.
– Потом бабушка задаст ему вопрос о своем брате, и, если я буду очень пристально смотреть на каплю масла на ладони, то смогу увидеть в ней малаки он моим голосом ответит на все вопросы.
– В это довольно трудно поверить, – сказал я.
– Да, но это правда, – твердо возразила Нузха. – И ты тоже наверняка избранный, раз у тебя мандал на плече.
Прозвенел звонок – перемена закончилась. Мы молча, порознь, зашагали прочь от своего волшебного укрытия, где нам никто не мешал.
– Это правда, что евреи оккупировали Израиль? – спросил я в тот же вечер за ужином. Мой голос прошелестел едва слышно, но хохот ма был похож на лай.
– Кто вбил тебе эту чушь в голову? – спросила она, и я почувствовал, что краснею до ушей.
– Да так, слышал где-то, не помню, от кого.
– Ладно. Ответ нет. Евреи не захватывали Израиль, они бежали в Израиль в поисках приюта.
– В Палестину, – поправил па.
– В то время страна называлась так, – признала ма. – Их слишком долго преследовали и убивали по всей Европе, это продолжалось веками, и наконец они решили, что им необходима собственная страна.
– К несчастью, – вставил па, – страна, куда они стремились, была уже занята.
– Эрон, не начинай снова! – ма взвыла, как сирена, и мне стало страшно. – Шесть миллионов жертв за шесть лет – куда им было идти? Что они должны были делать? Спокойно сидеть на месте, сказать убийцам: «Приходите, пожалуйста, развлекитесь, перебейте нас всех!»? – Теперь она кричала, а поскольку па, ничего не ответив, встал и начал убирать со стола, ее последние слова – «перебейте нас всех!» – повисли в пустоте. Па принялся мыть посуду, а ма вдруг смутилась, застеснялась своей визгливой вспышки: она велела мне идти спать, хотя было только семь вечера.
Мне бы так хотелось думать, что Нузха была права, когда назвала меня избранным, но я никак не мог понять, ни кем я избран, ни для чего, чувство раздвоенности мучило меня сильней обычного: теперь разлад начался уже не только между ма и па, но и между Еврейской реальной и Нузхой, да сверх того между Нузхой и ма, а ведь я любил их всех! Это меня жутко изводило, я не понимал, почему люди не могут успокоиться и постараться понять друг друга.
Усевшись на свою кровать, я схватил Марвина и энергично потряс его.
«Ты еврей, Марвин?» спросил я, и он замотал головой. – «Ты немец?» Нет. – «Так значит, араб?» – Тоже нет. Я тряс его все сильнее и сильнее. «Ну, Марвин, – сказал я, тыча его кулаком в брюхо, – это слишком легко – сидеть здесь на кровати и с утра до вечера смотреть в потолок. Надо принять решение, поверить во что-то и бороться за то, во что веришь, иначе ты мертвец!»
В этот момент па постучал в дверь, я вздрогнул и уронил мишку.
– Собрался ложиться, приятель?
– Как раз пижаму надеваю, – ответил я, торопливо срывая с себя рубашку, чтобы все выглядело натурально. Па вошел и, тяжело вздохнув, присел на край кровати.
– Знаешь, какая с родом человеческим главная проблема? – спросил он.
– Нет, па.
– У людей вместо мозгов – требуха, в этом все дело. Повсюду, куда ни глянь, именно эта беда. Отшлепать тебя смеху ради?
– Нет, спасибо. Я сегодня немного устал.
– Ладно, сынок. Спокойной ночи. И не обращай внимания на своих сумасшедших родителей, о’кей?
– О’кей, па.
– Точно?
– Точно, о’кей.
Нузха ведет себя со мной очень мило с тех пор, как я показал ей родимое пятно. У меня было смутное чувство, что таким счастьем я обязан недоразумению, но я на всю катушку использовал возможность быть рядом с ней.
Она жила не так уж далеко, на улице Аббас, на полпути между подножьем холма и его вершиной, но, когда в гости друг к другу приходить нельзя – даже и не мечтай! – остается одно: встречаться под гибискусом – каждый день, но только на перемене.
– Ты веришь во все эти вещи? – спрашивала она.
– Хм… да. Наверно, все-таки верю.
– И в дурной глаз? Знаешь, что это такое?
– …?
– Достаточно поглядеть на кого-то с плохой мыслью, и с человеком случится беда. Это называется «дараба бил’айн» – ударить взглядом. Умеешь так делать?
На миг я засомневался – говорить ей или нет, что у нас людей посылают к черту пальцем, а не взглядом? Решил, что не стоит.
– Вряд ли.
– Я уверена, у тебя есть такая сила, Рэндл. Благодаря твоему мандалу. Звучит почти в рифму, заметил? Рэндл – мандал! Ты должен попробовать. Начни с малого – ты сам удивишься, какая это мощная сила.
– А если кто-нибудь даст мне дурным глазом сдачи?
– Ты сможешь отвести вред, сказав «Ма са’ха Аллах ва кан», это значит «Все, что свершается, – Божья воля». Тогда стрела дурного глаза отклонится от цели и уже не сможет причинить тебе зло. Ма са’ха Аллах ва кан. Повтори.
– Ма са’ха Аллах ва кан, – послушно произнес я, думая совсем иное: «Нузха, у тебя самые красивые глаза в мире, я в тебя жутко влюблен». – Ма са’ха Аллах ва кан.
– Очень хорошо, – кивнула она. – Ты быстро научился!
В тот вечер ма возвратилась домой ликующая. Глаза ее сверкали.
– Я ее нашла! – воскликнула она. – Нашла! Опомниться не могу! Есть данные о привезенной девочке в возрасте «около года», которая два с половиной месяца провела в центре Штейнхёринг зимой тридцать девятого – сорокового. У нее было родимое пятно на внутренней стороне левой руки, ты слышишь, Эрон?!
Па даже головы не поднял от газеты. Только проронил мрачно:
– Последние части французских и итальянских войск, следуя примеру американцев, только что оставили Бейрут.
– Она родом из Ужгорода, городка в Западной Украине. Эту область немцы захватили на несколько месяцев раньше. Ее родимое пятно – в то время его диаметр был восемнадцать миллиметров – Гиммлер измерял собственноручно, что зафиксировано в личном деле. А почему он решил ее уберечь, несмотря на такой недостаток?
– Хабиб предал. Вайнбергер предал. А ведь обещали оставаться там после ухода Арафата, чтобы защищать беженцев.
– Из-за ее светлых волос и голубых глаз! Она была очень красивая, просто чистая арийка! Ты меня слушаешь, Эрон?
– Рейган и Бегин посадили своего Джемаля.
– Тогда он сплавил ее одному из своих друзей, важной шишке из СС, у того дочка канючила, что хочет маленькую сестренку, а его жена больше не могла иметь детей.
– Танки Цахала окружили Западный Бейрут.
– Просто невероятно, правда, Эрон? С Украины в Германию, а после войны раз – и ее перевозят в Канаду! Разве не поразительно?
– Операция «Мир в Галилее» – вот как это называется.
– Все части пазла встали на свои места.
– Плохи дела, мать твою, и то ли еще будет!
– Рэндл, ступай в свою комнату.
Мне не хотелось уходить – пришлось бы засесть за уроки: зубрить названия частей тела. «Рош» – голова, «бетен» – живот, «гав» – спина, «регел» – стопа, «берекх» – колено, «каф йад» – рука, «эстба» – палец, «пех» – рот, Нузха – чудо, я – комок нервов, отец у меня – одержимый, мать – сумасшедшая, скоро Рош а-Шана, дела гадски плохи, и то ли еще будет.
На следующий день Джемаля убили, как когда-то Джона Кеннеди, но его-то выбрали президентом всего три дня назад – для президентского мандата срок, сказать по правде, куцый. В школе, на перемене, учителя только об этом и говорили, но так тараторили, что я не мог разобрать слов. Нузха сказала, что теперь все встало на свои места, ведь Джемаль был пешкой, его привели к власти Израиль и США. Слово «пешка» я узнал, когда научился играть в шашки, но что имела в виду Нузха, не понял. В коридоре мы столкнулись со старшеклассниками в кипах. Один из них что-то выкрикнул, и Нузха побледнела.
– Что он говорит? – спросил я ее.
– «Всех сволочей-арабов надо стереть с лица земли» – вот что он сказал.
Напряжение росло, я чувствовал себя все более скованно. Марвин мне не помогал, мой «аталеф» замкнулся в молчании, а бабуля Эрра была так далеко – все равно что на другой планете.
Мне приснился кошмарный сон, и я проснулся с криком. Примчалась ма в ночной рубашке, стала допытываться: «Рэндл, что случилось? Что с тобой?» – но я не сумел облечь кошмар в слова, воспоминание о нем разбилось в мелкие дребезги, которые стремительно истаяли. Вот ведь стыдобища – ма вскочила с постели среди ночи, а я не могу вспомнить, чего испугался, не знаю, как оправдать свою панику, отчаянно ищу слова, но голова пустая, как котел, и я лепечу: «Извини, ма. Извини, ма. Извини».
Назавтра я встал в семь утра, но па уже сидел с сигаретой перед включенным радиоприемником. Это не предвещало ничего хорошего.
На кухню вошла ма в бигуди и сказала:
– Эрон?
Он не отреагировал – слушал радио, и она повторила громче:
– Эрон, хочу, чтобы ты знал: я искренне благодарна за то, что ты поехал со мной в Хайфу. Знаю, тебе это дается нелегко – жить в окружении людей, говорящих на чужом языке. Ты привык черпать вдохновение из разговоров, подслушанных на улице, в парках и кафе на Манхэттене, и я знаю, как ты тоскуешь по Нью-Йорку. Поверь, мне это совсем не безразлично. Я понимаю, какую огромную жертву ты принес ради меня, и всем сердцем ценю это.
Вид у нее был странноватый – лицо не накрашено, волосы накручены на бигуди, а речугу толкнула будь здоров, я даже подумал, уж не готовилась ли она перед зеркалом, как к своим лекциям. Мне надо было доесть тост, я, давясь, заглотал его второпях, потому что па не отрывался от радио, а лицо ма постепенно заливалось краской – она силилась подавить раздражение.
– Эрон, – сказала она, – наступил канун Рош а-Шана, и я от всей души хочу, чтобы мы начали новую жизнь. Послушай меня, прошу. Рош а-Шана – лучшее время, чтобы сказать себе: остановись, осознай, что ты на распутье, проникнись отвращением к своим грехам и прими благие решения на будущее.
Па сидел, прижав ухо к приемнику, на ма – ноль внимания, и она таки вспылила, промаршировала через кухню и выключила радио.
Па снова его включил.
Она выключила.
Он включил.
Я не горел желанием посмотреть, чем все закончится, и решил улизнуть к себе – собираться в школу. В дверях до меня долетела фраза ма:
– Серьезно, Эрон: ты не думаешь, что мы оба заинтересованы в принятии некоторых решений?
Па ничего не ответил, не отпустил шутки, даже не пожелал мне удачного дня, а просто вышел из дома, хлопнув дверью. Я знал, куда он пойдет – спустится на улицу Ха-Нази и купит там в киоске все газеты на английском языке, какие сможет найти.
Я не могу этого объяснить, но в тот день атмосфера сгустилась и в школе, казалось, надвигается ужасная гроза, хотя на небе не было ни облачка и солнце палило немилосердно. «Смотри в оба, Рэндл, – бормотал мне мой „аталеф“. – Смотри в оба!» Но я понятия не имел, на что именно должен смотреть. В полдень Нузха шепнула:
– Шарон только что захватил Западный Бейрут, ты понимаешь, что это значит?
Я кивнул, хотя даже не знал, кто такой Шарон, и отдал бы все на свете, чтобы оказаться на бейсбольной площадке в Центральном парке.
Вернувшись из школы, я пошел прямо в свою комнату. Жара стояла адская, терпеть не могу такое пекло хочу взорваться хочу чтобы все взлетело на воздух я стал метаться по комнате кружиться как самолет который падает вошел в штопор и все твердил «РОШ, РОШ, РОШ А-ШАНА», и в этом бреду слово «Рош» означало «голова», а «а-Шана» – «взрыв», я чувствовал, что голова у меня вот-вот лопнет, происходит нечто, с чем мне не справиться. Меня всего перевернуло.
Ужин прошел в молчании.
Вернувшись в свою комнату, я принялся рисовать людей без туловища людей без головы людей без рук людей без ног, я приставлял им ноги к шеям и руки к животам, рисовал летящие по воздуху груди, и тут мой «аталеф» приказал мне: «Давай, скажи им все, Рэндл! Но будь осторожен, не допусти промашки!» Он не объяснял, к чему именно надо подступать с осторожностью, и я не знал, что делать.
Мне приснилось, что па хлопнул дверью и ушел навсегда. Дверь в моем сне хлопала снова и снова, и я наконец осознал, что никто не может хлопать дверью так часто и что это, наверное, выстрелы. Танки. Бомбы.
Проснувшись на следующее утро, я прошел босиком на кухню и застал там невиданное – плачущего отца. На столе лежала «Геральд трибюн», он читал ее и рыдал. Я не осмелился спросить, что стряслось, но, когда я подошел, он схватил меня, вцепился так, будто искал у меня защиты, хотя обычно родители защищают детей. Я совсем растерялся. Па был сам не похож на себя: лицо скривилось от горя, глаза покраснели, наверное, он долго плакал. Я не разобрал, какой именно заголовок так его расстроил, потому что сам разревелся и забормотал сквозь слезы: «Что случилось, па? Что?» – тонким, срывающимся голоском. Он не отвечал, но так сильно прижал меня к себе, что я едва не задохнулся и, когда в кухню вошла ма, невольно почувствовал облегчение.
– Веселого Рош а-Шана! – воскликнула она, не успев прикусить язык.
– Сэди, – не сказал, но простонал мой отец, – уедем из этой проклятой страны!
Эти слова сразили ма, она застыла посреди кухни, и праздничная улыбка медленно сползла с ее лица.
– Вот, взгляни! – отец ткнул пальцем в «Геральд трибюн». – Давай, взгляни!
Сердце бухало у меня в груди, как безумное, когда ма, очень бледная, села, взяла газету и начала читать. Тут па обхватил голову руками и снова зарыдал, смотреть на это было просто невыносимо. А потом ма вдруг забормотала:
– О Боже мой о Боже мой о Боже… – и добавила: – Какой кошмар!
Мало-помалу до меня дошло, что мои рисунки воплотились в реальность: в Ливане сейчас уничтожают людей, руки, ноги, головы летят в разные стороны, сотни мертвых тел тысячи мертвых тел мертвые дети мертвые лошади мертвые старики груды целые семьи они смердят…
– И этот кошмар длится и длится! – выдохнул отец. – Они истребляют всех беженцев из Сабры и Шатилы! Полюбуйся, что творит эта проклятая страна!
– Перестань, Эрон! – Ма, слава Богу, на время оставила разговоры о новой жизни и благих решениях. – Израиль ни при чем, ты что, читать не умеешь? Зверствуют фалангисты, христиане из Ливана. Там идет гражданская война.
– Не защищай Израиль! – закричал па, и я подумал, что при мне он впервые повысил голос. – Они оставили с носом Арафата и ООП. Они убедили миротворцев уйти, и те ушли, развязали им руки. Они участвовали в подготовке этой бойни. Они подстрекали. Поддерживали. Защищали. Контролировали. Они и теперь наблюдают – спокойненько смотрят в бинокли и в телескопы с крыши посольства в Кувейте – оттуда отличный вид на Шатилу, никакие постройки не заслоняют.
– Перестань во всем обвинять Израиль! – завопила ма (уверен, у нее тут же заболело горло!).
Родители орали и спорили весь уик-энд, прерываясь, чтобы послушать радио и прочесть газеты, и тут же начинали выяснять, по чьей вине Ливан завален разлагающимися на жаре трупами, которые бульдозеры сбрасывают во рвы. Я совсем растерялся: никогда еще у нас в доме не было такой тяжелой атмосферы. При всей любви к ивриту и Нузхе я начинал жалеть, что мы приехали в Хайфу.
Суббота миновала, наступило воскресенье, надо было идти в школу, и я слегка взбодрился. Зной раскочегаривался уже в семь утра. Подойдя к переходу через улицу Ха-Йам, я увидел, как отец Нузхи высаживает ее из машины у самой лестницы. Сердце подпрыгнуло от радости: Нузха была моей единственной надеждой, она сможет все объяснить… Я бросился за ней следом, крикнул: «Нузха!», но она не остановилась, тогда я помчался еще быстрее и настиг ее на третьем пролете лестницы:
– Эй, Нузха! Что происходит?
Она повернулась ко мне, в ее глазах сверкнула отравленная стрела, а я забыл магическую формулу, отвращающую беду, помнилось что-то про Аллаха, но прочее вылетело из головы – ее взгляд слишком потряс меня.
Когда дошли до третьей площадки, она наконец остановилась и, не глядя на меня, так что я видел только ее застывший, как из камня, прекрасный профиль, отчеканила:
– Я пришла за своими вещами. Отец ждет меня наверху. С Еврейской реальной покончено. С евреями покончено. Даже с тобой покончено. Да, Рэндл. С твоей матерью, с твоим отцом – покончено со всеми. Вы все виноваты и все будете моими врагами на веки вечные. Девятнадцать моих родственников убиты в Шатиле.
Ее лицо ни на миг не смягчилось, «Шатила» – вот последнее слово, которое я от нее услышал. Она со всех ног помчалась вниз, чтобы не находиться рядом со мной. А я остался стоять, ухватившись за перила, – очень закружилась голова.
Остаток дня прошел как в бреду. Я слонялся по коридорам, как тупой зомби, ничего не видя и не слыша, в голове страшно гудело от мыслей о том, чего я не мог понять. Ясно было одно: спешить домой не стоит.
Когда я все-таки приплелся, дома никого не оказалось, и я пошел в свою комнату.
Какое невыносимое пекло… «Слишком жарко сегодня, а, Марвин?» Марвин дернул башкой – да, мол. «Тебе, должно быть, еще хуже, шуба-то у тебя меховая?» – Дал<– «Ну-ка, посмотрим, не смогу ли я помочь твоему горю». Я сбегал в комнату родителей и прихватил из ящика маминого стола ножницы. Вернувшись, я долго смотрел на Марвина, сжимая их в руке. Помутневший слепой глаз придавал ему печальный, но кроткий вид, он склонил голову набок, и я вонзил ножницы ему в брюхо, распоров меховую шубу. «Ну, попробуем снять ее с тебя, вот будет славно, согласен?» Он кивнул. Тогда я разрезал его. Ножницы были наточены, и внутренности Марвина вывалились наружу. Они были вроде бы из ваты, но она давно свалялась в маленькие желтоватые комочки. Я кромсал Марвина, рвал, я перерезал ему глотку. «Теперь тебе лучше, Марвин?» – спросил я, и он кивнул. Я оттяпал его ушки и хвостик, разодрал затылок, чтобы посмотреть, как выглядят мозги, но они были у него такие же, как внутренности. Он и вправду был старый, этот медведь. Он старше меня, старше ма и па. Я собрал все его куски, сложил в пластиковый пакет и отнес на кухню. Потом вынул из холодильника несколько кубиков льда и бросил в тот же пакет со словами: «Теперь тебе не так жарко, Марвин?» И он ответил: «Да». Тогда я завязал пакет, стянул узел покрепче и засунул все это в мусорный бачок, на самое дно, чтобы прочий мусор оказался сверху: «Повеселись в раю, Марвин», – сказал я и пошел мыть руки. Мне чуть-чуть полегчало.
Немного погодя вернулся па. Я едва взглянул на него и сразу взбодрился: понял, что он снова намерен вести себя, как положено отцу. Па нежно обнял меня и сказал:
– А не сходить ли нам вдвоем в зоопарк?
Когда мы зашагали по улице Ха-Тишби, он попросил меня проэкзаменовать его еще разок на знание иврита. Я был доволен: похоже, восстанавливался нормальный ход вещей. «Хаколь безедер, – шепнул я себе под нос: – Все хорошо».
Вскоре выяснилось, что для па наш поход в зоопарк – только повод, что он хочет поговорить со мной на одну деликатную тему. О сложных вещах легче толковать, глядя на обезьян или тигров, чем на собеседника.
– Послушай, Рэн, – начал он, – я хочу, чтобы ты знал: сегодня утром мы с мамой помирились. То, что происходит в Ливане, так ужасно… война в доме нам совсем не нужна. Согласен?
– Да.
– Так вот, мы решили, что нам лучше избегать разговоров о политике. Постараемся использовать наше пребывание в Хайфе как можно лучше и будем считать себя счастливцами уже потому, что наша семья не пострадала. У нас замечательная семья, верно?
– Да.
– А главное, тебе ни о чем не надо беспокоиться. У нас с ма иногда бывают заскоки, но мы умеем их преодолевать, держать удар и оставаться вместе, так что ты не должен тревожиться. Это был кризис, согласен, но кризисы – просто часть жизни. Так ведь?
– Так, – ответил я, думая о Марвине, как он там лежит в мусорном бачке среди растаявших ледяных кубиков.
С этого дня обстановка у нас в доме изменилась, ма и па старались вести себя друг с другом очень мило, интересовались делами и проблемами друг друга, а о войне помалкивали. Па решил в новом году наладить более жесткий рабочий режим, он запирался в кабинете ежедневно с восьми до полудня и с часу до пяти, хотя результаты собственной усидчивости его не слишком удовлетворяли. Ма наскучило ездить в университет автобусом, дорога была длинная, и она надумала взять напрокат автомобиль. Па заметил, что это необязательная трата, но ма возразила: