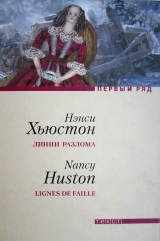
Текст книги "Линии разлома"
Автор книги: Нэнси Хьюстон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
– Ты не можешь так поступить, моя милая, – говорит Питер. – Я потратил два года жизни на раскручивание Крисси Крисвоти!
– Знаешь, Питер, кольцо, которое ты мне надел, не дает тебе права командовать.
– Я говорю с тобой не как муж, а как твой менеджер.
– Менеджер-шменеджер! Артистка здесь я, и решения принимаю я: менеджер без артиста – жалкий безработный. Согласен?
Питер не отвечает.
– Так вот, – продолжает мама, – сейчас идеальныймомент для того, чтобы сменить имя. Крисси Крисвоти была канадской певицей – ее известность в Канаде и останется. А Эрра прославится во всем мире.
– Где ты раскопала такое имя? – Питер качает головой.
– Эрра, – повторяет мама, и голос ее звучит очень твердо. Она оборачивается, видит, что я не сплю, и спрашивает, что я об этом думаю.
– Что я думаю о чем?
Я тру глаза, чтобы она поверила, будто я только что проснулась.
– О том, чтобы поменять имя. Хочешь зваться Сэди Зильберман?
– Питер меня удочерит?
– Хотел бы, да не могу, крошка, – бросает Питер. – Твой папа все еще жив.
– Значит, нам всем придется врать?
– Врать? Нет, что ты, конечно, нет.
– То есть это будет как в театре?
– Именно так! Ты все правильно поняла. Ты станешь играть рольСэди Зильберман. Что скажешь?
– Класс! – отвечаю я.
Питер хмыкает, гася окурок в пепельнице.
– Как бы то ни было, Сэди – хорошее еврейское имя, – сообщает он. – «Принцесса» на иврите.
– Да ну? – удивляется мама.
– Ты не знала?
– Представь себе – нет.
– Так почему назвала дочь Сэди?
– Мне просто понравилось имя.
– Ну вот, теперь она будет носить его по праву. Беда с вами, неверными, все приходится объяснять.
Не знаю, почему он называет нас «неверными», но мне впервые в жизни нравится имя Сэди: принцесса– а вовсе не «печаль» и не «садизм».
– А я, – добавляет мама, – отныне и навсегда буду называть себя на сцене Эррой. Не возражаешь?
– Почему нет? – Я усаживаюсь поудобнее – руки и ноги у меня затекли, но на душе легко. Все хорошо, только писать хочется.
Мое первое впечатление от Манхэттена – так себе местечко. Огромный остров напоминает спрута, как и Торонто, но хуже. Первый блин проходит комом, потому что Питер не там поворачивает, мама ехидным тоном произносит: «Поздравляю!» – и в машине на несколько минут повисает напряженное молчание. В конце концов мы находим дом на улице Норфолк. Квартира на шестом этаже без лифта, зато недорого, потому что друг, сдавший ее Питеру, недавно умер от передоза.
Стены выкрашены в черный цвет с желтыми панелями, на окнах черные с желтым занавески, а потолок ярко-красный.
– Потрясно! – комментирует Питер.
Тут есть пианино – иначе мама ни за что не согласилась бы ехать. Она сразу идет к инструменту – проверить, как он настроен.
Пыхтя и охая, мы тащим вещи по лестнице, и я вдруг понимаю, что прежняя жизнь с бабушкой, дедушкой и Хилари стала далеким, почти забытым воспоминанием. В квартире всего одна спальня, и ее отдают мне; мама с папой (я привыкаю называть Питера папой) будут спать на раскладном диване в гостиной. Я высовываюсь из окна и смотрю, что делается на улице: на тротуаре много детей, они во что-то играют, повсюду мусор – отбросы, объедки, собачье дерьмо. В воздухе витает странный запах – и он мне нравится.
Идти за покупками слишком поздно, и мы отправляемся ужинать в китайский ресторан. Питер учит меня есть палочками, но они не желают слушаться, падают на пол, и официант приносит вилку. В самом конце каждый получает пирожок с предсказанием. На бумажке Питера написано: «Вас ждет удача». Мое предсказание – «Наслаждайтесь новой зизнью» – производит на меня ошеломляющее впечатление, несмотря на орфографическую ошибку.
Мама и Питер, он же папа, не придумали никакой специальной «детской» программы на лето, и меня это совершенно устраивает. Они сами с утра до вечера торчат в звукозаписывающей студни, их это заводит, и настроение у них отличное. Недалеко от нашего дома есть библиотека, мама таскает мне оттуда книги целыми стопками, и лето превращается в бесконечное райское наслаждение: я могу есть, читать и спать, сколько захочу, а правил никаких никто не устанавливает. Ну а внутренние… если Враг и следит за всеми моими словами и поступками, он пока не вылезает, не ругается, не заставляет причинять себе боль. Я даже ухитряюсь одеваться без особых мучений, хотя летом это всегда легче.
Ну и вот, я впервые за всю свою жизнь живу «семьей» – и мне ужасно нравится. Каждое утро, когда солнце будит меня, заглядывая в окно комнаты, я отправляюсь в гостиную щекотать Питеру и маме пятки. Они ворчат и брыкаются. Странно видеть голую маму в постели с голым мужчиной, но такова семейная жизнь, и она мне подходит.
Я учусь варить кофе, красиво расставлять на подносе чашки, сливки, сахар и относить им в постель.
Питер по-настоящему добр ко мне, он и правда очень милый. Придумал для нас игру: он берет меня за руки, я подпрыгиваю на месте, потом одним скачком усаживаюсь ему на пояс, обнимаю ногами за талию, откидываюсь назад, достаю волосами до пола, вытягиваю ноги буквой «V» на груди у Питера, он тянет меня вверх, я забрасываю ноги ему на шею, делаю переворот и спрыгиваю на пол. Такая вот забавная игра. Питер шутит, что я ужасно тяжелая, притворяется, будто совсем выбился из сил.
В скором времени у мамы образуется новый круг друзей – точная копия тех, кто крутился вокруг нее в Торонто: бородатые, всклокоченные обожатели ее голоса. Они приходят вечером, пьют вино, курят травку и слушают пластинки. Если мне хочется спать, я ухожу к себе, закрываю дверь и ложусь, а если становится интересно, что происходит у взрослых, всегда можно подсмотреть в замочную скважину.
Наш дом часто напоминает проходной двор, но, как говорит мама, никто не совершенен! Когда беспорядок грозит превратиться в стихийное бедствие – вся посуда грязная, стираного белья тоже нет, – мама со всем пылом, на какой способна, начинает убираться. Она скребет, моет, подметает, гладит и вытряхивает коврики в окно, распевая во все горло на собственный манер хиты Пола Анки: «Put your hed on my boulder!» [4]4
Искаженное «Put your head on my sholder» – «Положи голову мне на плечо», строчка из песни Пола Анки.
[Закрыть]
29 июля мы празднуем мой седьмой день рождения походом в зоопарк в Бронксе. Когда я устаю, папа сажает меня на плечи. До ужаса здорово смотреть на мир с такой высоты, чувствовать, как щекочут кожу папины волосы, как крепко держат меня за лодыжки его пальцы. На обратном пути мы заходим в кондитерскую, и мама покупает мне пирожное. К моему удивлению, оно оказывается в тысячу раз вкуснее всех бабушкиных тортов, вместе взятых. Я сообщаю о своем открытии маме, и она отвечает, что у бабушки слишком тяжелая рука, а всем остальным ингредиентам она предпочитает чувство вины.
Через несколько дней становится известно, что Мэрилин Монро свела счеты с жизнью, и это кажется невероятным: совсем недавно она расстраивалась из-за слишком узкого платья! Я наблюдаю, как мама с папой смотрят телевизор, они потрясены, и это меня удивляет: упади на Торонто ядерная бомба, бабушка с дедушкой только головой бы покачали с видом крайнего неодобрения.
Сегодня воскресенье, и мама валяется в постели аж до одиннадцати утра. Папа говорит: «Может, пойдем что-нибудь пожуем?» Мы выходим на улицу, держась за руки, и я чувствую себя ужасно гордой, и полной сил, и самой главной. Мы идем вниз по Дилэнси, потом по Ривингтон и выходим на Орчард: все магазины открыты, прилавки ломятся от товаров – в Торонто такого не бывает. Папа указывает на вывески, и я, раздуваясь от гордости, читаю все подряд: «Ручные сумки Файн и Клейн; Кожгалантерея Альтмана; Шерсть, шелк, сукно Бекенштейна: лучший выбор на свете, пожалеете, если не купите здесь; Кожа оптом и в розницу; Одежда, Ткани, Басон, Трикотаж». Папа довольно улыбается и время от времени останавливается посмотреть, пощупать, поболтать с продавцами, все его поздравляют с красивой маленькой дочкой, и мне совсем не хочется их разубеждать. Папа ведет меня в большой ресторан – он называется «У Каца», и там полно народа, в основном мужчин, и Питер объясняет, что это не ресторан, а «деликатесная»: посетители не садятся за столик, чтобы сделать заказ официанту, а стоят в очереди к прилавку и разглядывают тысячи сортов хлеба, колбас и сыров, выставленных за стеклом. Когда подходит очередь, человек сообщает, что хочет съесть, и ему накладывают все на тарелку.
Папа говорит: «Ладно, детка, пора тебе познакомиться с бейгеле».Он делает заказ, мы устраиваемся с подносом за маленьким столиком в углу, и я с неведомым прежде наслаждением вкушаю хлеб с дыркой посредине, начиненный копченым лососем и мягким сыром. Он говорит:
– Помнишь, ты спрашивала насчет евреев?
Я киваю с набитым ртом, и Питер продолжает:
– Так вот, это одна из самых приятных сторон жизни евреев.
От удивления я проглатываю все разом:
– Это что же, здесь все евреи?
– Почти все, – отвечает Питер. – За исключением нескольких туристов – вроде тебя. По воскресеньям, утром, когда в городе все закрывается – якобы ради посещения церкви! – мы считаем делом чести бурно функционировать, если так можно выразиться.
– Но откуда видно, что они – евреи?
– Нужно не смотреть, крошка, а слушать.
Я снова откусываю от бублика и говорю:
– А я заметила, что они говорят на немецком.
Папа не делает мне замечания за то, что я разговариваю с полным ртом, но поправляет:
– Это не немецкий, Сэди, а идиш.
– Что такое идиш? – спрашиваю я, и он объясняет:
– Язык, на котором когда-то говорили евреи Восточной Европы. Слушай во все уши: никто в мире, кроме этих людей, не владеет языком под названием идиш.Когда ты приведешь к Кацу своих детей, их не останется вовсе.
– А что такое неприятные аспекты?
– О… всему свое время. Не торопи события.
Воскресный поход на завтрак к Кацу входит у нас в обычай. Мы отправляемся в заведение на углу Хьюстон и Ладлоу, и папа позволяет мне пробовать все, что захочу, а я хочу всего: огурчиков в укропном рассоле и маринованных зеленых помидорчиков, огромных бутербродов с солониной, копченым языком или теплой бужениной, бубликов и пончиков, селедки и пиццы с салями, а на десерт – дивного яблочного штруделя.
«Боже, Питер, ты ее избалуешь!» – восклицает мама, когда я перечисляю все, что съела, но папа отмахивается: «Она заслуживает, чтобы ее немножко побаловали после стольких лет спартанского воспитания на Крайнем Севере». Слово «спартанский» мне незнакомо, но я совершенно согласна с папой.
Райская летняя жизнь заканчивается, совсем скоро придется идти в школу. «Ты готова, Сэди? – шепчет Враг, желая меня запугать. – Думаешь, ты готова ко второму классу?» Я говорю себе, что во втором уж точно будет лучше, чем в первом, ведь здесь я пойду учиться в государственную школу с другими детьми из нашего квартала, а не в шикарное дорогое заведение, куда учениц привозят на машинах, где все носят одинаковую форму, одинаково думают и одинаково чувствуют.
Все проходит очень даже неплохо. Новая «я» – Сэди Зильберман – ухитряется вступить в разговор с другими учениками общественной школы № 140 Натана Стросса, и они принимают ее за еврейку. Я рассказываю, что приехала из Канады. Невероятно, но им очень приблизительно известно, где находится эта страна. Я говорю, что Канада большеСоединенных Штатов, а они стучат пальцем по виску: «Чокнутая!» – но я не обижаюсь, пожимаю плечами и спокойно добавляю: «По площади, но населения у вас в десять раз больше, чем у нас». У них челюсть отваливается от того, как много я знаю, но они не завидуют и не злятся. Мне нужно быть повнимательней и найти способ потрясать всех своим умом, не вызывая ненависти, и чтобы меня не посчитали подлизой, как случилось в прошлом году, потому что это было ужасно.
Я говорю маме: «Мне кажется, что я иду по тонкому льду!» – и она отвечает: «Понимаю, со мной было так же, потому что я тоже научилась читать в пять лет». (Я забываю спросить, ктонаучил ее читать, но уж точно не бабушка и не дедушка!) «Дети не любят тех, кто „выбивается из строя“, – продолжает она. – Но сейчас всеони в том же положении, что и ты, пытаются набрать очки. Бога среди них нет, понимаешь, что я хочу сказать?» – «Да», – отвечаю я, и меня захлестывает счастье: как хорошо, что я наконец живу с тем, кто меня слушает и принимает всерьез, а не приказывает то и дело застелить постель или убрать со стола.
Я обгоняю всех одноклассников по всем предметам, так что на уроках мне знаний не прибавляется, зато на перемене я получаю то еще образование! В прежней школе мальчиков не было, зато теперь они учатся со мной вместе, а девочки только о них и говорят. Подозреваю, что мальчишки поступают так же. Я вовсе не наивна: в Торонто я иногда сопровождала дедушку на прогулках с Хилари. Если мы встречали собачку-девочку, штукау Хилари становилась твердой и красной, он начинал жалобно повизгивать и пытался оседлать собачку, даже если она была в три раза крупнее. Выглядело это уморительно. Однажды он уже начал делать этос белоснежной карликовой пуделихой, но дедушка резко дернул за поводок и сделал ему выговор: «Прекратите, молодой человек! – сказал он. – Вы не в том положении, чтобы заводить семью». Я тогда призадумалась: те же слова дедушка сказал о моем отце Морте.
Когда-то, листая дедушкину медицинскую энциклопедию, я нашла рисунки голых мужчин и женщин со странными надписями «уретра» и «матка» на интимных частях тела, а теперь мои одноклассницы все время отпускают шуточки насчет этих самых частей, и я поверить не могу, что этопроисходит все время, что респектабельные мужчины в костюмах и галстуках ведут себя в точности, как Хилари, стонут и суют свои штуки в респектабельных дам, для того люди и женятся, все пары так себя ведут, даже если не хотят заводить детей, значит, и мама с Питером это делают (я иногда слышу всякие звуки по ночам, но в замочную скважину ничего рассмотреть не могу, потому что в комнате слишком темно). Наверное, даже бабушка с дедушкой этим занимались, иначе как бы родилась моя мама, и каждый из миллионов человеческих существ, живущих на Манхэттене и вообще на земле, появился на свет в результате толчков, прикосновений и слюнявого чмоканья, которое называют поцелуем. Верится с трудом, но это правда.
Мальчики в школе пристают к девчонкам. Когда меня впервые оттаскали за волосы, я пришла в ярость, но потом поняла, что это ритуал приобщения, и научилась, как другие девочки, говорить «Лапы прочь!» тоном, подразумевающим обратное. Я научилась хихикать и строить глазки некоторым мальчикам, давая понять, что они мне нравятся. Иногда мальчишки на перемене гоняются за девочками, вытянув вперед руки, и кричат: «Еврейка! Еврейка!», а те притворяются испуганными, пищат, визжат и убегают с воплем «Нацист! Нацист!». Нацист– новое для меня слово. Я ищу его в словаре, но не нахожу никакой связи между немецкой политической партией и муниципальной школой № 140. Через неделю, в воскресенье утром, я задаю этот вопрос папе в заведении «У Каца».
– Что такое нацист, папа? – спрашиваю я громким звонким голосом. Папа подпрыгивает на стуле и становится красным как рак.
– Тих-хо! – приказывает он, и я замечаю, что на мой вопрос обернулось множество голов. (Тут же вылезает Враг с ехидным замечанием: «Браво, Сэди, ты снова ляпнула глупость, вечно ты все портишь, вот и этого нового друга сейчас лишишься».) Папа уже взял себя в руки, допил кофе, многозначительно подмигнул мне и начал объяснять тихим голосом:
– Нацисты были самым неприятным аспектом жизни евреев. Договорим на улице…
Мы выходим на Орчард и оказываемся среди рулонов мануфактуры, чемоданов, сумок и прочей кожгалантереи. Папа спрашивает, почему я задала такой вопрос, и я рассказываю об игре. Папины брови взлетают вверх, он морщит лоб и пускается в объяснения.
– Нацистами, – говорит он, – были немцы, которые хотели, чтобы евреи исчезли с лица земли.
– Почему?
– Потому что они евреи.
– Но почему, папа?
– Потому что гораздо легче заставить людей быть глупыми, чем учить их быть умными и интеллигентными. Если сказать, что все беды – от евреев, людям становится легче, это они понять способны. Правда слишкомсложна для большинства людей.
– Ты хочешь сказать, что они их убивали?
– Да! – отвечает Питер, покупая в киоске «Санди таймс», а это значит, что мы скоро пойдем домой, газету он всегда покупает в последний момент, потому что она весит целую тонну.
– А как же ты от них сбежал?
– К счастью, до евреев Торонто у нацистов руки не дошли, – смеется он. – Но они убили моих бабушку и дедушку в Германии.
– Твоих бабушку и дедушку?
Питер кивает. Он ищет взглядом, за что бы зацепиться, чтобы сменить тему, и я выпаливаю еще три вопроса:
– Как они их ловили? Как убивали? Скольких убили?
Папа взъерошивает мне волосы и говорит:
– Послушай, детка, не забивай себе голову. К тебе все это не имеет никакого отношения. Но… ради меня… не играй больше в ту игру, ладно? Если другие начнут, найди себе занятие на другом конце школьного двора. Договорились?
– Договорились. – Я даю обещание серьезно и искренне, хотя ум мой в смятении из-за услышанного.
Той осенью «Санди таймс» и все остальные газеты сообщают, что миру грозит страшная опасность, потому что на Кубу привезли советские ракеты. «Холодная война» рискует перейти в «горячую», но президент Кеннеди решил держаться твердо и не спустит русским их поведения. В школе мы почти каждый день репетируем, как будем себя вести во время воздушного налета, многие люди готовятся к Третьей мировой войне и строят убежища.
Питер с мамой не поддаются всеобщей панике и насмехаются над происходящим. Как-то за ужином они рассказывают мне, что электрическая компания «Вестингхаус» зарыла под гранитной плитой в парке «Флэшинг Мидоу» капсулу-напоминание: если человечество будет уничтожено, а через тысячи лет на Землю прилетят инопланетяне и захотят узнать, как жили обитатели планеты, они увидят типичную для 1962 года квартиру в целости, сохранности, со всей обстановкой, одеждой и домашней утварью. Питер и мама весело хохотали, представляя, как марсианин сует длинные зеленые пальцы в электрический вентилятор, чтобы посмотреть, как тот работает.
На обложке маминого диска огромными золотыми буквами написано ее новое имя – ЭРРА. Мне очень нравится фотография – она поет, закрыв глаза и вытянув вперед руки, как будто приглашает всех разделить ее радость. Звукозаписывающая компания организует концерт и по всему городу расклеены афиши с маминой фотографией.
Когда я просыпаюсь наутро после концерта, мама с Питером пьют на кухне шампанское – они не спали всю ночь.
– Жаль, что ты этого не видела, милая! – говорит мне Питер. – Потолок едва не обрушился от оваций!
Он поднимает меня и кружит, пока я не начинаю верещать, потом дает пригубить шампанского, потому что это воистину великий день.
Мама целует меня в лоб и торжественно объявляет:
– Это только начало, зайчонок, обещаю тебе.
Я завтракаю, а Питер дразнит маму из-за ее манеры трогать родинку во время пения (он, должно быть, слегка пьян, иначе не решился бы ее поддевать).
– Зачем ты так делаешь? – спрашивает он. – Это как камертон или что?
– Нет, – отвечает она, – это талисман. У Сэди есть… – Увидев ужас в моих глазах, мама умолкает.
– Что есть у Сэди? Родинка? – переспрашивает папа.
– Нет, нет, талисман, – небрежно бросает мама. – Маленький камешек в форме сердечка, она держит его при себе уже… как давно он у тебя, дорогая?
– Ну… три года, – отвечаю я, потрясенная тем, как легко солгала моя мать и как просто она позволила солгать мне.
– Три года! – повторяет мама. – Представляешь? Половину ее короткой жизни!
После завтрака я ищу в словаре слово «талисман» и нахожу его значение: вещь, «которую считают наделенной волшебной силой». Я бы хотела иметь талисман, но у меня его нет.
Проходит несколько дней, и папа улетает в Калифорнию – на целый месяц, чтобы организовать концерты Эрры. Я по нему скучаю, особенно по утрам в воскресенье, но это здорово – единолично владеть мамой. Иногда, укладывая меня спать, она устраивается рядом, и мы лежим в темноте и долго разговариваем. Однажды вечером я наконец решаюсь спросить, ктонаучил ее читать в пять лет, а она говорит:
– Знаешь, что? В «Мэдисон Сквер Гарден» дают классное представление на льду. Хочешь пойти?
Я осознаю, что мама ловко сменила тему, потому что не хочет отвечать, но вопрос повторить не решаюсь.
Декабрь, воскресный вечер, идет снег – крупные пушистые хлопья кружатся в воздухе, медленно опускаются на землю. Кажется, что кто-то заколдовал наш квартал и все погрузилось в сон, люди сидят по домам, снег бархатной шкуркой припорошил мусор и собачьи какашки. Фонари зажигают в четыре часа, я стою у окна, любуюсь красотой и покоем улицы Норфолк, и тут раздается звонок в дверь.
Пауза. Звонят снова. Я выхожу в гостиную и понимаю, что мама не слышит, потому что наливает себе ванну, отвернув краны на полную катушку. Я подхожу посмотреть, кто к нам заявился, и обнаруживаю дядьку, совершенно непохожего на друзей моих родителей. Он светловолосый, бледный и ужасно худой, щеки у него впалые, а челюсти так крепко сжаты, что на скулах ходят желваки. Я даже слегка пугаюсь и решаю сказать: «Вы, наверное, ошиблись адресом», но тут он спрашивает – громко и как-то неуверенно:
– Эрра дома?
Он иностранец – грассирует «р».Я не отвечаю: он мог вчера вечером влюбиться в маму на концерте – вот и заявился, а папы нет, уехал в Калифорнию.
– Эрра дома? – Он почти кричит, как будто куда-то опаздывает. – Скажите ей… скажите – это Лют.
Тут я пугаюсь всерьез. Что делать? Как поступить?
– Подождите.
Я захлопываю дверь перед носом у незнакомца, и он начинает дубасить по ней кулаком. Я стрелой лечу в ванную, где мама нежится в душистой пене.
– Мама!
У меня такой странный – придушенный – голос, что она мгновенно поворачивает голову:
– Что случилось, Сэди?
Пар от горячей воды окутывает меня, заполняет рот и нос, и я забываю все слова на свете, но потом собираю волю в кулак и лепечу:
– Там, за дверью, человек, он хочет тебя видеть. Сказал, что его зовут Лют.
– Люк? – переспрашивает мама, хмуря брови.
– Нет, не Люк: Лют.
Мама замирает и смотрит мне прямо в глаза, но я чувствую: она сейчас так же далеко, как в тот день, когда я рассказала, что меня лупят линейкой. Она опускает глаза и шепчет:
– Лют… – Я едва ее слышу, но вижу, что она прикасается правой рукой к родинке, как будто собирается петь. – Лют… Не может быть…
– Ктоэто, мама? – спрашиваю я тихим голосом. – Ты его знаешь? Он меня напугал, и я его не впустила.
– Ох, Сэди, ты не должна была! Иди, попроси его войти, усади поудобней и скажи, что я сейчас буду.
Я впускаю мужчину, вежливо произношу: «Садитесь, прошу вас», но он не понимает, и я кивком указываю на кресло. Он присаживается на краешек, не спуская глаз с двери ванной, а я отхожу, чтобы оказаться поближе к двери своей комнаты. Мама выходит из ванной: в длинном черном бархатном халате, с растрепанными влажными волосами она похожа на привидение или на Маленького Принца. Незнакомец поднимается, они стоят, смотрят друг на друга и молчат.
Никогда, даже в те годы, когда мы не жили вместе, она не выглядела такой чужой, ее словно загипнотизировали, заколдовали. Наконец она шепчет: «Янек», хотя мужчина сказал, что его зовут Лют, я совершенно ничего не понимаю, и мне это не нравится. Я кашляю, чтобы вывести маму из транса, заставить взять себя в руки, реагировать, как все нормальные люди («Ну надо же! Какая приятная неожиданность! Сколько лет… Хотите что-нибудь выпить? Может, чаю?») Но все получается совсем не так. Мама поворачивается ко мне – медленно, так медленно! – и глаза у нее стеклянные, как будто в нее вселилась душа покойника, она смотрит, но не видит, и говорит – нет, шепчет:
– Сэди… Иди в свою комнату, закрой дверь и сиди там, пока я тебя не позову.
Мамины слова звучат, как пощечина. Я отшатываюсь, но подчиняюсь и назло ей не только закрываю дверь, но еще и поворачиваю ключ в замке: пусть знает, какая у нее послушная дочь. Потом беру с кровати подушку, кладу ее на пол перед дверью, опускаюсь на колени, вынимаю ключ и наблюдаю.
Это напоминает театральное действо. Мама и незнакомец с минуту стоят неподвижно, не произнося ни слова, потом мама медленно, как лунатик, подходит к нему, он протягивает руки, и она кидается в его объятия, белокурый мужчина прижимает ее к груди, из глаз у него льются слезы. Мама тоже начинает плакать, а потом еще и смеяться. Я сражена – она обращается к мужчине на незнакомом языке. Это может быть идиш или немецкий, они произносят отрывистые фразы, и рыдают, и смеются, и тяжело дышат, не сводя глаз друг с друга.
Так они стоят несколько бесконечно долгих минут, и все это время на улице за моей спиной идет снег. Мама поднимает руки и гладит мужчину по лицу, произнося что-то вроде «мой Янек, мой Янек», но на самом деле она говорит не «мой», а «майн», и он тоже шепчет ее имя – настоящее, не Эрра, только на этом языке оно звучит немного иначе, вроде «Кристинка». Он тянет за пояс ее халата – тот подвязан оранжевым шнурком, узел развязывается, мужчина медленно раздвигает полы, обнажив мамину грудь, и начинает целовать ее в шею, мама откидывает голову назад, он целует ямочку, где бьется синяя жилка, а я смотрю, как завороженная, она что-то говорит на том самом языке, который выталкивает меня из их маленького мирка, и целует мужчину в губы, расстегивает ему рубашку, берет белокурую, как у Маленького Принца, голову в ладони, передергивает плечами, и халат падает на пол. Теперь мама совершенно обнажена, а мужчина совсем одет.
Она раскладывает диван-кровать ( ту самую, на которой каждую ночь спит с папой), а мужчина медленно раздевается – догола, и я вижу его стоящую и раскачивающуюся штуку.
Он становится коленями на кровать, и мама, к ужасу моему, делает то же и берет этов рот, а у меня к горлу подступает тошнота, и я покидаю свой пост у двери, сердце у меня бьется сильно-сильно, я пытаюсь успокоиться и смотрю, как кружатся под фонарем мохнатые снежинки. Когда я снова приникаю к замочной скважине, мама стоит на четвереньках спиной к незнакомцу, а он удерживает ее руки, как в наручниках, а сам входит и выходит, как Хилари с карликовым пуделем, только медленнее, и не скулит, а что-то тихо говорит на незнакомом языке. Мама выгибается дугой, из ее горла рвется какой-то немыслимый звук – то ли стон, то ли хрип, я зажигаю свет и ложусь в постель, дрожа всем телом. Враг просыпается, он силен, как никогда, он готов разрушить меня изнутри, окончательно уничтожить. «Сэди, – говорит он, – ты примешь то, что происходит, потому что ты плохая девочка и лгунья и твоя мать плохая и всегда врет, а ты унаследовала все ее пороки. Ты в полной моей власти, как и она, и будешь грешить всю жизнь. Я никогда не отпущу тебя, Сэди!» Меня трясет и колотит. «Вставай, – приказывает он. – Не шуми, не беспокой свою мамочку-шлюху, она тоже мне подчиняется, пусть предает мужа по полной программе – по полной, поняла? Давай, взбодрись, иди в шкаф, закрой за собой дверь, стукнись сто раз об стенку головой – и не забудь посчитать удары».
Я подчиняюсь. Меня трясет и тошнит при мысли о том, чем сейчас занималась, а может, и до сих пор занимается мама. Отсчитав сто ударов, я выхожу из шкафа. У меня кружится голова, и я ужасно хочу писать, но мама велела мне оставаться у себя, и я не знаю, как быть, ищу что-нибудь вместо горшка, но нахожу только стакан для цветных карандашей, выбрасываю их, спускаю брюки и трусы, присаживаюсь и пытаюсь пописать, струйка течет по полу, я вытираю лужу салфетками – но куда теперь девать эту гадость! – сегодня худший день в моей жизни, потому что я больше не смогу доверять моей маме.
Дальше я ничего не помню, потому что заснула и не знаю, сколько прошло времени, но потом мама начала стучать в дверь и звать: «Сэди… Сэди… Ужин готов!» – и я быстро кладу подушку на место, иначе мама узнает, что я шпионила.
– Зачем ты заперлась? – спрашивает она, замечает валяющиеся на полу грязные салфетки, понимает, в чем дело, и произносит: «Ох, детка, прости меня!» – но я не отвечаю. Иду в ванную мыть руки, оставив ее убираться, ведь это она во всем виновата, и я ее ненавижу.
За едой (макароны с сыром) я продолжаю дуться, а она не спрашивает, в чем дело, потому что и так все понимает, но потом все-таки кладет вилку и говорит:
– Сэди, для девочки твоего возраста ты очень многое понимаешь, но есть вещи, которых детям не понять, и я не обязана ничего тебе объяснять.
Я молчу, и она говорит:
– Не сердись, радость моя.
Мне хочется помучить ее еще немножко, и я продолжаю поглощать макароны, а потом спрашиваю:
– На каком языке вы разговаривали?
– Пытались говорить на немецком… – со смехом отвечает она. – Но мы оба почти все забыли – слишком много времени прошло.
– Где ты выучила немецкий? – спрашиваю я, боясь – сама не знаю почему – услышать ответ.
Она долго молчит. Тяжело вздыхает. Потом говорит:
– Ох, Сэди, понимаешь… когда-то давно я была немкой.
Она смотрит мне прямо в глаза, хотя мыслями витает где-то далеко, и произносит несколько странных слогов. Я спрашиваю:
– Что это было?
И она объясняет с тихим смешком:
– Немецкий алфавит задом наперед!
Я не знаю, что мне делать с этой информацией, у меня нет желания задавать новые вопросы, я просто хочу, чтобы этот день закончился, пусть бы он и вовсе не начинался, и Питер не уезжал бы в Калифорнию, и все это оказалось бы дурным сном. Я иду спать, но мозги у меня кипят, вопят и стонут, как лежащий внизу город, по которому носятся, завывая сиренами, машины «скорой помощи», пожарные и полицейские. Если мама – немка, значит, Крисвоти не ее родители, то есть мне они – не бабушка с дедушкой, но она-то – моямама, а раз моя мама – немка, то и я наполовину немка. «Теперь ты знаешь, в чем корень зла, – шепчет Враг, – ты живешь во лжи с того самого дня, как появилась на свет», – но вдруг она все-таки не моя мама…
На следующий день, на перемене, один мальчишка носится за мной и дразнится: «Еврейка! Еврейка!» – но я пообещала Питеру больше не играть в эти игры и пытаюсь убежать, спотыкаюсь, падаю, ударяюсь коленкой, бреду в медпункт, сестра снимает с меня чулок, и я вижу кровь и слышу, как Враг злобно хихикает и радуется: «Нацистская кровь, Сэди! Нацистская кровь!»








