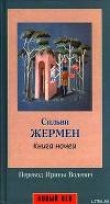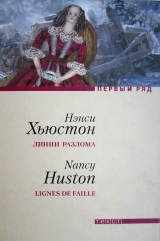
Текст книги "Линии разлома"
Автор книги: Нэнси Хьюстон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Грета дала Анабелле другое имя, такое нелепое, что я отказываюсь его произносить. Каждое утро она сажает куклу на свою подушку – идеально прямо, со сложенными на платье ручками. Она не велит мне ее трогать, но, стоит ей уйти играть с подружками, я «общаюсь» с Анабеллой: разговариваю, пою, изливаю душу, качаю, а потом возвращаю на место.
Бабушка издает пронзительный крик, от которого у меня кровь стынет в жилах. Это такое образное выражение, на самом деле у людей кровь теплая, она всегда одной и той же температуры, даже очень холодной зимой – такой, как эта, например, у немецких солдат кровь тоже горячая – если им не стреляют в грудь, тогда она вытекает и застывает красными сосульками на снегу. От бабушкиного крика моя кровь не превращается в лед, но с ней происходит что-то странное, я это чувствую в шее и запястьях. Мама зовет меня: «Кристина, иди скорей сюда!» – и я лечу вниз по лестнице, едва касаясь ногами ступеней.
Они стирали, и бак с кипятком опрокинулся бабушке на руки. Она больше не кричит, а тихонько стонет, даже поскуливает, как щенок, и раскачивается на стуле, стараясь ни к чему не прикасаться. Мама стоит перед ней – она в ужасе от случившегося, достала бинты и мазь, но не решается сделать перевязку. «Иди за врачом, Кристина, – приказывает она, не глядя на меня. – Беги, дорогая, беги со всех ног!»
Когда обжигаешься, кожа надувается, на ней образуются пузыри, они наполняются гноем, если их проколоть, гной вытекает, и это больно, но на месте старой кожи нарастает новая. Удивительнее всего, что все линии и отметины проявляются точно на прежних местах, поэтому преступники не могут избавиться от своих отпечатков, даже если нарочно сожгут кончики пальцев. Так говорит дедушка.
Врач перевязывает бабушку, и тут наверху раздаются дикие вопли.
Грета. О, нет…
Я оставила Анабеллу на своей кровати, и Грета нашла ее. Она врывается на кухню и, не глядя в мою сторону, начинает жаловаться маме. Та едва слушает, она слишком огорчена несчастьем с бабушкой. «Боже мой, Грета, – говорит она, чистя к обеду картошку, – неужели вы с Кристиной не можете играть с этой куклой вместе?» – «Нет, я не хочу! – отвечает Грета. – Не хочу, чтобы она трогала мою куклу своими грязными пальцами. Это частная собственность!» – «Ладно… – вздыхает мама. – Кристина, деточка, у тебя есть собственные игрушки, не бери без разрешения Гретины вещи».
Я горюю. Я предала Анабеллу, оставив ее на своей кровати, она, должно быть, из последних сил карабкалась по ножке, чтобы перебраться на Гретину подушку, но ей это не удалось, и все узнали наш секрет. Грета знает, что я люблю ее куклу, это дает ей власть надо мной, и я ужасно горюю.
Прочитав на ночь молитву, я переворачиваюсь на живот и рыдаю в подушку – очень тихо, чтобы не услышала Грета. Неожиданно она становится на коленки, высовывает голову из-за спинки кровати и что-то шипит. Я перестаю плакать и прислушиваюсь, ушки у меня на макушке (это просто выражение такое, уши стоят только у собак, лис, ну и кошек). Грета снова шипит по-змеиному – что-то насчет сестер, такой звук бывает, когда опускаешь горячий утюг на влажное белье. Слова Греты просачиваются в мой мозг, как яд, обжигают его: «Ты все равно не моя сестра».
Что она имеет в виду? Хочет сказать, что отрекается от меня? Что больше не считает меня сестрой? Мечтает, чтобы я перестала быть членом семьи?
А Грета все шипит, и каждое слово терзает меня все сильнее.
«Мама и папа – не твои родители. Бабушка и дедушка – не твои бабушка и дедушка. Мы – не твоя родная семья. Мама тебя не рожала, как Лотара и меня, где-то живет твоя другая мать, но она от тебя отказалась. Тебя удочерили.Я прекрасно помню день, когда тебя сюда привезли. Мне было четыре года, а тебе полтора. Это секрет, я обещала ничего тебе не рассказывать, но ты так ужасно себя вела, так что сама виновата. Я тебе не сестра. У нас с тобой нет ничего общего. Я бы хотела, чтобы ты убралась туда, откуда явилась, и никогда не возвращалась».
Она плюхается на кровать, пружины взвизгивают, и в комнате снова становится тихо. Я лежу на спине, глядя на темные прямоугольники штор, мысли разбегаются, мозг пытается защититься от услышанного. Я закатываю рукав пижамы и тихонько поглаживаю родинку, пока не засыпаю.
На следующее утро Грета будит меня поцелуем. Я вскакиваю.
– Завтрак готов, Кристина. Забудь все, что я тебе вчера наговорила. Я все придумала, потому что злилась из-за куклы. Прости, если обидела. Ну что, мы помирились? Послушай… – Я чувствую, как ей трудно быть со мной милой. – … я и правда не хочу, чтобы ты играла с… – она называет то смешное имя, которое дала своей кукле, – потому что ты маленькая и можешь испачкать воротничок или выбить глаза. Но если пообещаешь ничего не говорить маме, я расскажу тебе все, что мы проходим в школе. Договорились? Идет?
Голова у меня гудит, как котел, и кружится. Я киваю один-единственныйраз и замираю, чтобы голова не оторвалась и не покатилась по полу.
Я весь день пребываю в растрепанных чувствах. Мама просит меня помочь ей сложить простыни – обычно я обожаю это делать: мы беремся за углы простыни, я отхожу как можно дальше, мы встряхиваем простыню и складываем ее точно посредине, а потом повторяем все еще раз… Но сегодня утром я чувствую себя усталой, тело как будто затекло и онемело, у меня судорожные движения, и я не могу вымолвить ни слова.
– Моя маленькая Кристина сегодня грустит, – говорит мама, когда мы наконец заканчиваем с бельем. – Это из-за куклы?
Я киваю, мама опускается на стул, сажает меня на колени и прижимает к себе. Я чувствую нежную кожу ее рук и мягкость груди под халатом, она укачивает меня, я сую большой палец в рот, а другим поглаживаю родинку. Мне бы следовало чувствовать себя счастливой, но, если Грета не соврала, эта женщина – не моя мать, а если она не моя мать, то кто онаи что я здесь делаю?.
Я выхожу из дома, замираю по стойке «смирно» рядом с сугробом, потом падаю ничком, как будто мне выстрелили в спину, и лежу неподвижно, пока от снега не начинает гореть лицо, «ужасно холодно» превращается в «жутко горячо», так же бывает, когда случайно опускаешь ногу в слишком горячую воду: в первый момент кажется, что она ледяная. Я переворачиваюсь, сажусь в сугробе, зачерпываю пригоршню снега и тру лицо и глаза, пока они не начинают гореть.
Грета держит слово. Сразу после зимних каникул она делает домашние задания вместе со мной, помогает мне писать «по-письменному», рассказывает о славном тевтонском прошлом нашей страны, дает решать примеры на дроби и проценты. Я поглощаю ее знания и мгновенно все усваиваю, сразу даю правильные ответы, но никак не могу забыть ночной разговор. Я дала слово молчать – это был всего лишь кивок в темноте, но клятву нарушить нельзя – как договор, не с Россией, а с Италией или Японией, кивнул головой, значит, сказал «да», то есть пообещал, и я ничего не должна говорить маме.
С кем же мне поговорить? С бабушкой? Или с дедушкой? Я смотрю на них и в конце концов отказываюсь от мысли о разговоре. Они пока не оправились от потери внука, нельзя делать им еще больнее.
Я разглядываю их и постепенно начинаю видеть– не только дедушку с бабушкой, но и маму с Гретой. Я изучаю их лица, а после ужина закрываюсь в ванной и разглядываю свое отражение в зеркале. Кристина… как знать? У меня волосы белокурые, мама – светлая шатенка, как и Грета, но это ничего не доказывает, Лотар тоже был блондином. У папы волосы рыжеватые, глаза зеленые, у меня они голубые, но и у бабушки тоже. Ладно, забудем о глазах и цвете волос. Почему только у меня курносый нос? Почему лоб у Греты выше, чем у меня?
Я могу продолжать так часами.
Мне снятся кошмары. Я сижу на горшке, мимо проходит женщина в юбке и белых туфлях, она так сильно бьет меня по голове, что я падаю, горшок опрокидывается, и содержимое выливается на меня. Увидев, как я сижу в желтой луже, маленький мальчик покатывается со смеху и показывает на меня пальцем, другие дети окружают нас, они голые, у них текут сопли, они хныкают, их одеялки валяются на полу, они воняют мочой.
В другом сне я залезаю на стул, чтобы выглянуть в окно, и вижу в снегу ребенка, он дрожит, он плачет, кожа у него совсем синяя, его бросили умирать.
Кому задать вопрос? Не маме. Не бабушке и не дедушке. Наконец я решаюсь: задам вопрос нашей служанке Хельге. У Хельги золотисто-каштановые волосы, она сильная и крепкая, ходит в накрахмаленном фартуке и любит говорить, что провела в этой семье полжизни. Мама два года не платит Хельге жалованье – просто нет денег, но она осталась и выполняет всю грубую работу, пока мужчины воюют: колет дрова, сгребает снег, таскает тяжести, а мама и бабушка готовят еду и убирают дом. Хельга – старая дева. Однажды они с мамой пили чай, и я подслушала, как Хельга пожаловалась, что ей уже тридцать и она никогда не найдет мужа, потому что все молодые мужчины погибли на войне. Половина от тридцати – это пятнадцать, значит, Хельге было пятнадцать, когда она нанялась на работу, и должна помнить, как родились мы с Гретой.
Простой и невинный вопрос: Ты помнишь тот день, когда я родилась?
Время идет, а я пытаюсь собрать все свое мужество в кулак и сделать то, что задумала. Дедушка говорит, когда нам страшно, сердце начинает биться быстрее, потому что хочет нам помочь, оно думает – если предстоит драться или убегать, нам понадобится прилив энергии, вот и гонит кровь по жилам, готовя нас к штурму, но беда в том, что учащенное сердцебиение усиливает страх! Каждый раз, когда я застаю Хельгу одну и готовлюсь задать вопрос – Ну же, давай! Спроси! Не медли! – сердце только что из груди не выскакивает, руки и ноги леденеют, страх парализует меня, я начинаю напевать и делаю вид, будто случайно проходила мимо.
Наступает день, когда терпение у меня кончается, я должнаэто сделать. Хельга сидит в кресле-качалке перед изразцовой печкой и вяжет, Грета наверху, мама и бабушка на кухне, а дедушка слушает радио в своей комнате. Я крещусь, стоя в дверях, как будто собираюсь переступить порог церкви, складываю руки на груди, крепко-накрепко прижимаю большой палец к родинке и устраиваюсь на скамеечке у ног Хельги.
«Сделай это! – говорю я себе. – И следи за ее реакцией!»
– Хельга… – Я очень стараюсь, чтобы мой голос звучал беззаботно.
– Хммммм?..
– Ты помнишь тот день, когда я родилась? – Я сверлю ее взглядом.
Хельга не подскакивает, не краснеет, не начинает заикаться, она все так же смотрит на свое вязанье, но спицы на одно короткое мгновение замирают, и я получаю свой ответ.
Неподвижность не лжет.
Спицы снова мелькают в воздухе – одна петля изнаночная, одна в накид, Хельга вяжет носок, а я – инородное тело в этом доме.
– Конечно, помню, – отвечает она и снова умолкает, а я пытаюсь припереть ее к стенке и уличить во лжи.
– Ты уверена, что меня не удочерили?
– Удочерили? – повторяет она, чтобы выиграть время. – Скажи еще, что ты – найденыш! Дедушка рассказывал тебе слишком много сказок, малышка! – Она отталкивается ногой от пола, раскачав качалку, и добавляет: – Ладно, беги! Помоги маме готовить ужин.
Я отправляюсь – не на кухню, а в туалет: я получила ответ, получила ответ, я извергаю все содержимое желудка, а когда извергать больше нечего, спускаю воду, плюхаюсь на сиденье и извергаю оставшееся с другого конца. Жидкие «отходы» вытекают из моего тела, я обливаюсь потом, сидя на толчке, и воображаю лежащих на спине и вопящих во все горло младенцев в обкаканных пеленках, и детишек постарше – они ползут по земле, руки и лица измазаны какашками, и малышей двух-трех лет, несущих горшки, доверху наполненные письками и какашками, они хотят их вылить, но эта гадость выплескивается им на ноги. Я вижу, как женщины в белых юбках бегают между детьми и раздают оплеухи налево и направо, вижу тяжело ступающие ноги в белых туфлях, изящные голые ножки с накрашенными ногтями, розовые шелковые оборки, белокурые косы и локоны, водопадом ниспадающие на плечи, вижу круглые и прекрасные, как у цвингеровских нимф, груди, они колышатся и сочатся молоком, вижу десятки детских головок – они похожи на головы ангелов наверху колонн, – приникших губами к соскам и жадно сосущих молоко, вижу белые халаты, прикрывающие огромные женские животы, слышу крики женщин, вопли младенцев, а еще – грубый мужской голос. Наконец я слезаю с унитаза, тяну за цепочку и снова склоняюсь над темным, дурно пахнущим фаянсовым зевом, меня больше не рвет, но тело сотрясают приступы тошноты, на лбу выступает ледяной пот.
Выйдя из туалета, я сталкиваюсь в коридоре с мамой – она несет стопку тарелок в столовую. Свет в коридоре тусклый, но она замечает, какая я бледная, и ставит тарелки на пол.
– Маленькая моя, что случилось? – спрашивает она. – Ты не заболела?
Я прижимаюсь к ней, она забывает о тарелках, берет меня на руки и несет по лестнице в мою комнату, раздевает и помогает надеть пижаму, шепчет нежные слова утешения: «У тебя жар, тебе нужно отдохнуть, сейчас я напою тебя отваром ромашки с медом».
Проходит несколько дней. Я витаю в облаках. Вообще-то люди так говорят, когда они счастливы, а со мной все наоборот – горе делает меня легкой, как клубок тумана, который вот-вот развеет солнце. Никто меня не видит, и я глажу свою родинку, но это не успокаивает притаившуюся под ложечкой боль.
Кто подарил мне мою родинку?
По ночам я так боюсь кошмаров с младенцами, что стараюсь не заснуть и тихонько напеваю. Грета велит мне умолкнуть. Анабелла улыбается с верхней полки и говорит, что все будет хорошо и не нужно беспокоиться, но я ничего не могу поделать и беспокоюсь.
Дедушка учит меня новой песне об эдельвейсах. Она такая красивая, что я очень быстро ее заучиваю. Дедушка целует меня в лоб и говорит: «У тебя одной в семье абсолютный слух».
Кто подарил мне мой голос?
Суббота, полдень. Семья сидит за столом. Молитва прочитана, мы подносим ко рту первую ложку супа, и вдруг мама откашливается и говорит:
– Дорогие мои, я должна сообщить вам что-то очень важное, слушайте внимательно.
Мы поднимаем глаза и после мгновенной задержки кладем ложки.
За столом воцаряется молчание. У меня бурчит в животе, потому что я хочу есть, и Грета дает мне тычка в ребра.
– Ну же, давай, – подбадривает маму дедушка. – Ты должна им рассказать.
– Так вот… Грета… Кристина… Сегодня вечером к нам… Сегодня у нас появится новый член семьи. Мальчик, его зовут Иоганн. Отец в курсе. Они познакомятся, когда он приедет в отпуск. Иоганн потерял родителей и остался совсем один на свете, он теперь сирота. И я… предложила… сказала, что возьму его к нам и воспитаю, как собственного сына. Никто не займет место Лотара в наших сердцах, но вы должны относиться к нему, как к родному брату.
Я не спускаю глаз с мамы, поворачиваю голову влево и встречаю многозначительный взгляд Греты. Это длится не дольше секунды, но действует на меня, как удар хлыста: «Видишь? – как будто говорит Грета. – Это происходит во второй раз. Первой была ты». Потом она склоняется над тарелкой и начинает громко дуть на бульон. Вообще-то шумно есть за столом не полагается, но на суп этот запрет не распространяется, иначе можно обжечь язык и нёбо.
– Сколько ему лет? – спрашиваю я.
– Десять, – отвечает мама. – Он на год старше Греты.
Я слушаю звяканье ложек по тарелкам.
– Когда он приедет?
– Я уже сказала – сегодня, во второй половине дня.
Вторая половина дня начинается ровно в полдень, а на часах уже половина первого, значит, это может случиться немедленно, или через час, или через два, три, четыре… неведение и ожидание убивают меня. Вторая половина дня растягивается до бесконечности. Грета идет кататься на санках с подругами, а я остаюсь с дедушкой. Два часа. Стрелки часов тикают, подгоняя время пинками по заднице: «Ну же, давай! Двигайся вперед!»
Я вот-вот лопну от любопытства.
Когда дверной звонок заливается наконец высокой нотой соль, я тихонько распеваю на реи си-бемольимя Иоганн.
В прихожей двое мужчин – они привезли Иоганна – топают ногами на половичке, стряхивая снег, и я не вижу его за их высокими спинами. Они проходят в гостиную, и мама склоняется над столом, чтобы подписать бумаги. Они о чем-то очень серьезно разговаривают, но я не улавливаю смысла, потом щелкают каблуками, прощаются – «Хайль, Гитлер!», «Хайль, Гитлер!», «Хайль, Гитлер!», и дверь за ними наконец-то захлопывается: свершилось!
– Кристина, иди познакомься с братом!
С этими словами мама подходит к мальчику, чтобы помочь ему раздеться, но он резко отстраняется, сбрасывает пальто и вешает его на крючок. Я подхожу и тихо бормочу: «Здравствуй, Иоганн!» Боже, как бы мне хотелось пропеть эти слова: «Здравствуй, Иоганн!» – но он не отвечает. Глаза у него открыты и в то же время закрыты, они отгораживают Иоганна от мира непроницаемой стеной. Он высокий и выглядит старше десяти лет, взгляд синих глаз непроницаем, челюсти сжаты. Я вижу, как под гладкой кожей щек ходят желваки, и говорю себе: он красивый, этот мой новоиспеченный брат.
Грета возвращается с гулянья, щеки у нее разрумянились, глаза блестят. Бабушка готовит нам горячий шоколад, и вся семья собирается на кухне. Мы поднимаем чашки за нового члена семьи, но Иоганн сидит прямо и неподвижно, молчит и не улыбается. Мама и бабушка переглядываются, шоколад плавно перетекает из горла в желудок, Хельга несет чемодан Иоганна в его комнату (раньше эта была спальня Лотара), и он, не говоря ни слова, идет за ней следом, всем своим видом выражая неприязненную настороженность.
Дедушка садится за пианино и подзывает меня, чтобы я спела. Я стараюсь, чтобы мой голос звучал тепло и радостно, надеясь, что Иоганн услышит его в своей комнате и успокоится, расслабится. Он потрясен смертью родителей, мы для него – незнакомцы, но, когда он выходит к ужину, я понимаю, что ничего не вышло: челюсти по-прежнему сжаты, глаза – не глаза, а заслонки, молчание непробиваемо.
После молитвы (он опускает голову, но не отвечает «Аминь») мама пробует осторожно расспросить его и краснеет, когда он не отвечает. Она хочет поговорить с Гретой, но сбивается. Иоганн принес в дом ощущение неловкости, он словно наказывает нас своим молчанием. Разговор затухает, и мы не можем вспомнить, о чем обычно говорили.
После ужина все собираются у печки, но я не забираюсь к маме на колени и не сосу палец – не хочу, чтобы Иоганн считал меня несмышленой малышкой. Дедушка рассказывает нам сказку о бременских музыкантах, и мы смеемся, слушая, как кот, пес, петух и осел навели страх на разбойника, но Иоганн смотрит куда-то в пустоту, и нам уже не так смешно и совсем не весело.
Утром в школе происходит то же самое: учительница представляет нового ученика классу, произносит короткую приветственную речь, а он стоит, как оловянный солдатик – непроницаемый, недоступный, безразличный. Он выполняет все, что ему велят, выдержав небольшую паузу, чтобы все поняли: он сам так решил, но отказывается отвечать на вопросы, читать вслух и не произносит ни единого слова.
Никто его не ругает и не наказывает.
Это невероятно. Мы сироты: я – музыка, он – молчание.О мальчик, сцепивший зубы, слышишь ли ты мое пение? Отныне все мои песни будут звучать только для тебя.
У нас кончились дрова, а Хельга заболела, у нее жар, и она не встает с постели.
– Мне нужна твоя помощь, Иоганн, – говорит мама. – Сегодня ты – самый сильный, и тебе придется пойти за дровами. Возьми санки, Кристина покажет тебе дорогу. Закутайтесь хорошенько, на улице настоящая пурга. – Она протягивает ему деньги и добавляет с улыбкой: – Не забудь принести мне сдачу.
В коридоре мы встречаем госпожу Веберн – раньше ее «Хайль, Гитлер!» звучало без должного восторга. Она не здоровается, не смотрит на нас и шипит сквозь зубы, поворачивая ключ в замке: «Надо же, как растет эта семья!» К счастью, Иоганн ее не слышит.
Мы идем рука об руку, и мне кажется, что на улице не так уж и холодно. Снег падает крупными хлопьями, цепляется к нашим шапкам и шарфам, тает на щеках, задерживается на ресницах… Я должна воспользоваться нежданной удачей. Торговец дровами живет далеко за сквером, дорога туда займет не меньше часа. И я начинаю разговор.
– Все снежинки – разные, – говорю я. – Они похожи на звезды, хотя звезды – не холодные и не крошечные, они обжигающие и огромные, это далекие солнца, правда, удивительно?
Он не отвечает.
– Иоганн, – не сдаюсь я, – ты, конечно, считаешь, что я девчонка и не заслуживаю разговора, но Грета учит меня всему, что вы проходите в классе, у меня прекрасная память и абсолютный слух.
Никакого эффекта.
– Иоганн, я понимаю, что ты пока не привык к нашей семье, но мне ты можешь доверять. Потому что я тебе и вправду как сестра… меня… я тоже приемная.
Ага. Он посмотрел на меня. В первый раз действительнопосмотрел. Сердце начинает колотиться как сумасшедшее, я ускоряю шаг и торопливо добавляю:
– Я им тоже неродная.
Иоганн смотрит прямо перед собой, но я вижу, что он чуточку смягчился, и – о, чудо! – слышу его вопрос:
– Это правда?
Слова звучат странно из-за акцента. Я киваю. От облегчения, что у меня теперь есть с кем поговорить по душам, я едва не плачу, не от печали – от счастья.
– Хорошо хоть, что мы попали в милую семью, – говорю я.
– Меня не усыновляли, – отвечает Иоганн, и это звучит смешно, я сама видела, как мама подписывала бумаги, но молчу, чтобы он продолжал.
– Как тебя зовут?
Вопрос Иоганна ошарашивает меня.
– Меня зовут Кристина!
– Я хочу знать твое настоящее – прежнее – имя!
Не знаю, что он имел в виду, но тут мы подошли к дровяной лавке, и я почувствовала, что Иоганн снова замкнулся в молчании, как черепаха, прячущая голову и лапки под панцирь. Когда я стучу в дверь, он бросает на меня красноречивый взгляд: «Говорить будешь ты». Тоненьким застенчивым голоском я объясняю, зачем мы пришли, протягиваю продавцу деньги, беру сдачу, и мы выходим.
На улице стало еще холоднее, день клонится к закату. Пустые санки везти было легко, а теперь Иоганн тянет их с трудом, он сейчас похож на темнокожих рабов, поддерживающих балконы Цвингеровского дворца, но он живой, ему тяжело, и сил на разговоры у него нет. Он задыхается, и в сквере мы останавливаемся передохнуть.
С другого конца, от карусели, доносится тихая музыка.
Иоганн поворачивается ко мне и говорит на своем странном, неуверенном немецком:
– Хочешь прокатиться, Лже-Кристина?
– Мы не можем, – со смехом отвечаю я. – Это стоит денег.
– А мы богачи! – С этими словами Иоганн достает из кармана сдачу и протягивает мне сверкающее сокровище.
– Ты что, шутишь, Иоганн?
– «Ты шутишь, Иоганн?» – передразнивает он. – Нет, не шучу, и я – не Иоганн. Ну же, соглашайся, фрейлейн Не-Знаю-Как-Вас-Там! – Он хватает меня за руку.
Карусель не крутится, музыка больше не звучит, аттракцион остановлен до утра, матери уводят детей домой.
– Мы не можем, Иоганн, – говорю я. – Деньги не наши, и вообще, они закрываются…
Но Иоганн тащит меня к окошечку кассы и шепчет на ухо: «Давай!» – и я спрашиваю голосом перепуганной мышки: «Можно нам покататься?»
Седой служитель с усталым морщинистым лицом собирается захлопнуть окошечко, но перед ним двое детей, они стоят, держась за руки, идет снег, наступает ночь, страна вот-вот проиграет войну…
– Что ж, – говорит он, – кругом больше, кругом меньше… Ладно, только быстро!
Иоганн протягивает ему монетки, но карусельщик машет рукой:
– Уберите, уберите, касса уже закрыта. Ну, залезайте: два круга – и по домам.
Музыка звучит оглушительно громко, старик подхватывает меня и сажает на белую лошадку, а Иоганн, к моему удивлению, садится сзади, обнимает меня, берет в руки уздечку, карусель набирает скорость, и мы кружимся под музыку, с каждым мгновением становится все холоднее и темнее, но мое тело горит огнем. Я хохочу, и ледяной ветер разносит мой смех, лошадки поднимаются и опускаются, огоньки мерцают, музыка веселит душу. Два круга подходят к концу, я машу рукой карусельщику в знак благодарности, он кивает в ответ, как будто у него не осталось сил на слова, как будто единственное, на что он еще способен, это осчастливить двух детей, и он дает нам проехаться еще раз, я кричу «Спасибо!», он кивает и не останавливает карусель, круг, еще один, и еще, и я благодарю, а он кивает, и так может продолжаться до бесконечности, зачем останавливаться…
Сколько раз могут повторяться одни и те же вещи, можно ли умереть, снова и снова повторяя одну и ту же фразу – гадкая маленькая идиотка гадкая маленькая идиотка гадкая маленькая идиотка гадкая маленькая идиотка– пока она не утратит свой смысл?
В тот момент, когда мы подходим к дому – мама еще не накричала на нас за опоздание, не наказала Иоганна за свой испуг и не послала его спать без ужина, еще не завыла сирена воздушной тревоги, отправив всю семью в погреб босиком и в пижамах, еще не погас свет в моей душе и не умолкла музыка, звучавшая в сердце, пока мы с Иоганном шли по темным улицам, – он вдруг забывает о санках, берет меня за плечи и поворачивает к себе.
Приложив палец к губам, он медленно произносит на своем странном немецком:
– Не Иоганн – Янек. Не немец – поляк. Не приемный – похищенный. Мои родители живы, они в Щецине. Меня похитили, дорогая Лже-Кристина. Как и тебя.
С этого дня у меня начинается новая, полная тайн и умолчаний, жизнь: мы с Янеком-Иоганном ведем себя, как заговорщики. Палец у губ означал: отныне никто не должен знать, что нас связывает.
Почти каждый день мы улучаем несколько минут и продолжаем исследовать собственное происхождение. Мы разговариваем очень тихо, и шепот придает особый смысл каждому слову. Я узнаю, что по-польски мое имя пишется иначе, чем по-немецки, а уменьшительное от него – Крыся. Янек произносит его так: «Кррры-ся» – и мне становится щекотно в животе. Он говорит, что я больше никогда, ни за что на свете не должна кричать «Хайль, Гитлер!», а перед другими нужно притворяться, беззвучно открывая рот. Янек учит, что немцы – наши враги, что все в этой семье наши враги, хоть и относятся к нам по-доброму, он считает, что после войны я вернусь в свою родную семью и будет ужасно, если я не смогу разговаривать на родном языке, вот и учит меня главным словам: мать, отец, брат, сестра, я люблю тебя, сон, песня…
– Ты совсем ничего не помнишь? – спрашивает он.
– Совсем.
– Даже то, как называла мать мамусей?
– Нет, но… начинаю вспоминать.
– Наверное, они похитили тебя совсем крошкой, когда ты еще не умела говорить. Должно быть, тебя вырвали из рук матери. Я не раз видел, как они это делали, Крыся…
Я запоминаю каждое польское слово, которому учит меня Янек, а сама деликатно, но настойчиво исправляю его немецкий. Он делает успехи, но по-прежнему молчит – и дома, за столом, и в школе.
Мы сидим на дне коридорного стенного шкафа – он такой большой, что похож на комнату, с потолка даже свисает электрическая лампочка.
– В наших документах все неправда, – говорит Иоганн. – Имя, возраст, место рождения.
– Возраст?
– Мой, во всяком случае. Меня забрали в два года.
– Значит, тебе двенадцать?
– Да.
– Ты вдвое меня старше!
– И вдвое злее. Ты тоже должна быть в ярости, Крыся: настоящие родители много лет ищут тебя, плачут, ломают голову, где ты можешь быть. Они живут, погрузившись в пучину отчаяния.
– Ты так думаешь?
– Уверен.
– Кто тебя похитил?
– Темные сестры.
– Что еще за сестры?
Янек рассказывает, как на улицах Щецина появились жуткие «вороны» – женщины в строгих коричневых платьях с белыми манжетами и воротником, этакие Анабеллы из страшных снов. Они караулили у школ, ждали, когда дети выйдут на большую перемену, изучали их, заговаривали с теми, кто им подходил, угощали конфетами, улыбались.
– Как они тебя выбрали?
Иоганн отворачивается, и я вижу, как у него напряглось лицо.
– Нас, Кристинка. Они насвыбирают, потому что мы похожи на немцев. Потому что у нас белокурые волосы, голубые глаза и очень белая кожа.
– Это не может быть правдой.
– Почему?
– У меня кожа не…
Я придвигаюсь ближе, закатываю рукав и показываю Янеку свою родинку. Сердце у меня бешено колотится.
– Это знак, что я не такая, как все. Я пою, потому что у меня есть эта родинка. Когда я до нее дотрагиваюсь, могу погрузиться в собственную душу, забрать оттуда всю красоту и вылететь, как птичка, через рот. Можешь потрогать, если хочешь.
Иоганн осторожно кладет два пальца на родинку и внезапно хмурит брови. Я напрягаюсь. Неужели моя тайная отметина показалась ему уродством?
– В чем дело?
– Нет, нет, ничего… Просто… я удивился. Тамя видел детей, которых отсылали за меньшее.
– Отсылали?..
– Расскажи еще о себе, Кристинка. Ты любишь петь, это мне известно, а чем еще тебе нравится заниматься?
– Есть. Особенно все жирное. Когда вырасту, буду Толстой Дамой из цирка.
Он весело хохочет, глядя на мои ноги-спички, и говорит:
– Тебе придется потрудиться!
Внезапно дверь шкафа распахивается. В коридоре стоит Грета, вид у нее оскорбленно-торжествующий. Она слышала, как мы шептались. Иоганн никогда, ни разу за все время, что живет в доме, не сказал ей ни единого слова, хотя по возрасту она ему ближе. Да как он смеет интересоваться такой малявкой, как Кристина, когда рядом с ним за столом сидит прелестная девочка! Грета просто умирает от зависти и ревности. Она хватает меня за руку, тащит в нашу комнату и запирает дверь.
– Рассказывай, что вы там делали, – шипит она, – или я все скажу маме!
– Нечего рассказывать, Грета, – отвечаю я (новый язык, новообретенный брат и новая национальность придают мне сил и уверенности в себе).
– Вы шептались, я слышала!
– Шептаться – не преступление…
– Но это значит, что Иоганн вовсе не немой! Так почему же он с нами не разговаривает?
– Спроси у него.
– Он мне не ответит.
– Это меня не касается.
– Знаешь, что я думаю, Кристина?
– Что? – Я поворачиваюсь к Грете.
– А вот что!
Она плюет мне в лицо.
Я ни за что на свете не отказалась бы от наших с Иоганном тайных бесед, расцвеченных теперь польскими словами. Хорошо – это добже, да – так,а нет – жьяден, «Я ваша дочь» – « Естем вашим цурка»…Я хочу всему научиться.
– Темные монахини сажают отобранных детей в поезд, отвозят их в Калиш, а там передают мужчинам в белых халатах, может, врачам, а может, и нет. Они разделяют мальчиков и девочек…
– А потом?
– Потом они нас обмеряют.
– Рост?
– Нет. Да. Все. Раздевают догола, чтобы обмерить все части тела. Голову, уши, нос. Ноги, руки, плечи. Пальцы рук. Пальцы ног. Угол между носом и лбом. Между подбородком и челюстью. Расстояние между бровями. Тех, у кого брови растут слишком близко, отсылают назад. И тех, у кого есть родинка… или если нос слишком большой, а кое-чтослишком маленькое, или ноги не так вывернуты. Следом они проверяют наше здоровье, наши знания, нашу сообразительность. Дают один тест за другим. Всех, кто набирает мало баллов, тоже отсылают.