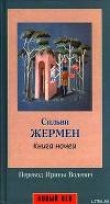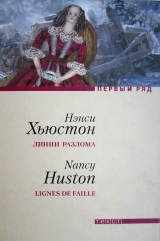
Текст книги "Линии разлома"
Автор книги: Нэнси Хьюстон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Этот принцип кажется мне превосходным, а вот с идеей Иисуса, что, если тебя ударят по щеке, надо подставить другую, не пытаясь защищаться, я менее всего склонен согласиться. Будь я на его месте, уж конечно не позволил бы римским воинам связать себе руки за спиной, нахлобучить на голову терновый венец, плевать в лицо и стегать бичами.
По-моему, в той ситуации Иисус совсем оплошал, и это прямой дорогой довело его до распятия.
«Никто не имеет права поднять на тебя руку, Солли, – говорила мама, глядя мне прямо в глаза. – Никто на свете, ты меня понимаешь?» И я кивал, думая про себя: мне повезло, что я протестант, ведь протестантским пасторам (как и еврейским раввинам) можно жениться и трахать своих жен, и они к тому же не так часто злоупотребляют своим положением в отношении маленьких мальчиков, как это делают католические священники, если верить нынешним теленовостям.
Тем не менее однажды случилось так, что один человек посмел нарушить это правило насчет телесного наказания – дедуля Уильямс, отец моей мамы, но меня бы удивило, если бы он предпринял вторую подобную попытку. Прошлым летом мы гостили у них в Сиэтле, хотя это (гостить у людей) само по себе уже проблема из-за еды: никто не умеет готовить так, как я люблю, а бабуля Уильямс отказалась изменить своим кулинарным обычаям, так что маме пришлось срочно бежать за покупками для меня.
После полудня мама с папой пошли в кино, а дедуля повел меня в сквер. Они никогда не слышали об игре в «Бейз», и, когда мама им ее описала, он сказал, фыркнув: «Посмотрим! Пора ему хлебнуть немножко реальности, этому шалопаю!» Он принес настоящую биту, настоящий мяч и настоящую перчатку; хоть я уже был сильным и очень ловким для своих лет, эта бита в сравнении с пластиковой весила целую тонну. Я встал в положенное место, дедуля – на питчерской горке, и оттуда на меня без остановки посыпались мячи, невероятно быстрые и коварные, а я мазал снова и снова. «Первый мяч! – кричал он. – Второй мяч! Третий мяч! Выбыл!» Тогда я в бешенстве запустил в него битой. Его даже не зацепило, но, когда он понял, что я сделал, у него прямо глаза на лоб полезли, и он заорал: «Ты что, тряхнутый?» Так он мне сказал, и это меня сильно задело, ведь отсюда недалеко до слова «трахаться», а его не подобает употреблять в присутствии ребенка. Он поднял биту, вернул ее мне и сказал со строгим видом: «Послушай, Сол. Я знаю, ты привык к пластиковым битам, но деревянные биты – это совсем другое, они могут быть очень опасны. Поэтому ты никогда больше не должен так делать, понятно? Договорились?»
Я сказал «Ладно», хотя на самом деле был совсем не доволен тем, как провожу время со своим родным дедом, который унизил меня, совершенно не приняв в расчет, что я – Номер Первый и ему вместо того, чтобы говорить со мной таким снисходительным тоном, следовало кричать «Браво, Сол! Хорошо сыграно!», как это делала мама. Мы снова начали играть, но дедуля продолжал подавать мне эти зловредные закрученные мячи, а поскольку я был обижен, то битой орудовал еще менее ловко, чем до того. «Первый удар! Второй удар! Третий удар! Выбыл!» – объявил он, и, когда я во второй раз услышал это «Выбыл!», мои глаза заволокла багровая пелена и я опять швырнул в него битой, изо всех сил, ни капли не заботясь о том, куда она может попасть. Она угодила ему по ноге. Вряд ли ему было уж очень больно, но его заело. Подойдя ко мне большими шагами, он схватил меня за руку, поднял так, что я практически повис над землей, и потом – шлеп, шлеп, шлеп! – трижды ударил меня ладонью по заду.
Я был потрясен так, что словами не выразить. Жгучая боль хлынула из ягодиц прямиком в мои жилы, это было, как будто к бензину спичку поднесли, все во мне воспламенилось, я стал извергаться, как вулкан, изрыгая вопли ярости и негодования, ибо никто не вправе поднять руку на Соломона. Дедуля был ошеломлен, столкнувшись с проблемой, которую создал своим «шлеп, шлеп, шлеп», но я на этом останавливаться не собирался, я хотел, чтобы этот случай раз и навсегда послужил ему уроком. Когда поехали домой, я проорал всю дорогу в автомобиле, а когда он открыл дверцу, чтобы отвести меня в дом, завопил так, что соседи, наверно, решили, что меня убивают. Обеспокоенные расспросы бабули, ее утешительные слова и заботы были напрасны, и, когда час спустя мама с папой вернулись из кино, я все еще ревел.
В совершеннейшей панике мама бросилась ко мне, подхватила меня на руки, и я умолк.
– Солли, Солли! Что стряслось?
Когда я ей сказал, что ее отец меня отшлепал, я почувствовал, как разом напряглось все ее тело, и уверился в том, что дедуле придется горько пожалеть о своей выходке.
– А ты подставил вторую ягодицу? – осведомился папа.
– Рэндл! – воскликнула мама. – Здесь нет ничего смешного!
Мы собрали вещи и уехали, даже не поужинав. Пока папа вез нас обратно в Калифорнию, мама попыталась объяснить мне поведение своего родителя, так как не хотела, чтобы я возненавидел его до конца моих дней. «У него устаревшие представления о воспитании, – говорила она. – Его самого воспитали так, он в своем детстве никогда не знал другого отношения, так что его нужно простить. И потом, не забывай, нас в доме было шестеро детей! Если бы он не следил за дисциплиной, только представь, какой там был бы кавардак!»
Тем не менее полагаю, что мама ни словом более не обмолвилась со своим отцом, прежде чем он написал ей письмо, прося прощения и торжественно поклявшись, что никогда больше меня и пальцем не тронет.
Я ВСЕМОГУЩ.
Та история случилась прошлым летом, когда мне было пять с половиной. И касалась она материнской стороны семейства. Теперь мне шесть с половиной, сегодня Вербное воскресенье (это когда Иисус вернулся в Иерусалим верхом на осле, что, честно говоря, было не очень-то умно), и мы выполняем тягостную родственную повинность с отцовской стороны. Вчера вечером из Нью-Йорка приехала ПРА. Мой отец обожает свою бабулю Эрру, но моя мать к ней относится сдержанно, потому что она, во-первых, курит, во-вторых, не ходит в церковь.
Когда я вышел на веранду, она уже была там, сидела в плетеном из светлых прутьев кресле-качалке с книгой в одной руке и маленькой сигарой в другой; ее взъерошенные волосы распадались на тонкие седые прядки, прямо-таки притягивающие к себе солнечные лучи.
Мне не нравится, что она уже встала.
Я всегда хочу вставать раньше всех, быть тем, кто первым приветствует день и начинает его творить.
– Здравствуй, милый Сол, – говорит она, мельком взглянув на часы и засовывая их в книгу вместо закладки. – Скажите пожалуйста, какая ранняя пташка! Ведь сейчас только семь часов! У меня-то хоть есть оправдание – другой часовой пояс…
Я не удостаиваю ее ответом. Она мне мешает, тормозит циркуляцию мыслей. Так и хочется взять телевизионный пульт и выключить ее.
– Иди-ка сюда, смотри, что я тебе покажу, – говорит она, понижая голос и жестом предлагая мне приблизиться.
Я медленно тащусь через веранду, нарочито волоча ноги. Главное, пусть не воображает, будто меня интересует то, что она хочет показать.
– Смотри! – посадив меня к себе на колени, она тычет пальцем в гибискус, растущий в саду напротив. – Видишь? Не правда ли, какая прелесть?
Я смотрю и вдруг замечаю что-то, трепещущее в воздухе среди ярко-алых лепестков. Колибри! Но я, как правило, не люблю, когда люди привлекают мое внимание к чему-либо. Если бы ПРА здесь не было, я бы увидел колибри сам, один.
– И туда взгляни, сердце мое! Смотри: диадема!
Поневоле гляжу, щурясь от слепящих жарких лучей солнца, всходящего между двумя домами напротив, и вижу сотканную между перекладинами ограды паутину, она переливается тысячами бриллиантов росы. Вот и это тоже я бы увидел, если бы она дала мне время, не приперлась сюда раньше меня, она же считает делом чести первой все замечать, ей только бы продемонстрировать превосходство надо мной. Она обнимает меня и начинает легонько покачивать в своем кресле, напевая «Посмотри на крошку-паука», как будто мне два года. Согласен, голос у нее красивый, даже когда она поет идиотские считалочки, но мне все равно не по себе в ее объятиях, по-моему, она нечистая. Ее тело источает едкий запах пота, дыма и старости. Она что, даже не приняла душ вчера вечером, когда приехала? Чтобы исполнить предначертания Господа, я должен быть чистым – что-что, а это я знаю твердо. Итак, я соскальзываю с ее колен и торопливо сбегаю с крыльца веранды, будто меня ждут неотложные дела в моей песочнице в дальнем углу сада.
В честь прибытия ПРА и потому, что в церковь идти еще рано, мама готовит необыкновенный завтрак с блинами и колбасками, со сбитыми яйцами и кленовым сиропом, с фруктовым салатом, кофе и апельсиновым соком. Сидя у стола, мы беремся за руки, склоняем головы, и мама читает молитву: «За эти яства и за все Твои божественные щедроты, Господи, мы воздаем Тебе хвалу». Все в один голос произносят «Аминь», кроме ПРА – она не говорит ни слова. Потом папа и мама целуют меня и мне аплодируют, это семейный обычай, он возник в тот день, когда я, совсем еще младенец, впервые сказал «Аминь». С тех пор это стало традицией и теперь является неотъемлемой частью застольной церемонии; для меня ясно, что Бога и Сола чествуют одновременно.
ПРА удивляется, видя, что я ничего не съел, кроме единственного маленького блинчика, порезанного мамой на крохотные кусочки, которые я всосал один за другим, медленно возя их языком между губами и деснами вместо того, чтобы прожевать, и часто между двумя глотками еще уходил в свою комнату, чтобы побыть там немножко.
– Ты не хочешь посидеть с нами, Сол? – спросила она, когда я направился к лестнице.
– Нет-нет, – поспешно ответила вместо меня мама. – У Сола всегда были свои особенности в том, что касается еды. Не стоит обращать внимание на его приходы и уходы, он вполне здоров. Мы делаем все, чтобы у него был налаженный режим.
– Я об этом и не беспокоилась, – возразила ПРА. – Мне просто хотелось насладиться его обществом.
– В смысле пищи он трудный случай, – вмешался папа. – А поскольку Тэсс потакает всем его капризам, улучшений и ждать не приходится.
– Рэндл, – сказала мама. – По-твоему, это очень любезно – нападать на меня так в присутствии… третьих лиц?
В этот момент я закрыл за собой дверь детской, а когда вернулся на кухню, они уже сменили тему, теперь речь шла о моей родинке. Мама, видимо, рассказала, что мы собираемся будущим летом удалить ее, и ПРА была неприятно поражена.
– Хирургическое вмешательство? – Она положила вилку на стол. – В шесть лет? Но зачем?
– Дорогая Эрра, – сказала мама с выражением кроткого терпения на лице, – мы просмотрели почти все сайты Интернета, посвященные врожденным пигментным невусам, и, поверьте, есть целый ряд серьезных причин, чтобы удалить это именно теперь.
– Но, Рэндл, – ПРА обернулась к моему отцу. – Ты не можешь… Неужели ты ей позволишь это сделать? А твоя летучая мышка? Как бы тебе понравилось, если бы твоя мать взяла и удалила ее?
…Это у моего отца было в детстве чем-то вроде игры: свою родинку на правом плече он воображал пушистой летучей мышью, которая нашептывала ему на ухо всякие советы. У самой ПРА тоже есть такая на сгибе левой руки – в том и смысл слова «родинка», что это в роду, переходит из поколения в поколение, появляясь на разных частях тела, хотя иногда может и перескочить через поколение: у бабули Сэди ничего подобного нет.
– Эрра, – сказала мама. – Мне очень жаль, но абсолютно необходимо, чтобы мы в этом случае обошлись без метафор. Я знаю, что у вас с Рэндлом всегда было особое отношение к вашим родинкам, знаю, что они служили как бы символом тайных уз, связывающих вас. Но в случае Сола здесь другая сторона медали. Позвольте мне объяснить дело так, как оно выглядит под реалистическим углом зрения. Во-первых, его родинка уж очень на виду, практически на лице, и есть опасность, что в школе его станут из-за нее дразнить. Но даже если нет, она может его смущать и породить в нем комплекс неполноценности, совершенно необоснованный. Во-вторых, в отличие от вас двоих, у Сола такой невус, какой медики называют «беспокоящим». Его родинка находится между виском и щекой; когда через какой-нибудь десяток лет он начнет бриться, ежедневный контакт с лезвием может спровоцировать воспаление. В-третьих, и эта причина, конечно, намного важнее прочих, есть опасность развития меланомы. Мне жаль, что я вынуждена затронуть эту тему, но отец Рэндла скончался от рака, следовательно, Солли подвергается повышенному риску в силу фамильной предрасположенности. Как я уже говорила, Эрра, я невероятно много читала об этом. Я также проконсультировалась с несколькими специалистами. И в конце концов пришла к выводу, что для меня предпочтительнее не рисковать.
– Ах, – вздохнула ПРА.
– У нас выбор между биопсией бритья и биопсией удаления. Удаление травмирует радикальнее, зато существенно уменьшает риск, что со временем разовьется рак. Думаю, мы остановим свой выбор на удалении.
– Ах, – повторила ПРА.
– Ну, наши-то родинки остаются при нас, в этом смысле ничто не изменится, – игривым тоном добавил папа. – А у Солли по отношению к своей никогда не было особых эмоций. Верно, Солли?
– Да нет, – сказал я.
– Вот как? – Папа был малость сбит с толку. – И какие же у тебя эмоции?
– Негативные. У меня это вызывает отторжение.
– Видите? – воскликнула мама торжествующе. – Вот вам и четвертое основание. Итак, мы планируем сделать эту операцию в начале июля. Тогда у Сола все лето будет впереди, ранка успеет зарубцеваться, и он сможет с легким сердцем пойти в школу в сентябре.
ПРА опустила глаза, погладила родинку на сгибе своей левой руки и пробормотала какое-то слово, похожее на «Лютня».
– Прошу прощения? – переспросила мама.
– Моя зовется «Лютней», – буркнула ПРА с усмешкой, и мама бросила на папу быстрый, но настойчивый взгляд, будто говорила: «Нет, ты видишь? У нее крыша поехала…», а папа в ответ покосился на маму свирепо, дескать, «Молчи!». У меня не было ни малейшей охоты присутствовать при этой сцене, так что я поспешил уйти, улизнул в свою комнату.
Когда я вернулся на кухню, атмосфера там изменилась еще заметнее, ведь пора было собираться в церковь. Мама попросила папу помочь ей убрать со стола, и он приступил к этому делу, ни слова не говоря.
В половине одиннадцатого мы уселись в папину машину, он задним ходом выехал из аллеи и повернул к церкви. Я сидел, привязанный ремнем безопасности, на заднем сиденье, и, пока мы на малой скорости проезжали по красивым, обсаженным деревьями улицам нашего спокойного и уютного квартала, папа начал рассказывать нам историю.
– Помню, однажды, когда мне было столько лет, сколько тебе, Солли, я провел несколько месяцев вдвоем с отцом, ведь моя мать, как обычно, где-то колесила, вот Эрра и предложила нам в воскресенье отправиться на пикник в Центральный парк вместе с одной ее приятельницей…
– Извини, Рэндл, – сказала мама; – но я должна заметить тебе, что ты, по сути, чуть не поехал на красный свет. Ты не остановился, только притормозил.
– О-ля-ля, как же я был воодушевлен! Как мне не терпелось дождаться воскресенья! Но в тот самый момент, когда наконец все было готово для пикника, вдруг хлынул ливень.
– Я хочу сказать, что красный свет это красный свет, не правда ли, дорогой? – проворковала мама, гладя папину руку, сжимающую руль. – Ведь нежелательно, чтобы у Сола в голове сложилось мнение, будто правила дорожного движения вещь не столь уж обязательная, ты со мной согласен?
Папа подавил вздох и уступил… но, чтобы подчеркнуть тот факт, что он именно уступил нажиму, стал очень резко тормозить на каждом перекрестке – нарочно.
– Так, значит, вы все отменили? – спросил я, чтобы вернуть папу к его рассказу.
– Нет-нет… Мы отправились к Эрре на метро, она жила на Бауэри-стрит, и устроили пикник прямо на полу!
– На полу? – мама скорчила гримаску. – Учитывая репутацию Эрры как кулинарки, это была еда, наверное… гм… вперемешку с пылью!
– Это была великолепная еда, – отрезал папа, грубо тормознув и потом так же немилосердно рванув с места. – Я бы даже сказал, что это был один из самых волшебных пиров всей моей жизни.
– Как бы то ни было, – сказала мама, выдержав паузу в несколько секунд, – было бы неплохо, если бы ты попросил ПРА воздержаться от курения в нашем доме.
– Как это? – удивился папа. – Она же выходит курить на веранду!
– Насколько мне известно, – сказала мама, – веранда тоже часть нашего дома. И потом, она курит в присутствии Сола, он может наглотаться дыма, это очень вредно для его легких.
– Тэсс, – сказал папа, когда мы наконец выехали на другое шоссе, посущественней, там, благодарение Богу, не было светофоров, а то меня уже подташнивало от стольких рывков взад-вперед, – случилось так, что Эрра – одно из тех человеческих существ, которые мне дороже всего на свете. Как было бы хорошо, если бы она могла чувствовать себя уютно в редких случаях, когда приезжает к нам, то есть примерно… раз в три года!
– Что ж, – пролепетала мама, чуть не плача, – видно, этот гигантский завтрак, который я только что приготовила, хотя он стоил мне и времени, и денег, потраченных вчера в супермаркете, в твоих глазах недостоин твоей бабушки?
– Ну конечно достоин, моя дорогая, разумеется. Извини…
– Сколько бы я ни старалась, тебе, похоже, никогда не угодишь! А Эрра для тебя что-то вроде… богини…
– Я уже сказал: извини. Прошу прощения. Что мне еще сделать? Остановить машину и бухнуться перед тобой на колени?
В этот самый момент мы подъехали к церкви, и папа припарковался.
– Честно говоря, Рэндл, мне кажется, что тебе следовало бы стать на колени не передо мной, а перед Господом. Мне кажется, ты сейчас должен усердно помолиться, Рэндл, и постараться понять, почему приезд бабушки пробуждает в тебе такую враждебность к твоей супруге.
– Почему ПРА не поехала в церковь? – спросил я, когда мы влились в поток верующих, подходивших со всех сторон пешком, стекаясь ни быстро, ни медленно к вратам церкви. На тщательно ухоженных газонах, с двух сторон обрамляющих тротуар, цвели анютины глазки. В этом есть порядок, структура, мне это нравится.
– Потому что она не верит в Бога, – сказал папа таким нейтральным тоном, будто сообщал, что она предпочитает пепси кока-коле. Не верить в Бога – для меня это немыслимо, но, судя по выражению маминого лица, мало шансов, что этот интересный разговор продолжится на обратном пути.
«Бог повсюду везде как же в это не верить?
Он Сила и Слава.
Мощь Движитель Создатель абсолютный источник.
Секрет всего что разбухает и взрывается.
От самомалейшего пакетика под каблуком на газоне.
До раскаленной родилки жеребца, пустившей струю прямо в лицо женщины.
От сердцевины вулкана вскипающей в час извержения.
До гриба водородной бомбы.
Все это Бог Бог Бог.
Эта энергия это разверстое жерло.
Эта пульсация это бурленье материи».
Вот что лезло мне в голову во время богослужения, когда мы вместе с длинной процессией медленно продвигались к алтарю с пением «Осанна в вышних!», неся пучки вербы. Бог это Сила и Слава, а мы все жалкие грешники, поскольку Ева отведала плод с древа познания, в наши дни древо познания – это Интернет, у него миллиарды ветвей, распростертых во все стороны, мы не перестаем поглощать его плоды и все больше грешим в своей плотской искушенности, а следовательно, миру всегда будут необходимы чистильщики, и, если я хочу стать чистильщиком, как Иисус, Буш или Шварценеггер, мне нужно знать о зле все.
К Твоим стопам толпа бросает
Охапки верб, свои одежды,
«О Божий Сын! – она взывает. —
Благой Иисус, оплот надежды!»
Пастор принялся что-то там проповедовать насчет войны в Ираке, это напомнило мне кадры с расчлененными трупами иракских солдат, засыпанными песком, а еще – изнасилованных женщин, от этих мыслей мой пенис отвердел, и я, прикрываясь сборником духовных гимнов, стал себя потихоньку ублажать, а коль скоро проповедь была длинной, под конец я от своих наваждений едва в обморок не хлопнулся. Вспоминал, как, бывало, вечером у себя в спальне – «Грядет Господь наш Иисус, Вздымайте вербы, славьте Бога!» – воображал себя конем, исходящим раскаленной пеной, или стреляющим пулеметом, или бомбой в момент взрыва – «Народ Христов, о, пой же хором „Осанну в вышних“!», – и я, ощущая, как силы бушуют в моем нутре, дрочил уже чуть не до крови, а после богослужения родители, пробиваясь сквозь толпу, заполонившую тротуар, все обменивались с кем-то рукопожатиями: «Как дела?», «Рады вас видеть», «Ну, теперь до будущей недели, до Пасхи!» и «Чудесная погода, не правда ли?».
После полудня впрямь сильно потеплело, и я отправился туда, где особенно любил играть, то есть в тенистое местечко под верандой, прихватив с собой «Лего», чтобы показать маме, что я не превратился в фаната компьютерных игр, как она порой опасается, тревожась о моем душевном здоровье. Чуть погодя на веранду вышли папа и ПРА, они сели за стол под солнцезащитным тентом, так что я мог слышать их разговор, оставаясь незамеченным, я эти моменты очень люблю, ведь таким образом можно многое узнать о других без их ведома, а потом изумлять их своей проницательностью.
– Ну что, Рэн, – сказала ПРА, – как там дела с твоей новой работой?
– Да чего уж тут… – вздохнул папа, и было ясно, что этот вопрос, уж не знаю почему, его смутил. – Тут и рассказывать, почитай что, не о чем. Программирование…
– Значит, тебе это совсем неинтересно?
– Да нет же, нет, но… Что там интересно, так это семипроцентная доходность страховых взносов.
– Понятно. А твои коллеги?
– Сборище бездарей.
– Ах, какая досада…
– Да, но, впрочем… не всем же быть талантливыми.
– Разумеется.
– И в конце концов… жалованье хорошее, перспективы карьерного роста у меня великолепные, это дает известное удовлетворение. По крайней мере, приятно знать, что я смогу обеспечить Солли место в престижном университете на побережье, никого не прося о помощи.
– «Никого» – это ты о своей матери, верно?
– Само собой.
– А кстати, как дела у Сэди?
– По-прежнему… если не хуже.
– Да помилует нас Бог!
– Вот именно. Сколько времени вы не виделись?
– Сказать по правде, Рэндл, я и считать перестала. Лет пятнадцать… С тех пор как она опубликовала ту ужасную книгу… это в каком же году?
– Гм… вроде бы в девяностом. «Бай-бай, нацистское дитя»… Я запомнил, потому что она вышла как раз перед папиной смертью.
– Да… Она и меня чуть не убила!
Тут они, как ни странно, засмеялись – видимо, под разговор оба тянули мартини или джин-тоник.
– Стало быть, она продолжает?
– Ох! Ну да.
– Иисусе милосердный!
– А ты-то сама, Эрра? Надеюсь, судьба к тебе благосклонна?
– Да, сердце мое. Пожаловаться не могу. В конечном счете мне живется чудесно.
– Не говори так: «в конечном счете» – это как если бы жизнь уже прошла… Тебе ведь всего… шестьдесят пять?
– М-м-м… Разве? Ну, так и быть. С половиной.
– Но послушай, ты еще проживешь не один десяток лет! Готов поклясться, что тебе можно дать… сорок семь с половиной. Ни днем больше!
– Какой ты милый. Но все эти годы… признаться, я начинаю их чувствовать. И дело не только в том маленьком сердечном приступе, что шарахнул меня два месяца назад, а… представь себе: у меня не осталось ни единого собственного зуба!
И оба опять рассмеялись.
– Ты из-за этого перестала петь? – спросил папа. – Боишься, как бы в разгар концерта у тебя челюсти изо рта не выпали?
Снова хохот.
– Ох! Да нет, – сказала ПРА. – Нет-нет. Просто осознала, что голос уже не тот, что прежде… Но это не трагедия. В один прекрасный день я уселась сама перед собой, взяла себя за руку и говорю себе так: «Послушай, моя милая. Ты записала три десятка дисков, давала по всему свету концерты, загребла много грошей и много сердец, а теперь пора наслаждаться жизнью и ничего больше не делать. Читать книги, которые давно хотелось прочесть, видеться с людьми, которых любишь, увезти Мерседес в волшебные страны, мимо которых ты проскочила, спеша от одних гастролей к другим»…
– В скобках будь сказано, мне ужасно жаль, что так вышло с Мерседес, – пробормотал папа.
– Не глупи, Рэн.
– В каком смысле?
– Перестань на каждом шагу твердить это свое «Мне ужасно жаль». С тех пор как я вчера вечером сюда приехала, ты уже раз десять это сказал. Дурная привычка, знаешь ли. Очень вредная для душевного здоровья.
– Как бы тебе объяснить? В общем-то Тэсс очень терпимый человек, но, невесть почему, когда речь заходит о гомосексуализме…
– Она полагает, что Сол будет травмирован, если увидит двух престарелых дам, которые держатся за руки?
– Мне ужасно жаль, Эрра.
– Ты опять за свое? Прекрати!
Они засмеялись. Я уловил запах ПРА, закуривающей сигару.
– Что до Солли, – заговорила она, помолчав, – я, когда уезжала из Нью-Йорка, хотела купить ему подарок. Провела достаточно смехотворный час, прочесывая большой магазин игрушек на Сорок четвертой улице… Я ни на секунду не позволяла себе забыть, с какой одержимостью Тэсс печется о его безопасности. И потому говорила себе: так, этот подъемный кран был бы всем хорош, но если Сол, чего доброго, проглотит его крюк, он застрянет в кишечнике и спровоцирует внутреннее кровотечение… Ах! Вот чудесный набор для маленького химика, однако в нем полно разных штук, которые могут вспыхнуть или взорваться и которыми он может отравиться… Ладно, так и быть, эта электрическая железная дорога с виду симпатична… но ведь Сол может по неосторожности убить себя током… О-хо-хо… Все игрушки этого магазина, одна за другой, превращались в смертоносное оружие, они только и ждали, как бы накинуться на моего правнука. Так что я отчаялась, вот и приехала сюда с пустыми руками.
Оба заржали во всю глотку.
Мне стало обидно. Я бы охотно получил один из тех подарков.
Пройдя мимо них, я направился на кухню, где мама готовила большое блюдо с закусками: морковные палочки, сельдерей с сыром чеддер, редис, помидоры, вишни, мелко нашинкованные грибы, соленые бисквиты, соус, рокфор. Я сжевал кусочек сыра и полез в холодильник за ломтиком хлеба без корки. Мама прекрасно понимала, что за обеденный стол я с ними не сяду.
– Ты знала, что у ПРА искусственные зубы? – спросил я ее.
– Конечно, мой ангел. Она каждый вечер, ложась спать, кладет их в стакан с водой у своего изголовья.
– Фу, гадость… А почему она потеряла все зубы?
– Наверное, потому, что страдала от недоедания, когда была маленькой.
– Родители ее плохо кормили?
– О, это длинная история… Кажется, она была в лагере беженцев или что-то в этом роде. Она не любит об этом распространяться.
Про себя я подумал: ладно, выходит, можно иметь фальшивые зубы, как у ПРА, или фальшивые волосы, как у бабули Сэди, можно завести себе фальшивые ресницы, фальшивый бюст…
– А фальшивое сердце? – брякнул я вслух.
– О чем ты говоришь? Об операции, когда в твою грудь могут вложить сердце кого-то другого? Да, это возможно.
– И фальшивые ноги?
– Ну, в наши дни, по-моему, почти все научились заменять!
– И мозг? Как насчет фальшивого мозга?
– Про такое не слышала, но думаю, что нет.
– А фальшивая душа?
– Ах, это уж нет! – прыснула мама, в форме разноцветного солнышка выкладывая на овальную тарелку сырые овощи и фрукты. – Насчет этого, Солли, я совершенно уверена. Твоя душа принадлежит только тебе… и Богу. На веки вечные.
И я ощутил бессмертие души Сола, призванной изменить мир, вечной и единственной среди миллиардов google’овых душ.
Страстная неделя закончилась, ПРА смылась в Нью-Йорк, и жизнь снова потекла по привычному руслу. Но однажды, вернувшись домой от Брайана, я застал маму в сильном волнении. Я сразу понял, что она вне себя, потому что она ничем не занималась, просто сидела сложа руки в гостиной, и, когда я подошел поцеловать ее, она не обняла меня, как обычно, и не сказала: «Как чувствует себя мой маленький мужчина?»
– Что с тобой? – спросил я.
– Я жду твоего отца, – прошептала она голосом беззащитной маленькой девочки, какого я никогда прежде у нее не слышал. – Ступай к себе поиграть, ладно? Если проголодаешься, скажешь.
– Конечно, мама, – ответил я тем бодрым тоном, что означает: мол, не беспокойся, я обо всем позабочусь.
Едва папин автомобиль остановился перед домом, я прокрался на цыпочках по коридору, затаился на верхней площадке лестницы и, присев в потемках на корточки, стал слушать, что они скажут.
– Ты видел это, Рэндл? Ты это видел? – произнесла мама тихо, но свирепо.
– Ну как же. Само собой, видел.
– Да ведь это ужасно! Ты не находишь, что это просто кошмар? Я даже не понимаю, как можно публиковать подобные фотографии в газете!
– Конечно, но… Послушай, моя дорогая… Это же война… Да что происходит? Или мы сегодня не ужинаем?
– Война? Что это вообще значит, что за оправдание такое? Это не война, нет! Это банда взбесившихся… извращенцев… они обходятся с людьми, как со скотами… Как они могли совершать подобные вещи?
– Тэсс, тут я могу сказать только одно: когда люди находятся под давлением или им очень страшно, они способны вытворять… что угодно.
– Ты осмеливаешься искать для них оправдания?
И я услышал удар газетой, брошенной на стол, может быть, прямо перед его носом.
– Послушай, Тэсс, мне бы очень хотелось сменить тему. Ты что, действительно считаешь, будто мне необходимо, чтобы на меня кричали, не успел я переступить порог родного дома после четырнадцатичасового рабочего дня? Черт возьми! Так где он, ужин? Или все теперь должны подхватить анорексию вслед за нашим сыном?
Мама рухнула на канапе, я узнал этот характерный звук.
– Я не могу есть, – выговорила она придушенным голосом: похоже, зарылась лицом в подушку, уже рыдая. Но вот она повернулась – ее слова опять стали ясно слышны:
– Как ты мог не потерять аппетит, увидев подобные кадры? Я заболела от них, неужели ты не понимаешь, я больна, больна! Американская армия…
– Я запрещаю тебе поносить американскую армию! – выкрикнул папа и, громко топая, зашагал на кухню. Оттуда донесся грохот – это он шарахнул дверцей холодильника.
На следующее утро, когда мама сушила волосы в ванной – это означало, что в моем распоряжении добрых десять минут – я залез в инет и присосался к кадрам тюрьмы Абу-Грейб. Парни громоздились кучей, один на другом, стоя на коленях, эта человеческая груда немножко напоминала акробатов в цирке, если не считать того, что здесь все были здоровые, крепкие и совсем голые; было видно много арабской плоти, ни белой, ни черной, а золотисто-коричневой, а солдаты-янки, мужчины и женщины, похоже, очень уверенно чувствовали себя перед камерой, позировали рядом с этими голыми арабами, издевались над ними, держа их на собачьих поводках, пытали электрическим током, заставляли совокупляться друг с другом; мой пенис разом затвердел, но возиться с ним я не стал, времени не было. Компьютер пришлось вырубить в ту же секунду, как мама отключила свой фен, а когда она выходила из ванной, я у себя комнате уже зашлепывал липучки фирменных кроссовок, собираясь в детский сад.