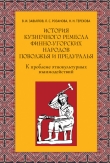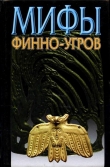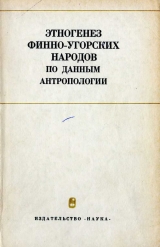
Текст книги "Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии"
Автор книги: Автор Неизвестен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Зиневич Г. П. До антропологи Шестовицького могильника. Матерiали з антропологii Украiни, вып. 2, Киiв, 1962.
Игнатьев М. В., Пугачева А. В. Опыт оценки различий между группами с помощью «обобщенного расстояния». «Вопросы антропологии», 1961, вып. 8.
«Происхождение и этническая история русского народа». «Труды Ин-та этнографии АН СССР», новая серия, т. 88. М., 1965.
Седов В. В. Антропологические тины населения северо-западных земель Великого Новгорода. «Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР», вып. XV, 1952.
Седов В. Б. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970.
Трофимова Т. А. Кривичи, вятичи и славянские племена Поднепровья по данным антропологии. «Советская этнография», 1946, № 1.
Чепурковский E. М. Географическое распределение формы головы и цветности крестьянского населения Великороссии. «Известия Об-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии», т. CXXIV, вып. 2-«Труды антропологического отдела», т. XVIII, вып. 2, 1913.
Bunak V. Neues Material zur Aussonderung Anthropologischer Typen unler der Bevölkerung Osteuropas. «Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie, Bd. XXX, H. 3, 1932.
Bunak V. The rraniological types of the east slavic kurgans. «Anthropologie», t. X. Prague, 1932.
Schwidetzky I. Die anthropologische Gliederung des europäischen Teils der Sowjetunion nach multivariaten Abstandsmaßen. «Homo», Bd. XXИ, II. 3, 1971.
Интерпретация данных популяционно-генетических исследований белкового спектра и некоторых ферментов крови в связи с проблемой формирования народов финно-угорской языковой семьи
В. А. Спицын
Ввиду сложности вопроса формирования угро-финских народов многие отечественные и зарубежные исследователи привлекают для его решения комплекс лингвистических, этнографических и антропологических данных. Нет необходимости приводить в настоящем сообщении весьма обширный перечень публикаций по вопросам антропологии финно-угорских народов. Однако следует признать, что вплоть до настоящего времени не существует единства мнения в вопросе происхождения финно-угорских этнических групп; причем существуют контрастные точки зрения крупных антропологов на проблему становления финно-угорских народностей. Морфологические параметры подчас противоречивы и могут одновременно свидетельствовать в пользу альтернативных точек зрения. Поэтому рассмотрение новых популяционно-генетических материалов в свете данных задач может принести ценные сведения. Кроме того, привлечение современных методов популяционно-генетического и биохимического анализа в известной мере позволяет отбросить субъективизм, наблюдаемый в оценке антропометрического и антропоскопического материала.
Значительный прогресс в изучении финно-угорских популяций был достигнут в результате анализа пространственного распределения различных групп крови в Скандинавии, на территории Восточной Европы и Западной Сибири. Особое внимание при этом было уделено шведским, норвежским и финским лопарям.
Бурное развитие биохимической генетики привело к обнаружению большого числа весьма информативных новых полиморфных систем у человека, изучение которых уже сейчас принесло ощутимую пользу в решении сложных вопросов формирования Угро-финских групп. Задачей настоящего сообщения является рассмотрение некоторых таких систем.
Система гаптоглобинов (Нр). Анализ гаптоглобинов, исходя из гипотезы трехаллельной системы, естественно, более информативен и интересен, но, поскольку подтипы гаптоглобина в популяционном отношении изучались крайне скудно, мы ограничимся разбором двух основных аллелей гаптоглобина в финно-угорских Популяциях.
У шведских лопарей, равно как и у финнов, отмечалась незначительная частота встречаемости гена Нр{ в европейских масштабах (значения частот IIр' у лопарей – 0,317, у финнов – 0,363). Для лопарей Кольского полуострова частота Нр1 идентична значению IIр' для финнов, т. е. 0,363.
Достаточно неожиданным оказался тот факт, что у финно-угорских и самодийских групп Западной Сибири и Приуралья наблюдалась стабильная повышенная концентрация фактора Нр1 (коми – 0,402, тундровые ненцы – 0,418, лесные ненцы – 0,433, ханты – 0,435, манси – 0,348), что отличает население Западной Сибири и Приуралья в целом от типичных азиатских монголоидов. Однако решить вопрос о монголоидном компоненте, базируясь на системе гаптоглобинов, можно положительно лишь после тщательного анализа подтипов этого белка, рассмотрением соотношения частот Hp{F n Hps. Я склонен предполагать, что увеличение частоты общего аллеля Нр1 здесь имеет место за счет возрастания частоты «монголоидного» фактора Hpis.
Система трансферрипов. Работами Бекмана, Холмгрена (1967) в Швеции и Сеппала (1965) в Финляндии в известной мере восполнен пробел в изучении полиморфизма трансферрипов на европейском континенте.
Было показано, что но соотношению типов трансферрипа финны в значительной степени отличаются от других популяции Европы как в количественном, так и в качественном отношении. Тип TfB2 является характерным для европейских популяций, однако частота его у финнов гораздо ниже, чем в любой другой европейской группе населения.
Если сравнить генные частоты TfD– в финской и шведской популяциях, то можно заметить, что частота 77ßj в Финляндии значительно ниже, чем в Швеции, и это различие статистически достоверно (Т/в– у шведов – 0,0037, у финнов – 0,0012; уг – 17,05 при <0,001). Это указывает на меньший европеоидный компонент, принимавший участие в формировании финской популяции по сравнению со шведской. Напротив, варианты TfBo-i и Dchи присущие многим монголоидным популяциям с высоким и частотами, наблюдались и у финнов.
Первоначально вариант TfBo-i с ощутимой концентрацией наблюдался в различных племенах американских индейцев. Обнаружение его в Финляндии с частотой фенотипа ßo-i С = 0,018 можно было бы объяснить единственной мутацией. С другой стороны, этот вариант трансферрипа первоначально мог возникнуть в древнейшей протомонголоидной популяции на азиатской территории, откуда мог распространиться как на восток – среди индейцев Америки, так н на запад, где В0- наблюдается отчасти у лопарей и финнов.
Тип трансферрипа Dem характерен для несмешанных лопарей, и обнаружение его у финнов (Seppälä, 1965) объясняется ранней лопарской примесью в финской популяции. Так или иначе большинство авторов склонно полагать, что наличие Dem и Bo i в Финляндии имеет общее расовое происхождение.
Сепаллом (1965) было сообщено об обнаружении нового варианта трансферрнна, электрофоретически мигрирующего несколько медленнее в крахмальном геле, нежели TfD, и получившего название TjÜFin– Однако, на наш взгляд, TjDnn идентичен с T]D. Только пептидный анализ достаточно надежно может дифференцировать эти два варианта Tf. Подчас авторы склонны идеализировать изучаемую популяцию, подчеркивая ее уникальность. Если же существование трансферрина Tjlhin все же подтвердится, то он будет маркирующим фактором для данного этноса, и этот факт вызовет необходимость изучения TfDpm в финно-угорских группах на территории СССР, а также в различных группах саами, поскольку у шведских лопарей в 2% был найден медленно мигрирующий вариант, дифференцированный JI. Бекманом и Г. Холмгреном (1961) как TfD.
Перейдем к анализу распределения фенотипов и генов трансферрина в финно-угорских группах населения СССР.
Когда образцы сыворотки крови, полученные из Сибири, были проанализированы на типы трансферрина, оказалось, что TfB0-i весьма характерен для некоторых сибирских популяций. Он был найден у коми с частотой гена Т/в«-', равной 0,016, у ненцев – 0,017, у тувинцев – 0,04, а также у эвенков Восточной Сибири – 0,038. Трансферрин типа Dcm наблюдался у нескольких народов Сибири: у хантов – 0,018, у ненцев Приуралья – 0,012, у ненцев Таймыра – 0,011, у бурят – 0,024, а также у лопарей Кольского п-ва из пос. Ловозеро – 0,019.
Таким образом, полученные данные не только не противоречат, а, напротив, подтверждают общность варианта öchi и ßo-i для азиатских монголоидов.
Заслуживает внимания сообщение Рекс-Киш и Фесус (1970), которые, исследовав 1007 венгров, в пяти случаях выявили вариант трансферрина, весьма напоминающий TfBo-C.
Система иммуноглобулинов (Gm). Данная система является очень сложной, но и столь же интересной в антропологическом отношений. Данные нашей лаборатории касаются лишь распределения фактора Gm(1) у коми и лопарей Кольского полуострова. Известно, что в целом в Европе процент отрицательных по Gm (1) лиц достаточно велик, в особенности в Южной Европе. К северу частота Gm(1 +) значительно возрастает и достигает своего максимума у финнов (65,0%) и у лопарей (67,3%) (Туманов, 1968). У всех других популяций Азии, Африки, индейцев Америки, австралийских аборигенов Gm(1) представлен в 100% Концентрации. Причину увеличения частоты встречаемости Gm(1) У Кольских лопарей (91,7%) и у коми (87,5%), по-видимому, Нужно искать в монголоидном влиянии.
Для венгров характерен комплекс серологических факторов, Присущий в целом населению Европы. Однако для них существует любопытная особенность в концентрации антигенной детерминанты Gm(7), которая проявляется в 27,1% случаев, тогда как для других изученных европейских групп встречаемость 0п, (7) составляет около 40%. К сожалению, к настоящему времени на этот антиген изучено крайне ограниченное число народностей.
Группо-специфический компонент (Gc). Распределение группоспецифического компонента имеет определенное этнографическое значение. Как правило, аллель Gc11
Исключение составляют евреи-хаббаннты, у которых частота гена PGM2,
[Закрыть] более част в Азии, Африке Австралии и Америке, чем в Европе.
Рассматривая частоты гена Gc[ среди европейских популяций, можно обратить внимание на своеобразие лопарей Скандинавии, Как у финских, так у норвежских и шведских лопарей частота аллеля Gc1 весьма велика (соответственно 0,859, 0,810 и 0,87.4). Трудно ожидать, что у столь обособленных саамских групп увеличение частоты Gc' оказалось обусловленным генным дрейфом, поскольку изменение Gc1 идет в одинаковом направлении; к тому же ни в одной из множества исследованных народностей континента не встречаются столь высокие значения фактора Gc1. У финнов, напротив, мы сталкиваемся с относительно низкой частотой Gc1 (0,615). К сожалению, с территории Северо-Восточной Европы, равно как и из Сибири, материал почти отсутствует. Но ii ограниченные данные, имеющиеся в нашем распоряжении, свидетельствуют о том, что в Западной и Средней Сибири имеют место высокие значения частот группоспецифического компонента Gc1 (ханты – 0,798, лесные ненцы – 0,817, эвенки – 0,811). Вполне оправданно предполагать наличие определенной североазиатской примеси в популяции лопарей и по этому признаку. Впрочем, в Восточной Сибири и на крайнем северо-востоке азиатского материка частоты Gc1 значительно ниже (буряты – 0,676, чукчи – 0,631, эскимосы – 0,576).
Что касается распределения протеинов крови, обладающих каталитической функцией, в финно-угорских группах, то здесь, на наш взгляд, следует остановиться на следующих ферментных системах.
Аденилаткиназа (АК). Эритроцитарный фермент контролируется двумя основными аллелями – АК1 п АК2, причем фактор АК2 встречается в любой из изученных популяций весьма редко. Однако и здесь существует этнографическая изменчивость. В Европе частоты АК2 весьма стабильны и колеблются в пределах 3–4%. Но когда исследованию были подвергнуты четыре различные группы лопарей Скандинавии, то оказалось, что здесь колебания в частотах аллеля АК2 составляли 0,5–2%, что, как правило, не свойственно европейским популяциям и в то же время выше, чем у типичных представителей монголоидных народностей, за исключением корейцев. Привлеченные здесь данные лишний раз свидетельствуют в пользу смешанного происхождения саами.
Финны, обследованные независимо друг от друга Реплеем (1967) и Эрикссоном (1971), обладали частотами, присущими в целом для европеоидов Европы.
Но столь же низкие значения АК22
составляет 0,570–0,576.
[Закрыть], отмеченные у саамских групп, Эрикссон констатировал у марийцев (~2%) фосфоглюкомутаза. Этот фермент более полиморфен, нежели предыдущий, и распределение вариантов, контролируемых локусом PGM 1, весьма своеобразно для некоторых народов. Для лопарей, например, свойственна поразительно высокая частота аллеля PGM j (лопари Норвегии – 0,487, горные лопари Финляндии– 0,531, сколтские лопари Финляндии – 0,306, прибрежные и горные лопари Инари Финляндии – 0,537). Подобной частотой не обладает пи одна европейская группа, никакая другая популяция мираУ типичных азиатских монголоидов частоты pGM'i весьма напоминают аналогичные значения, свойственные европейцам, в том числе и финнам. Представляется затруднительной задачей интерпретировать столь необычно высокую концентрацию аллеля PGM у лопарей, ведь ни у типично азиатских монголоидов, ни у экстремально обитающих в полярных условиях эскимосов и алеутов подобных значений для гена PGM' не наблюдается.
Интересно, что в изученной Эрикссоном группе марийцев Поволжья отмечается повышенная в европейских масштабах частота PGM (0,331).
* * *
Рассматривая материалы по полиморфизму белкового спектра и некоторых ферментов крови в связи с проблемой формирования финно-угорской языковой семьи, нам представляется необходимым дополнительно привлечь данные по серологическим особенностям финно-угорских групп.
Хотя эти народы и разговаривают на языках финно-угорской группы, между ними имеются существенные различия. В противовес высокой встречаемости группы крови N у лопарей, для финнов присуща группа крови М, которая у них наблюдается значительно чаще, чем у любого другого народа Центральной или Западной Европы. Финны также имеют более низкий процент всей группы крови А и очень низкую встречаемость подгруппы А2 по сравнению с лопарями. Сам по себе процент встречаемости групп крови по отдельным системам, даже подкрепленный доказательством лингвистического сходства, не может быть использован с полной надежностью для определения родственных связей между этими народами. Интересно, однако, что представители финно-угорского населения СССР показывают поразительно высокую степень единообразия групп крови системы АВ0 (около 21% генов группы крови А и около 22% генов группы крови В).
Таким образом, ген А встречается у них заметно реже, чем у финнов, и еще реже, чем у лопарей. Напротив, частоты гена /? у них явно выше, чем у лопарей, и значительно выше, чем у финнов. Эстонцы обнаруживают по комплексу серологических факто ров тенденцию к сходству с финнами, тогда как марийцы имеют исключительно высокую встречаемость группы крови В. Столь же единообразная картина прослеживается в отношении распределения генов гаптоглобина на территории крайнего северо-востока Европы и в Западной Сибири.
Таким образом, с одной стороны, мы прослеживаем несомненное влияние со стороны азиатских монголоидов на популяционную структуру финно-угорских народов.
1. Относительно высокая частота группы крови В на территории северо-востока европейской части СССР и в Западной Сибири.
2. Повышенная концентрация фактора IIр2 у скандинавских лопарей по сравнению с соседними народами.
3. Большое число людей, ощущающих вкус фенилтиокарб амида.
4. Наличие трансферрина T/dcm у лопарей, финнов, коми, хантов и манси.
5. Пониженная частота трансферрина типа TfBz у финнов.
6. Явно увеличенная концентрация фактора Gcl у всех изученных финно-угров северо-востока.
7. Возрастание пропорции лиц с иммуноглобулином Gm (1).
8. Низкие значения гена аденилаткиназы АК2 у лопарей и марийцев по сравнению с типичными представителями европеоидных групп.
На основании анализа палеоантропологического материала Г. Ф. Дебец (1964) также пришел к прямому выводу, что участие сибирского монголоидного элемента в формировании этою (лапоноидного) типа вряд ли может быть спорным. Смешение с сибирскими монголоидами и, конечно, дальнейшие процессы, протекавшие в условиях изоляции, привели к формированию лапоноидного типа. К аналогичному мнению приходит и В. П. Якимов (1953), показав, что по крайней мере за тысячу лет до того, как в озера Леванлухты и Кельдаляки были брошены тела женщин и детей, на Кольском п-ве жили люди, отличавшиеся наиболее плоским лицом, очень широкой мозговой коробкой и очень большой шириной лица.
Но, с другой стороны, исходя из большой пестроты в распределении генных частот различных систем среди финно-угорских народов, можно говорить о весьма своеобразном комплексе серологических и биохимических факторов, что находит свое выражение в распределении следующих систем:
1. Наиболее высокие значения частот Аг у лопарей в общемировом масштабе. (Любопытно, почти полное отсутствие этого фактора у эскимосов.)
2. Наличие фактора ТfDpin? у финнов.
3. Встречаемость TfB0-i у финнов, лопарей, коми, ненцев, тувинцев, тунгусов и, по-видимому, венгров.
4. Экстремально высокие частоты фактора PGM у лопарей Скандинавии, а также марийцев.
5. Стабильно повышенная частота гена IIр' в Западной Сибири и на северо-востоке европейской части СССР.
0. Своеобразие в распределении типа иммуноглобулина Gm (7) у венгров, по сравнению с другими европейскими народами.
Только что представленное своеобразие в сочетании генетических маркеров может быть обусловлено:
1) наличием некоего древнего субстрата, на основе которого произошло формирование финно-угров;
2) генным дрейфом, в определенной мере способствовавшим проявлению необычных серолого-биохимических особенностей у этих групп населения;
3) давлением резких экстремальных условий обитания на Крайнем Севере, которое постепенно содействовало формированию комплекса особенностей, характерных для современных финно-угров.
Литература
Дебец Г. Ф. Об антропологическом типе древнего населения Финляндии.
«Современная антропология». М., 1964.
Туманов А. К. Сывороточные системы крови. М., 1968.
Якимов В. П. Антропологическая характеристика костяков из погребений на Большом Оленьем острове (Баренцево море). Сб. «Музей антропологии и этнографии», т. 15. М., 1953.
Beckman L. £■ Holmgren G. Transferrin variants in Lapps and Swedes. «Acta genetica», 1961, N 11.
Eriksson A., Fellman У., Kirjarinta MEskola M. K., Singh S., Benk-mann H. G., Goedde H. W., Hourant A. E., Tills D., Lehmann W. Adenylate kinase polymorphism in population in Finland (Swedes, Finns, Lapps) in Maris and Greenland Eskimos. «Human genetik», 1971, N 12. Rapley S., Robson E. B., Harris H., Smith S. M. Data on the incidence segregation and linkage relations of the adenylate kinase (AK) polymorphism. Annales Human Genetics A, 1967, N 31.
Rex-Kiss and Fesiis. Distribution of Serum Tf Groups in Hungary and their application in paternaty Proceedings. «Human genetik», 1970, vol. 10, I N 4.
Seppälä M. Distribution of serum transferrin groups in Finland and their inheritance. «Annales medicinae experimentalis et biologiae Fenniae», 1965, vol. 43, N 4.
Распределение различных генетических маркеров в Финляндии и проявление их в Эстонии и Венгрии
X. P. Неванлинна
Прежде чем представить собственные данные по финнам, эстонцам и венграм, мне хотелось бы более детально обсудить некоторые факторы, которые могли бы влиять или действительно влияют на вариабельность в человеческих популяциях, что является темой нашего симпозиума.
Необходимо также обратить внимание на некоторые качества методов, использовавшихся для измерения биологических характеристик человека. Внимание будет сконцентрировано на оценке методов, примененных для определения полиморфизма человека, и только коротко будет упомянуто о факторах, связанных с ошибками в измерении физических характеристик, т. е. физической антропологии.
Полиморфизм человека. Согласно Форду, ген называют полиморфным, если частота редкой аллели выше ожидаемой при учете роли только одних мутаций. На практике к полиморфным относятся гены с частотой редкого аллеля выше 1 %. Существует множество генов, которые встречаются в одних популяциях с частотой намного большей, чем приведенная выше, но совершенно отсутствуют в других. Уже само определение полиморфизма исключает мутацию как причину распространения этих генов, и для обсуждения остаются два известных фактора эволюции: случайный генетический дрейф и отбор.
Необходимо подчеркнуть одно обстоятельство. Если для характеристики популяций человека применяется понятие полиморфизм, то нужно учитывать, что гены, а не признаки передаются из поколения в поколение. Хотя это и должно быть более чем очевидно для любого, обладающего достаточными знаниями основ генетики, тем не менее даже в последние годы нередко можно видеть карты, таблицы, графики, где для иллюстрации и даже для сравнений между различными популяциями вместо частоты гена учитывают изменения фенотипа. Если поступать таким образом, то теряется важное преимущество – возможность правильной оценки.
Для пояснения возьмем два примера. Китайцы иногда рассматриваются как популяция, у которой «отсутствует Rh – отрицательный ген». К этому неправильному толкованию могло привести то обстоятельство, что, по-видимому, все китайцы Rh – положительны. На самом же деле, частота гена rh (Rh – отрицательного гена) около 0,05 (5%), например, среди китайцев, проживающих в США. Этой частоте соответствует один Rh – отрицательный индивидуум из 400. Соответственно фенотипическая частота в 20 раз меньше частоты гена.
Распределение фенотипа и генотипа редкого характера (/?/(-отрицательный)
Частота гена г .... Частота (приблизительно) 0,05(5%) 0,10 (10%)
Частота Л/(-отрнцателыюго=г2 . . . 0,0025 (1 : 400)
Данный пример относится к рецессивному гену, где разница между частотой гена и проявлением фенотипа огромная. Тем не менее это положение можно будет применить и к доминантным генам, если они будут весьма распространенными. Напомню, что частота группы крови Р* среди популяции составляет 75%. Если не знать (или если не помнить) о типе ее наследования, о том, что доминирует геп р (геп Р – ), тогда тот факт, что частота гена Р составляет только 0,50 (50%), может привести к совершенно неправильной оценке этого рода информации.
Распределение фенотипа и генотипа общего характера (Р)
Частота гена Р .........
0,50
0,75
Частота Р положительного—Р2-)-2Р7,
Случайный генетический дрейф. В любой ограниченной популяции – а всякая человеческая популяция имеет ограниченные размеры – частота всех аллеломорфных генов будет случайно колебаться от поколения к поколению. Эти колебания зависят от трех факторов: эффективного размера популяции (эффективный размер составляет приблизительно одну треть от общего), частоты гена n числа поколений. Конечным результатом явится утрата либо фиксация всех генов. В настоящее время в человеческих расах или в целых нациях из-за их огромного размера автохтонные процессы оказывают небольшое влияние на частоту встречаемости генов, но дрейф мог оказывать существенное влияние на ранних стадиях, в ранние исторические эпохи па те гены, которые наблюдаются теперь.
Хотя генетический дрейф не изменяет генные частоты в больших популяциях, он безусловно имеет значение для малых популяций. Это относится не только к примитивным популяциям с малым эффективным размером, но и к сельским популяциям развивающихся стран. Локальное изменение частоты генов может повлиять на общие результаты при неправильно полученной выборке.
Для демонстрации действия дрейфов генов можно привести примеры одного из последних исследований сельской популяции Финляндии. На рисунках 1 и 2 представлены распределения Двух маркеров – группы крови В и варианта Dem трансферрина – в области центральной Финляндии, насчитывающей около 10 000 человек. Область подразделена на группы деревень, в каждой из которых проживает около 500 жителей. Значительные различия между отдельными деревнями не могли слишком влиять па результаты, скажем, популяционного исследования, как раз именно при неоднородной выборке. Табл. 1 дает различия между
| Ген | По стране в целом n – 5536 | Крайние значения по общинам | Средняя |
| А | 0,2134 | 0,1357–0,2530 | 0,1936 |
| а2 | 0,0956 | 0,0706–0,1035 | 0,0381 |
| в | 0,1320 | 0,0932–0,2304 | 0,1550 |
| 0 | 0,5589 | 0,48–43—0,6175 | 0,5633 |
| MS | 0,2469 | 0,2035–0,2832 | 0,2427 |
| MS | 0,3956 | 0,3234–0,4356 | 0,3837 |
| NS | 0,0773 | 0,0516–0,1152 | 0,0790 |
| NS | 0,2801 | 0,1923–0,3646 | 0,2945 |
| S | 0,3241 | 0,2788–0,3817 | 0,3222 |
| CDe | 0,4082 | 0,3117–0,4413 | 0,3945 |
| CD E | 0,1837 | 0,1355–0,2492 | 0,2036 |
| С “De | 0,0203 | 0,0050–0,0366 | 0,0192 |
| cDe | 0,0373 | 0,0055–0,0714 | 0,0394 |
| Cde | 0,0114 | 0,0000–0,0455 | 0,0154 |
| cdE | 0,0011 | 0,0000–0,0047 | 0,0005 |
| cde | 0,3380 | 0,2797–0,3704 | 0,3273 |
| K | 0,0203 | 0,0084–0,0517 | 0,0271 |
| P | 0,4511 | 0,3639–0,4810 | 0,4287 |
| Fya | 0,4710 | 0,3669–0,6167 | 0,4945 |
| Hpi | 0,3810 | 0,2930–0,6232 | 0,4188 |
| Gci | 0,7947 | 0,7510–0,8294 | 0,7944 |
| TIC | 0,9779 | 0,9416–0,9919 | 0,9710 |
| H(y– 1 | 0,0116 | 0,0020–0,0311 | 0,0117 |
| Bi | 0,0001 | 0,0000–0,0000 | — |
| B2 | 0,0009 | 0,0000–0,0058 | 0,0012 |
| Dchi | 0,0090 | 0,0000–0,0389 | 0,0156 |
| Dfin | 0,0005 | 0,0000–0,0031 | 0,0005 |
| Nem Ts | 0,4596 * | 0,4069–0,5620 | 0,4797 |
| * Данные получены Аллисоном и Неванлинной (1951 г.) |
большими популяционными группами внутри одной и той же нации. Частоты генов в семи сельских общинах Финляндии, насчитывающих до 10 000 жителей каждая, отличаются значительно больше, чем у финнов по сравнению с любой другой нацией. Поэтому в популяционных исследованиях все усилия должны быть направлены на получение соответствующей выборки.
То, что значительные локальные отклонения в Финляндия действительно зависят от случайного дрейфа, видно при сложении локальных выборок. Эти частоты генов очень близки суммарным финским частотам. В этой связи необходимо напомнить,
Рис. 1. Частоты группы крови В системы А ВО на территории центральной части Финляндии
1 – низкие частоты, 2 – средние частоты, 3 – высокие частоты
что до последнего времени было принято считать, что нарастание частот генов В и М с запада и юга на восток и север отражает различия в происхождении разных частей населения Финляндии. На самом же деле, характер распределения, наблюдавшийся более ранними аптропологами, по-видимому, отражает случайные отклонения, появляющиеся в несбалансированных выборках в популяции, гомогенной в другом отношении.
Отбор. По-видимому, генетики все больше и больше принимают точку зрения, что генетический полиморфизм обеспечивает любой вид – включая человеческий – богатым источником для быстрого отбора, необходимого для любой эволюции, гораздо более быстрой, чем это может дать мутация. Уже это указывает на то, что так называемые нормальные маркеры, детерминированные полиморфными генами, не могут и не должны быть свободны от селекции. Можно только сожалеть, что практически ничего но известно о направлении, силе и механизме отбора и отношении групп крови и ферментного полиморфизма. Вообще вопрос о том, возникла дифференциация по этим маркерам под действием отбора или была обусловлена причинной взаимосвязью между этими маркерами и некоторыми болезнями, как предполагает в последней монографии профессор Н. П. Эфроимсоп, остается пока открытым.
По-видимому, пока не существует однозначного и простого пути для разрешения этой проблемы. Возможно, было большое число селективных факторов, которые дали современную картину полиморфизма. Можно предполагать, что силы отбора действовали медленно и различия между этническими группами, наблюдаемые в настоящее время, действительно вызваны различиями в происхождении этих групп пли популяций. Однако даже незначительное селективное преимущество могло решительным образом изменить распространение маркера. С другой стороны, быстрое увеличение числа известных маркерных генов позволяет надеяться, что часть из них могла появиться под действием сил отбора в такие далекие времена, что изучение пространственного распределения этих маркеров даст надежные данные антропологам.
Физическая антропология. Критические замечания в отношении использования факторов крови остаются в силе и тогда, когда речь идет о признаках со сложной генетической структурой. Вместе с тем необходимо подчеркнуть большое значение любых попыток представить общую картину распространения многих признаков человека. Использование же одного признака не дает возможности сделать сколько-нибудь существенные выводы.
Отмечу одну особенность действия отбора, когда речь идет о признаках, используемых в физической антропологии. Она заключается в сознательном выборе сочетающегося браком партнера. Результаты такого рода селекции ясно видны, например, в Финляндии или в любой популяции с ограниченной миграцией на относительно быстром образовании многочисленных субпопуляций, сильно отличающихся друг от друга морфологически.
Финны. Образование западной ветви угро-финской лингвистической популяционной группы – финнов – определено по времени и локализовано археологическими находками и лингвистическими данными, но исторических сведений пока еще недостаточно. Финны являются типичной пограничной популяцией со всеми ее особенностями: обширной площадью распространения, низкой плотностью населения, а также национальной и локальной изоляцией. Эффективная изоляция частично связана также с религиозными и лингвистическими барьерами. Финский изолят сформировался в древнее время (до 1200 г. до н. э.). Существуют лишь косвенные доказательства в пользу предположения, что финны сохранили лучше, чем более ранние ветви, свой генетический состав. Прежде чем перейти к этой важной детали, хотелось бы указать на некоторые типичные отличительные особенности финнов.
Влияние иммиграции на генофонд. В последнее десятилетие в нашей стране обнаружены разнообразные группы крови, сывороточные группы и наследственные болезни, которые вызываются либо неизвестными генами, либо такими, которые спорадически появляются в других частях света. Если не вдаваться особенно в детали, распространение многих подобных генов дает только одно возможное объяснение: они возникли в результате обогащения популяции, что вызвано ограниченной и медленной первоначальной иммиграцией. В табл. 2 схематично представлен
| I | II | III | IV | V | VI | ..........t |
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | ..........2<-' |
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 2<-2 | |
| 1 | 2 | 4 | 8 | 2<-з | ||
| I | 2 | 4 | ..........2 | |||
| 1 | 2 | |||||
| 1 | ||||||
| 1 | ||||||
| 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | 63 |
механизм подобного рода обогащения. На схеме продемонстрировано, что иммиграция происходила путем медленного притока некоторого числа иммигрантов, имеющихся в каждом поколении. Далее предполагается, что число иммигрантов увеличивается на 2% в год, это удваивает популяцию в каждом поколении. После какого-то числа поколений большая часть генофонда состоит из генов, происходящих от самых первых поселенцев. Естественно, что эффект будет лучше виден на чрезвычайно редких генах, которые ранние поселенцы приобрели из тысячи разновидностей генов. Часть накопленных генов могла быть получена па последних ступенях иммиграции. Вероятность этого явления возрастает с частотой индивидуальных генов. Этот механизм рассматривается здесь потому, что, по-видимому, он мог дать нашей популяции в прошлом гораздо больше типических черт, чем опа приобрела в течение последних двух тысячелетий. В заключение необходимо напомнить, что накопление всегда компенсируется потерями: финны в процессе этой многоступенчатой иммиграции также могли потерять значительную часть более редких генов.