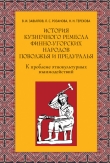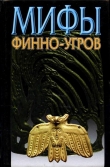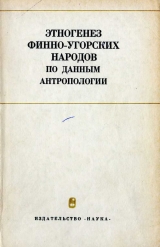
Текст книги "Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии"
Автор книги: Автор Неизвестен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Однако, если мы попытаемся проиллюстрировать реальность выделенных двух группировок с помощью подсчетов величины среднего расстояния каждой финской группы от всех остальных, нам не удастся получить одинаковые расстояния для эстонцев и финнов, для коми-пермяков, удмуртов и мордвы.
Все же заметно, что отдельные финские народы занимают несимметричное положение внутри таксономического ноля: финны, коми-пермяки и мордва отличаются в среднем от других групп по «величине» в суммарном выражении намного меньше, чем все другие народы. В случае определения средних расстояний от других групп по «форме» в число народов, отстоящих от других в наибольшей степени, попадают лопари, место коми-пермяков занимают удмурты, обе группы марийцев, наоборот, отходят на значительное расстояние.
Морфогенетический комментарий
Интерпретация полученных расстояний и их группировок невозможна без дополнительных гипотез: величина расстояний сама по себе не свидетельствует о генетических взаимоотношениях групп, и адекватная информация о последних получается лишь в том случае, если эти дополнительные гипотезы сформулированы Удачно. Одной из таких гипотез является утверждение Пенроза о том, что расстояния по «форме» более фундаментально отражают структуру таксономического поля, что они маркируют более глубокий уровень популяционной дифференциации, чем расстояния по «величине». В целом такое утверждение кажется правдоподобным. К соображениям Пенроза можно добавить, что соотношения размеров, отражающих форму, конечно, важнее с таксономической точки зрения, чем просто абсолютная величина того или иного размера, являющаяся прямой функцией роста.
В качестве второй дополнительной гипотезы, сформулированной специально для интерпретации межпопуляционных расстояний с генетической точки зрения, можно выдвинуть положение о том, что абсолютная величина расстояний прямо пропорциональна времени дивергенции популяций. Иными словами, чем больше расстояние между популяциями, тем раньше, можно предполагать, они разошлись в процессе микроэволюции. В принципе, хотя такая интерпретация никогда не была доказана, более того она заведомо неверна для отдельных признаков, накопление различий по сумме признаков все же является при прочих равных условиях функцией времени. Таким образом, от положения популяций в таксономическом поле мы приходим к относительной хронологии их временной дифференциации.
Первым этапом было выделение комплексов признаков, приуроченных к угорским и финским народам. Формирование антропологических особенностей первых прошло через две ступени выделение комплекса, свойственного уграм, и затем сходного с ним комплекса, носителями которого являются манси. В группе финских народов наиболее ранняя ступень – выделение марийцев и затем лопарей. Более поздняя ступень связана с оформлением антропологических особенностей тех двух узколокальных вариантов, о которых сказано выше: с одной стороны, эстонцев и финнов, с другой – удмуртов, мордвы и коми-пермяков. Выделение марийцев по сравнению с лопарями в качестве группы, наиболее рано отделившейся от исходного ствола, оправдано их значительным удалением от всех других финских популяций по «форме». Что касается лопарей, то многократно подчеркивавшаяся разными исследователями их морфологическая специфика не находит подтверждения в краниологических наблюдениях: по сумме признаков их удаленность от всех других финских популяций никак не больше, чем в случаях с другими группами. Среди волжско-финских народов ранняя ступень расообразования представлена комплексом, сохранившимся в составе удмуртов, среди прибалтийско-финских – комплексом, сохранившимся у эстонцев.
После всего сказанного есть смысл обсудить проблему так называемых антропологических типов в составе финно-угорских народов, схемы которых предлагались разными исследователями. При публикации материалов по краниологии финских народов мне пришлось писать о типологическом модусе изменчивости в пределах того расообразовательного локуса, который распространен в рамках финского ареала на территории Восточной Европы и в Западной Сибири (Алексеев, 1969). Конкретно этот локус был подразделен на шесть микролокусов, каждый из которых характеризуется, как мне казалось, своим набором маркирующих признаков: ланоиоидный, восточнобалтийский (эстонцы и финны), североуральский (коми-пермяки), субуральский (удмурты, марийцы, частично мордва), европеоидный узколицый (под вопросом мордва-мокша) и уральский (маиси и хапты). Предшествующий анализ не подтвердил своеобразия ланоноидного комплекса – краниологически лопари в целом же все близки к прибалтийско-финским народам. Не подтвердил он и своеобразия коми-пермяков и мордвы: первые из них во всяком случае могут быть включены в субуральскую комбинацию. Высказанное ранее сомнение в целесообразности выделения сублапонондного типа (Алексеев, 1964) подтвердилось: удмурты не обнаруживают никакой специфической близости с лопарями.
Означает ли вышесказанное, что автор отрицает все результаты предшествующих исследований, основанных на генетическом истолковании вариации отдельных признаков? Ни в коей мере. Отрицать низколицесть лопарей, например, или брахикранию удмуртов граничило бы с нелепостью, так как и то и другое представляет собой бесспорный факт. Расхождения начинаются тогда, когда речь заходит о том, как интерпретировать эти факты. Дивергенция по отдельным признакам, особенно таким, как высота лицевого скелета пли величина черепного указателя, соответствует, на мой взгляд, менее глубокому уровню дифференциации, чем та же дивергенция по сумме признаков. Все местный варианты, маркированные отдельными признаками, представляют собой поэтому лишь какую-то позднюю надстройку над уровнем более фундаментальной дифференциации, о котором сказано выше.
Последнее, о чем остается сказать, – уровень морфологической дифференциации угорских народов. Сходство манси с финскими народами по суммарным расстояниям, отражающим «форму», заставляет предполагать гетерогенность уральской группы популяций и приводит к необходимости выделить в ее составе два варианта – приуральский и зауральский. Таким образом, сказанное о типологическом модусе изменчивости в составе финно-угров сохраняет свою силу, хотя число локальных комплексов изменилось после дополнительного анализа: вместо шести сейчас можно выделить в лучшем случае четыре и именовать их восточнобалтийским, субуральским, или волжско-камским, приуральским и зауральским. Возможно, морфологическое своеобразие марийцев также должно получить таксономическое выражение.
Исторнко-этнологическнй комментарий
Если отвлечься от деталей, то новое, что привнесено предшествующим анализом в наши представления о расогенетических взаимоотношениях финно-угорских народов, сводится к двум моментам. Первый из них – сравнительно малый масштаб отличий Лопарей от других финских народов, в частности, даже и более Узко – от прибалтийско-финских народов, второй – неполное совладение расогенетической дифференциации западносибирских угорских и финских народов с языковой границей. Можно ли совместить близость лопарей но сумме краниологических признаков с соседними финскими народами с существующими гипотезами их происхождения? Полагаю, что можно. Вскрытие самодийского субстрата в протолопарском языке заставляет предполагать наличие этнических контактов с самодийскими народами, в составе которых зафиксирован темнопнгментированный брахикефальный низколицый компонент, распространенный также и у тунгусо-маньчжурских народов (Дебец, 1947, 1951; Розов, 1960; Рычков, 1961). Его влиянием легко объяснить своеобразие лопарей на фоне антропологической карты Северной Европы.
Дифференциация финно-угорских народов по размерам, отражающим «форму», произошла, очевидно, раньше, чем формирование угорской и финской ветвей в рамках финно-угорской языковой семьи. Если бы она относилась к более раннему времени, трудно было бы объяснить такой ее характер (близость манси к финнам по «форме») при наличии языкового барьера. Существует, конечно, еще одна теоретическая возможность объяснить сходство манси и финских народов по соотношениям размеров, отражающих «форму», – предположить, что далекие предки манси относились когда-то к финской ветви и лишь позже перешли на угорскую речь. Но для принятия такой гипотезы пока нет никаких данных, тем более что по генерализованным характеристикам, отражающим «величину», манси, как мы убедились, очень сходны с хантамн. Сильное влияние па свойственный им комплекс недифференцированных комбинаций также свидетельствует в пользу первой гипотезы.
Этногенетические выводы
1. Смешение было сильным и преобладающим, но не единственным фактором формирования краниологических особенностей финно-угорских народов. Наряду с ним определенную роль играло сохранение недифференцированных комплексов. Таким образом, сложение финно-угорских языков и культуры финно-угорских народов происходило в обстановке интенсивных контактов как с западом, так и с востоком. Однако на фоне этих контактов сохранялись длительное время отдельные области, находившиеся в условиях относительной изоляции.
2. Сохранение недифференцированных краниологических комплексов сильнее всего заметно в районах, непосредственно примыкающих к Уралу с запада, и в Западной Сибири, т. е. в составе угорских народов. Сильнее они выражены у манси. Это ставит на очередь специальный поиск реликтовых явлений в языке и традиционной культуре, в первую очередь манси и затем хантов.
3. Меньшая краниологическая дифференцнрованность финских народов по сравнению с угорскими свидетельствует о том, что и в более поздние эпохи межэтнические контакты играли значительно большую роль в оформлении этнического лица финнов, нежели угров. Среди факторов этнического развития последних преобладала изоляция.
4. Палеоантропологнческпй материал свидетельствует о том, что еще в позднем неолите в Приуралье проживали и европеоидные, и монголоидные формы (Дебец, 1953) и, следовательно, продолжался процесс смешения. Так как есть основания относить начало антропологической дифференциации финно-угров к более ранней эпохе, чем языковой, можно думать, что попытки удревнять начало их языковой дифференциации (Чернецов, 1969) выглядят преждевременными.
Литература
Алексеев В. П. Антропологические материалы к этногенезу марийского народа. «Труды Марийского научно-исследовательского ин-та языка, литературы и истории», вып. XIX. Йошкар-Ола, 1964.
Алексеев В. П. Происхождение народов Восточной Европы (краниологическое исследование). М., 1969.
Алексеев В. П. Лесные ненцы. Соматологические наблюдения. «Вопросы антропологии», 1971, вып. 39.
Бунак В. В. Человеческие расы и пути их образования. «Советская этнография», 1956, № 1.
Дебец Г. Ф. Селькупы. Антропологический очерк. «Труды Ин-та этнографии АН СССР», новая серия, т. II. М.—Л., 1947.
Дебец Г. Ф. Антропологические исследования в Камчатской области.
«Труды Ин-та этнографии АН СССР», повая серия, т. XVII. М., 1951. Дебец Г. Ф. К палеоантропологии Урала. «Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР», вып. XVIII. М., 1953.
Дебец Г. Ф. О путях заселения северной полосы Русской равнины и Восточной Прибалтики. «Советская этнография», 1961, № 6.
Дебец Г. Ф. Об антропологическом типе древнего населения Финляндии.
«Труды Московского об-ва испытателей природы», т. XIV. М., 1964. Розов Н. С. Антропологические исследования коренного населения Западной Сибири. «Вопросы аптроиологии», 1961, вып. 6.
Рычков Ю. Г. Материалы по антропологии западных тунгусов. «Труды Ин-та этнографии АН СССР», новая серия, т. XXI. М., 1961.
Чернецов В. Н. Опыт выделения этнокультурных ареалов в Северо-Восточной Европе и Северной Азни. «Происхождение аборигенов Сибири и их языков». Томск, 1969.
Антропологический состав восточнославянских народов и проблема их происхождения
Т. И. Алексеева
Антропологическая литература о восточных славянах очень велика, так как она создавалась на протяжении столетия. Здесь будет обращено внимание только на публикации, которые важны для дальнейших исследований и которые сохраняют свое значение в отношении материала и концепций. А. П. Богданов (1865) был первым, кто показал роль финских этнических элементов в антропологическом составе восточных славян. Е. М. Чепурконский (1913) впервые собрал очень полные антропологические данные, характеризующие основные типологические варианты, и предложил гипотезу формирования русского народа на финском субстрате с участием пришлых элементов. В. В. Бунак (1932, 1932а) разработал первую антропологическую классификацию восточнославянских народов и показал большую важность пере селений с запада, с одной стороны, и автохтонного субстрата, с другой. Т. А. Трофимова (1946) создала более детальную классификацию восточных славян и концепцию их автохтонного про похождения с участием элементов, присутствующих у финнов. Г. Ф. Дебец (1948) также защищал гипотезу автохтонного происхождения восточных славян и невозможность выделения антропологических особенностей, специфических только для славян.
Восточным славянам и роли антропологических материалов в решении вопросов их генезиса уделялось в нашей литературе очень много внимания. История их изучения освещена подробно в книге «Происхождение и этническая история русского народа», вышедшей в 1965 г. под редакцией В. В. Бунака, и в монографии автора, посвященной происхождению восточных славян. Наиболее полно и широко антропологические особенности современного восточнославянского населепия стали изучаться в 50-е годы, когда были организованы Русская антропологическая экспедиции Института этнографии АН СССР под руководством В. В. Бунакп («Происхождение и этническая история». М., 1965), «Украинская антропологическая экспедиция Украинской АН ССР под руководством В. Д. Дячепко (Дяченко, 1965), когда было изучено население Русского Севера М. В. Битовым. Белорусы обследовались во время работы Прибалтийской антрополого-этнографической экспедиции (Витов, Марк, Чебоксаров, 1959) и Украинской экспедицией и отдельными исследователями – В. В. Бунаком, Р. Я. Денисовой, В. Д. Дяченко, М. В. Битовым. Активное изучение белорусов началось несколько лет назад АН Белорусской ССР.
В течение примерно пяти лет были осуществлены планомерные, по единой программе исследования восточнославянских на родов, созданы обширные коллекции фотопортретов.
В результате многочисленных археологических экспедиции более чем вдвое увеличились палеоантропологические материалы по восточным славянам. Изучение их нашло отражение в работах В. В. Седова (1952, 1970), В. П. Алексеева (1969), М. С. Велика новой (1964, 1965), Т. И. Алексеевой (I960, 1961, 1963, 1966), Г. П. Зиневич (1962). Можно с большой пли меньшей степенью уверенности считать законченной групповую характеристику восточнославянского населения, на очереди дня – исследование популяций.
Если сопоставление данных разных исследователей, полученных на краниологических сериях, в общем не вызывает вопросов, то в отношении современных материалов их более чем достаточно. И основной среди них – в какой степени сравнимы результаты, полученные разными авторами? Особенно ото касается сопоставимости качественных признаков. Применяемые до сих пор способы коннексии данных разных авторов не дали сколько-нибудь обнадеживающих результатов («Происхождение и этническая история. 1965). По-видимому, объективизация методики определения описательных признаков возможна лишь при использовании фотопортретов, что представляется делом ближайшего будущего. В настоящее же время приходится довольствоваться менее объективным методом, применение которого, однако, оправдано, так как он позволяет приводить данные разных авторов к данным одного автора.
Один из приемов коннексии был применен мною с целью нивелировки методических различий между авторами, изучающими антропологический состав населения Восточной Европы и восточных славян в частности. В связи с необходимостью определения места восточных славян на антропологической карте Восточной Европы после коннексии были проанализированы соматологпческие материалы с этой территории. В результате удалось выделить несколько комплексов, в основе которых лежат черты, присущие населению той или иной территории. Комплексы представляют собой обобщенные характеристики, без дифференциации на более дробные антропологические типы. Подробное описание этих комплексов уже дано («Происхождение и этническая история. . .», 1965), здесь позволю себе остановиться лишь па их локализации.
Прибалтийский комплекс локализуется в нижнем течении Немана, по Вейте и нижнему течению Западной Двины, в бассейне Гауи, на побережье Финского залива, в районе Чудского озера и Нарвы. В наиболее четкой форме он выявляется среди западных групп эстонцев и латышей.
Белозерско-камский комплекс распространен в районе Белозера, в верховьях Онеги, по Северной Двипе и ее притокам, в среднем течении Вятки и Камы. Наиболее характерные представители – вепсы и коми.
Валдайско-верхнеднепровский комплекс широко распространен по всему Двинско-Припятскому междуречью, в среднем течении Западной Двины. в низовьях Немана, на левом берегу Припяти, в верховьях Днепра, по Березине, Сожу и Ипути. Характерные представители – литовцы, белорусы и русское население верховьев Днепра ti истоков Волги.
Центрально-восточноевропейский комплекс локализуется по Оке и ее притокам, в верховьях Дона, по Клязьме, в верхнем и среднем течении Волги, по Пне, Ворскле, верховьям Хопра и Медведицы. Характерные представители – русские.
Приднепровский комплекс распространен в среднем течении Днепра и по его притокам Десне, Суле, Пслу, Ворскле, Тетереву и Роси, по Сейму и в верхнем течении Южного Буга, Стыри, Горыни, Случа и Збруча. Наиболее характерные представители – украинцы.
Степной комплекс проявляется в русском населении среднего течения Хопра и Дона и в некоторых тюркоязычных группах правобережья Волги, в частности у мишарей.
Волго-камский и приуральский комплексы. Первый локализуется в Ветлужско-Вятском междуречье, в верховьях Камы, по Белой и частично в среднем течении Волги. Второй в основном распространен за Уральским хребтом, на территории Восточной Европы он выступает в Тавда-Кондинском междуречье. Черты этих комплексов присущи чувашам, марийцам, удмуртам, коми-зыряпам и комп-пермякам, некоторым группам татар Поволжья, хаптам, мапси и лопарям Кольского полуострова.
Из перечисленных антропологических комплексов наибольшее распространение среди восточнославянского населения имеют три: валдайско-верхнеднепровскнй – у белорусов и их русских соседей, центрально-восточноевропейский – у большинства русских групп и приднепровский – у украинцев. Остальные комплексы, отмеченные на территории Восточной Европы, обнаруживаются в славянском населении преимущественно в контактных зонах. Рассмотрение территориальных вариантов в антропологическом составе современного восточнославянского населения показало, что но всему комплексу расоводиагностических черт русские и белорусы тяготеют к северо-западным группам, украинцы – к южным. Эти комплексы были выделены на основании географического принципа, в котором единственным критерием достоверности является географическая приуроченность антропологического типа. В связи с тем, что анализируемые группы более или менее равномерно распределяются по территории Восточной Европы, и в связи с их многочисленностью географический метод исследования представляется наиболее целесообразным.
В то же время нельзя пе признать необходимость применения в некоторых случаях и более объективных методических приемов. Так, па примере русских верхпеволжской линии показано совпадение результатов географического метода и метода «обобщенного расстояния» Махалапобиса в модификации М. В. Игнатьева (Игнатьев, Пугачева, 1961). Весьма близкая картина получена И. Швидецкой, применившей метод Пенроза в редакции Кнус-смапа к материалам Русской антропологической экспедиции. По методу Пенроза не получил подтверждения лишь валдайско-верхпедпенровскии комплекс, что вызывает недоумение, так как характерная для него комбинация признаков, известная в литературе под названием «валдайского» типа, выделялась на Валдае и в верхнем Приднепровье разными авторами на протяжении более полувека. Что касается остальных комплексов в восточнославянском населении, то их достоверность подтверждается и статистическими методами.
В чем же причина антропологических различий между восточнославянскими народами и их отдельными группами? Прежде нем ответить на этот вопрос, обратимся к более ранним эпохам, к истокам тех антропологических особенностей, которые характерны для современных восточных славян.
Результаты анализа краниологических серий по славянским племенам средневековья показали определенную антропологическую общность славян, характеризующуюся специфическими пропорциями лицевого и мозгового отделов черепа. К числу наиболее отличительных черт принадлежит относительная широколицесть, распространенная в междуречье Одера и Дпепра. По направлению к западу, югу и востоку от этой территории величина скулового диаметра убывает за счет смешения с германскими (на западе), финно-угорскими группами (на востоке) и населением Балканского полуострова (на юге). Специфические пропорции черепа дифференцируют славян и германцев и в то же время сближают первых с балтами (Алексеева, 1966).
Сопоставление славянских краниологических серий эпохи средневековья с более древними антропологическими материалами показало, что зона относительной широколицести лежит на стыке мезокранных и долпхокранных форм предшествующих эпох. Территориальная дифференциация этих форм делает возможным предположение о сложении древних славян на базе северных н южных европеоидов. Долихокранный аналог славян – неолитические племена культуры шнуровой керамики и боевых топоров (которые, как известно, рассматриваются в качестве предковой формы для балтов), мезокранный аналог – неолитические же племена культуры колоколовидных кубков (Алексеева, 1971). Проявление относительно широколицых долихокефальных форм прослеживается в средневековом населении Восточно-Европейской равнины, с явным уменьшением их удельного веса по направлению с запада на восток; мезокефальный же вариант отчетливо» заметен в средневековом населении Украины. По только ли этим объясняются антропологические различия между восточнославянскими народами? Антропологические особенности дославянского населения Восточной Европы очень разнообразны. Обращает на себя внимание редчайший полиморфизм финно-угорских групп, антропологическая обособленность населения салтово-маяцкой культуры, генетические связи черняховцев, физические черты кочевников.
В облике средневековых восточных славян достаточно отчетливо проступают особенности субстрата (Алексеева, 1971). Так, Например, вятичи и северо-восточные кривичи в антропологическом отношении могут рассматриваться как ославяненное узколицее восточиофииское население Волго-Окского междуречья; финский же субстрат, но в широколицем варианте, проявляется в словенах новгородских; поляне по сути дела представляют собой непосредственных потомков черняховцев; балтийский субстрат получил отражение в группах радимичей и дреговичей. Участие всех этих племен в сложении восточнославянских народов бесспорно следовательно, бесспорно и проявление в последних дославянского субстрата.
Сопоставление средневекового и современного восточнославянского населения по характеру эпохальных изменений выявляет преемственность населения на одних территориях и смену – на других. Преемственность обнаружена для следующих этнических и территориальных групп: белорусы—дреговичи, радимичи, западные кривичи; украинцы – тиверцы, уличи, древляне, волыияпе, поляне; русские Десно-Сенмииского треугольника – северяне; русские верховьев Днепра и Волги, бассейна Оки и Псковско-Ильменского поозерья – западные кривичи и словене новгородские.
В отношении Волго-Окского бассейна обнаруживается изменение антропологического состава по сравнению со средневековьем за счет прилива славянского населения из северо-западных областей, по-видимому в эпоху позднего средневековья.
Контакты с финно-угорским населением в современную эпоху заметны на севере Восточной Европы и в Среднем Поволжье.
Перенося данные, полученные для современного населения тех областей, где намечается преемственность, в глубь времен, можно более или менее определенно утверждать, что средневековые восточные славяне относились к разным ветвям европеоидной расы. Словене новгородские, западные кривичи, радимичи, дреговичи и, возможно, волыняне – к кругу северных европеоидов, древляне, тиверцы, уличи и поляне – к кругу южных.
Как же в общих чертах рисуется генезис русских, белорусов и украинцев?
Расселение славян в Восточную Европу осуществлялось из Центральной Европы. Здесь были представлены долихокранные относительно широколицые северные и мезокранные также относительно широколицые южные формы. Первые больше проявляются в племенах, связанных с генезисом белорусов и русских, вторые – украинцев. По мере своего продвижения они включали в свой состав аборигенное финно-, балто– и ираноязычное население. В юго-восточных районах расселения славяне вступили в контакт ii с кочевническими тюркоязычными группами. Антропологический состав восточных славян эпохи средневековья в большей мере отражает участие местных форм, нежели в последующие века. По-видимому, некоторые славянские группы средневековья, например вятичи и восточные кривичи, представляли собой не столько славян, сколько ассимилированное славянами финское население. Примерно то же можно сказать и в отношении полян, которых есть основание рассматривать как ассимилированных черняховцев.
В последующие пека наблюдается прилив славянского населения, в какой-то мере нивелирующий антропологические различия между отдельными восточнославянскими группами. Однако и антропологическая неоднородность субстрата, и некоторые различия в исходных формах, и специфика этнической истории не хоглп не отразиться на физическом облике восточнославянских народов.
Русские в настоящее время оказываются более или менее гомогенным в антропологическом отношении народом, генетически связанным с северо-западным и западным населением, и впитавшим в себя черты местного финно-угорского субстрата. Выделяемые в нем антропологические варианты, кроме контактных зон, по-видимому, связаны с величиной круга брачных связей, а не с различными генетическими истоками.
Что касается финно-угорского субстрата в восточных славянах, то в средневековье он проявляется у вятичей и северо-восточных кривичей – племен, принимавших участие в сложении русского народа. Вятичи, отражая черты финно-угорского населения Восточно-Европейской равнины, через дьяковцев восходят к неолитическому населению этой территории, известному по единичным, правда грацильным, европеоидным черепам из Володарской и Панфиловской стоянок. Северо-восточпые кривичи обнаруживают особенности, характерные для неолитического населения культуры ямочно-гребенчатой керамики лесной полосы Восточной Европы. Черты финно-угорского субстрата прослеживаются в антропологическом облике русского народа, но удельный вес их в современном населении меньше, чем в эпоху средневековья. Это объясняется распространением славянского населения с западных и северо-западных территорий, по-видимому, в эпоху позднего средневековья.
Украинцы, будучи связаны в своем генезисе со средневековыми тиверцами, уличами и древлянами, включили в свой антропологический состав черты среднеевропейского субстрата – относительно широколицего, мезокранного, известного по неолитическим племенам культуры колоколовидных кубков и населению I тысячелетия до н. э. левобережья Дуная.
В то же время, учитывая их антропологическое сходство с полянами, можно сделать заключение, что в сложении физического облика украинского народа принимали участие, наряду со славянскими элементами, элементы дославянского субстрата, по-видимому ираноязычного. Как уже было отмечено, поляне представляют собой непосредственных потомков черняховцев, которые, в свою очередь, обнаруживают аптропологичсскую преемственность со скифами лесной полосы (Алексеева, 1971).
Белорусы, судя по сходству их физического облика с дреговичами, радимичами и полоцкими кривичами, формировались на базе той ветви славянских племен, которая связана с северной частью славянской прародины. В то же время территориальная дифференциация антропологического состава белорусов допускает предположение об участии в их генезисе балтов, с одной сторону и восточнославянских племен более южных территорий, в частности Волыни, с другой.
Литература
Алексеев В. П. Происхождение народов Восточной Европы (краниологическое исследование). М., 1069.
Алексеева Т. II. Антропологическая характеристика славянских племен бассейнов Днепра и Оки в эпоху средневековья (предварительное сообщение). «Вопросы антропологии», 1961, вып. 1.
Алексеева Т. П. Краниология средневекового населения верховьев бассейнов Волги и Днепра (предварительное сообщение). «Вопросы антропологии», 1961, № 8.
Алексеева Т. II. Некоторые новые материалы по краниологии северо-западных областей Восточной Европы в эпоху средневековья. «Труды Ин-та этнографии АН СССР», новая серия, т. 82. М., 1963.
Алексеева Т. II. Славяне и их соседи по антропологическим данным. «Antropologi«». Praha, IV/2, 1966.
Алексеева Т. И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. «Советская этнография», 1971, № 2.
Богданов А. Курганное племя Московской губернии. М., 1865.
Великанова М. С. К антропологии средневековых славян Прутско-Днестровского междуречья. «Советская этнография», 1964, № 6.
Великанова М. С. Об одной группе средневекового населения Молдавии но антропологическим данным. «Советская этнография», 1965, № 6.
Битов М. В., Марк К. Ю., Чебоксаров H. Н. Этническая антропология Восточной Прибалтики. «Труды Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции», т. 2. М., 1952.
Дебец Г. Ф. Палеоантропология СССР. «Труды Ин-та этнографии АН СССР», новая серия, т. IV. М.—Л., 1948.
Дяченко В. Д. Антропологiчппй склад украiнського народу. Киiв, 1965.