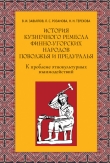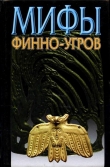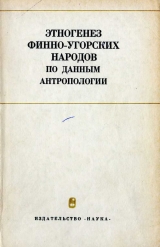
Текст книги "Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии"
Автор книги: Автор Неизвестен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
Соматологические материалы к проблеме этногенеза финно-угорских народов
К. Ю. Марк
По вопросам, где и когда существовала прародина финно-угорских племен и какой расовой принадлежности могли быть эти племена, имеется много различных теорий. Эти и другие сложные вопросы этногенеза автор делает попытку осветить на основе соматологических материалов.
О соматологических особенностях отдельных финно-угорских народов имеется довольно обширная специальная литература. Однако трудно на ее основе дать хороший антропологический обзор финно-угров, поскольку данные разных авторов не всегда сопоставимы. Вследствие этого возникла необходимость собрать весь соматологический материал по финно-угорским народам по единой программе и единой методике силами одного исследователя. Я и предприняла попытку сделать это.
Материал для этой работы собирался в течение 18 лет (с 1955 по 1972 г.). Все антропологические измерения и описания выполнялись мной лично. Были обследованы все финно-угорские народы, живущие в СССР и в Финляндии. Наряду с соматологическим обследованием финно-угорских народов были собраны также сравнительные материалы по их соседям.
Материал подразделен по этническим и территориальным группам. Каждая группа состоит в среднем из 100 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет. В целом собранный мною новый соматологический материал охватывает 127 этнических и территориальных групп, в том числе 106 групп финно-угорских народов. При описании финно-угорских народов признаки первого порядка приобретают особое значение, так как с их помощью легче установить, относятся ли эти народы к европеоидным, монголоидным или переходным формам. К таким признакам относятся, в частности, некоторые морфологические признаки лица – рост бороды, горизонтальная профилировка лица, выступание скул, положение глазной щели, частота эпикантуса, высота переносья, горизонтальная профилировка переносья и профиль верхней губы.
В большинстве случаев мы можем говорить о большей или меньшей монголоидной примеси у большинства финно-угорских народов. Чтобы точнее определить степень этой примеси, был применен специальный индекс, названный «индексом монголоидности», который связывает восемь вышеназванных важнейших признаков. Явные межгрупповые корреляции между этими признаками позволяют оценивать их по этому индексу суммарно. Примерная пограничная величина между типичными европеоидами и монголоидами определяется путем сопоставления данных индекса монголоидности с данными индекса общей уплощенности лица. Последний индекс был введен в употребление Г. Ф. Дебецом на основе краниологических материалов. Этот индекс включает в себя пять основных признаков, которые отличают черепа монголоидов от европеоидов.
Ориентировочно группы, где монголоидный индекс ниже 20, могут считаться абсолютно европеоидными, без монголоидной примеси. Среди прибалтийских народов к их числу относятся западные эстонцы, а также западные и южные финны. Аналогичные группы есть n среди мордвы-эрзи. Все эти группы столь же европеоидпы, как шведы, живущие па территории Финляндии, или русские Поволжья.
Если мы причислим к европеоидам также группы со слабой монголоидной примесью, то увидим, что к ним относятся в первую очередь прибалтийско-финские народы, большая часть мордвы и в меньшей степени коми-зыряне. К ней относятся также венгры.
У остальных финно-угорских народов, так же как и у части мордвы-мокши, марийцев, удмуртов, коми-пермяков, части коми-зырян и лопарей, монголоидная примесь выражена сильнее. У западносибирских хантов и манси монголоидный компонент вообще имеет перевес. Названные финно-угорские народы должны быть отнесены к уральской расе, основные признаки которой стоят посредине между монголоидной и европеоидной большими расами.
Общеизвестно, что очень темная пигментация волос и глаз характерна для монголоидной расы. Но к уральской расе это применимо не в полной мере. Если тюркские народы Поволжья (чуваши, татары и башкиры) имеют наряду с сильно выраженными монголоидными чертами также и темную пигментацию, то эта корреляция у финно-угорских народов менее ощутима. Увеличение монголоидной примеси не обусловливает у финно-угров столь темной пигментации.
Если монголоидная примесь у финно-угров слабая (как у части прибалтийских финнов, у коми и мордвы-эрзи), то о темной пигментации, по сравнению с чисто европеоидными группами, вообще не может быть речи, часто дело обстоит даже наоборот. Существенно, что некоторые группы в Восточной Финляндии и Восточной Эстонии, у которых нельзя отрицать известной доли монголоидных черт, отличаются от других исследованных групп особо светлой пигментацией глаз и волос.
Очевидно, депигментация в Восточной Европе произошла в уже смешанных группах, которые сохранили некоторые монголоидные черты от очень древних времен.
Наибольшее распространение среди финно-угорских народов имеет уральская раса. Ее ареал охватывает Западную Сибирь, Среднее Поволжье, прилегающие к Уралу территории и север Европейской части СССР. Вероятнее всего, уральская раса представляет собой промежуточную форму между монголоидами и европеоидами. Она характеризуется средне-темным или темным цветом волос, относительно малой длиной тела и относительно часто встречающейся вогнутой спинкой носа.
Раньше уральская раса имела еще большее распространение в восточноевропейской лесной полосе. Древние формы уральской расы, которые находим преимущественно в эпоху неолита (III– II тысячелетия до и. э.) у носителей культуры ямочно-гребенчатой керамики, а частично – в период позднего мезолита в тех же областях, представляли собой, как и сегодня, контактную группу между европеоидами и монголоидами.
Что касается признаков второго порядка, то древнейшие формы уральской расы брахикранны или мезокранны, имеют сравнительно широкое и низкое лицо. Поскольку они напоминают современный лапоноидный и сублапоноидный типы, то мы называем древнейшие формы уральской расы протолапопоидным типом.
Уральская раса подразделяется на ряд антропологических типов. Обский (или уральский) тип, распространенный у хантов и манси в Западной Сибири, а также у самодийцев, отличается от других типов уральской расы прежде всего преобладанием монголоидных элементов над европеоидными. Цвет волос и глаз темнее, чем у европеоидов, но не очень темен. Голова по большей части умеренно мезокефальная или брахикефальная, лицо относительно широкое и низкое. Для этого типа особенно характерна вогнутая спинка носа. В других типах уральской расы преобладают европеоидные элементы, но монголоидная примесь достаточно явно ощутима. При этом волосы и глаза несколько светлее. Сюда относятся лапоноидный, сублапоноидный и субуральский типы, разница между которыми проявляется преимущественно в пропорциях головы и частей лица.
Лапоноидный тип характерен для лопарей. Особенность его очень низкое лицо и брахикефалия.
Сублапоноидный (или волго-камский) тип встречается у мари, удмуртов, коми-пермяков и отчасти у коми-зырян. Он имеет более высокое лицо и менее выраженную брахикефалию.
Субуральский тип, распространенный у части мордвы-мокши, характеризуется относительной длинноголовостью и довольно высоким лицом в пределах уральской расы.
Помимо уральской расы среди финских народов представлены разные варианты беломорско-балтийской расы. Эта раса занимает довольно обширную территорию в северной части Восточной Европы от Восточной Финляндии и восточной части Эстонии до Урала. Она отличается светлым и очень светлым цветом волос и глаз. При этом на территории ее распространения констатируется наличие слабой монголоидной примеси. Длина тела обычно средняя и выше средней. Волосы преимущественно прямые, спинка носа часто вогнутая, как в уральской расе. Беломорскобалтийская раса подразделяется на восточнобалтийский и беломорский типы.
Восточнобалтийский тип распространен у большинства прибалтийско-финских народов и отчасти у коми-зыряп. Кое-где он встречается и у соседних с ними русских и латышей. Этот тип характеризуется умеренной короткоголовостью и относительно широким и низким лицом.
Беломорский тип меньше распространен у финно-угорских народов, он встречается преимущественно у далеко расселенных на север коми-зырян, в некоторых местах – у карел. Более характерен он для русских северных районов Восточной Европы. В отличие от восточнобалтийского типа у беломорского типа голова длиннее, лицо уже, длина тела несколько большая.
Основной ареал атлапто-балтийской расы простирается через Скандинавский полуостров, захватывая западную и южную части Финляндии, а также запад Эстонии и Латвии. Кроме того, один из типов атлапто-балтийской расы распространен па среднем течении Волги, особенно у мордвы-эрзи. По пигментации эта раса не имеет существенных отличий от беломорско-балтийской.
В обоих случаях наблюдаются светлые или очень светлые волосы, но в атланто-балтийской расе нет монголоидной примеси. Вогнутая спинка носа встречается редко. Длина тела большая, голова чаще мезокефальная, лицо относительно узкое и высокое.
На территории распространения атланто-балтийской расы можно также выделить отдельные антропологические типы. Скандинавский тип, которому особепно хорошо соответствует данное выше описание, характерен для шведов и финнов западной и южной частей Финляндии. Западнобалтийский тип, не отличающийся выраженной долихокефалией и имеющий более широкое лицо, распространен в западных районах Эстонской и Латвийской ССР, а также у ливов. Как сказано, в среднем течении Волги встречается еще один тип атланто-балтийской расы, который мы называем сурским. Он характерен для большей части мордвы-эрзи. Здесь отмечается мезокефалия, относительно узкое лицо, но не столь высокое, как у скандинавского тина. Не так велика длина тела, но тем не менее в сурском типе она всегда выше средней.
Темнопигментированный южиоевропейский тип вообще не встречается у финно-угорских народов. Даже среднепигментпро-ванная центральноевропейская раса занимает только южную окранпу ареала этих народов. К ней относятся южные мордва-мокша и некоторые группы мордвы-эрзи, так же как и русские Поволжья. Длина тела у них обычно средняя или выше средней, преобладает мезокефалия, лицо узкое. Довольно часто встречаются волнистые волосы. Все это позволяет отнести названные группы к северопонтийскому типу. К центральноевропейской расе, видимо, принадлежит и часть венгров, во всяком случае в Закарпатье. Но поскольку для них характерна брахикефалия и относительно широкое и низкое лицо, то в этом случае мы имеем дело с карпатским типом.
Таким образом, как центральноевропейская, так и атлантобалтийская расы весьма незначительно распространены у финно-угорских народов, и это можно объяснить только смешением с другими народами.
В настоящее время подавляющее большинство советских археологов придерживается точки зрения, что первоначальной родиной финно-угорских и самодийских племен была область Уральских гор. Новые результаты исследований П. Хайду показывают, что эта идея не противоречит данным лингвистики. По мнению П. Хайду, территория древнего расселения уральских племен в VI—IV тысячелетиях до н. э. лежала в Уральских горах между нижним течением Оби и верхним течением Печоры.
Это мнение согласуется с предположением антропологов, что финно-угорские племена должны были принадлежать к древнейшим формам уральской расы, поскольку уральская раса, по всей вероятности, сформировалась в областях, прилегающих к Уральским горам, которые издревле были зоной контакта между европеоидами и монголоидами. Можно считать, что пришедший с востока поток переселенцев, от которых монголоидная примесь вошла в состав населения восточноевропейской лесной зоны, означал распространение финно-угорских племен на этой территории.
В образовании уральской расы первоначально приняли участие различные компоненты. О языковой принадлежности этих компонентов могут быть сделаны только предположения. Не исключено, что древнейшее население территории Урала, возможно связанное с позднепалеолитическими племенами сибирского происхождения, могло говорить на уральских праязыках.
В Уральских горах, а отчасти и в восточноевропейской лесной зоне, эти монголоиды рано смешались с европеоидами, среди которых, вероятно, уже находились ранние индоевропейские племена. Во всяком случае, таким образом могут быть объяснены контакты уральских языков с индоевропейским. Если принять во внимание, что население с монголоидной примесью начало появляться в западных частях восточноевропейской лесной полосы уже в V—IV тысячелетиях до и. э., то можно предполагать, что финно-угорские племена в это время, если уже не раньше, начали распространяться с территории Урала, все более расширяя свой ареал.
В III—II тысячелетиях до н. э. протолапонондный тип был распространен уже почти везде, где известны в более позднее время поселения финно-угров. Наличие представителей прото-европеоидного типа среди них можно считать наследием более раннего населения южного происхождения. В начале II тысячелетия до н. э. в восточноевропейскую лесную зону с юга начали проникать различные племена скотоводов. В Восточной Прибалтике появились племена – носители культуры ладьевидных топоров, которые, но общему мнению, были балтийскими племенами, в Волго-Окской области – носители фатьяновской культуры, вероятно этнически родственные вышеупомянутым племенам. Для черепов из могильников названных культур характерен один из вариантов протоевропейских типов. Смешение с этими племенами, видимо, повысило удельный вес европеоидного эле мента в составе прибалтийских финнов и у предков мордвы. Таким путем может быть объяснено возникновение атлантобалтийской расы. В Финляндию позже проникли элементы скандинавского происхождения, благодаря чему там возникло значительное сходство со скандинавским типом.
С середины II тысячелетия до н. э. к восточным финно-угорским племенам примешивались индоевропейские племена, особенно иранские. Видимо, благодаря влиянию племен—носителей срубной культуры мордовские группы получили примесь европеоидных элементов с темной пигментацией, которые способствовали образованию в этой области морфологического комплекса, сходного по характеристике с центральноевропейской расой. На Южном Урале и в южных частях Западной Сибири для местных угорских племен играли, видимо, аналогичную роль племена андроновской культуры.
Беломорско-балтийская раса, по-видимому, первоначально сложилась в результате смешения протолапоноидного типа с протоевропеоидным. Позже (с середины I тысячелетня до н. э.) на занимаемой ею территории уже сказалось влияние славянских племен, благодаря чему сложился беломорский тип; видимо, в связи с этим же влиянием и восточнобалтийский тип стал более грацильным и европеоидным.
Как видно из вышеизложенного, для большой части финно-угорских народов и сегодня характерны типы уральской расы.
Литература
Ауль Ю. Антропология эстонцев. «Ученые записки Тартуского государственного ун-та», вып. 158. Тарту, 1964.
Бунак В. В. Антропологический тип черемис. «Русский антропологический журнал», т. 13, вып. 3–4, 1924.
Бунак В. В. Антропологический тип мордвы. «Русский антропологический журнал», т. 13, вып. 3–4, 1924.
Витов М. В. Антропологическая характеристика населения Восточной Прибалтики. «Труды Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции», т. 1. М., 1959.
Витов М. В., Марк К. Ю., Чебоксаров H. II. Этническая антропология Восточной Прибалтики. «Труды Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции», т. 2. М., 1959.
Гремяцкий М. А. Антропологический тип инвенских коми (пермяков). «Ученые запискп МГУ», вып. 63. М., 1941.
Дебец Г. Ф. Вепсы. «Ученые записки МГУ», вып. 03. М., 1941.
Дебец Г. Ф. О путях заселения северной полосы Русской равнины и Восточной Прибалтики. «Советская этнография», 1961, № 6.
Денисова Р. Я. Антропологический тип ливов. «Труды Ин-та этнографии», т. XXXII, 1956.
Денисова Р. Я. К вопросу об антропологическом составе восточных латышей и восточных литовцев. «Известия АН Латвийской ССР». Рига, 1958, № 2.
Зенкевич П. II. Характеристика восточных финнов. «Ученые записки МГУ», вып. 63. М., 1941.
Зенкевич П. И. Антропологические исследования в Удмуртской АССР. «Краткие сообщения о научных работах Ин-та и Музея антропологии МГУ за 1938–1939 гг.». М., 1941.
Золотарев Д. А. Кольские лопари. Л., 1927.
Золотарев Д. А. Обзор русских антропологических работ по финно-угорскому населению СССР. «Финно-угорский сборник». Л., 1928.
Марк К. Ю. Этническая антропология мордвы. «Вопросы этнической истории мордовского народа». Труды Ин-та этнографии АП СССР», т. XIII. М., 1960.
Марк К. Ю. Современная антропология марийцев в связи с вопросом этногенеза мари. «Происхождение марийского народа». Йошкар-Ола, 1967.
Третьяков П. И. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.—Л., 1966.
Трофимова Т. А. и Чебоксаров И. II. Антропологическое изучение манси. «Краткие сообщения Ин-та истории Материальной культуры», т. IX. Л., 1941.
Чебоксаров И. Н. Этногенез коми по данным антропологии. «Советская этнография», 1946, № 2.
Чебоксаров Н. //. Новые данные но этнической антропологии Советской Прибалтики. «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. XXIII. М., 1954.
Hajdii Р. Uber die alten Siedlungsräume der uralischen Sprachfamilie. «Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricao», t. XIV, f. 1–2. Budapest, 1964.
Mark K. Zur Herkunft der finnisch-ugrischen Völker vom Standpunkt der Anthropologie. Tallinn, 1970.
Bunak V. Neues Material zur Aussonderung anthropologischer Typen unter der Bevölkerung Osteuropas. «Zeitschrift für Morphologie und Anthropologie», В. XXX, H. 3, 1932.
Проблема происхождения финно-угров по данным археологии
К. Ф. Мейнандер
Попытаемся вначале объяснить, что мы имеем в виду под финно-угорскими народами, с одной стороны, и под их происхождением – с другой. Финно-угры – термин языковый и кроме этого не имеет другого смыслового значения. В метафорическом смысле этот термин употребляется также для определения народностей, говорящих на языках финно-угорской группы, но в этих случаях ясно подразумевается, что так называемые народы финно-угорской группы во всяком случае не образуют культурного, политического или расового единства в большей степени, чем народы индоевропейской группы. Этот термин применяется также и по отношению к так называемым «протонародам».
Высказывалось мнение, что существующие финно-угорские языки могли возникнуть из более древних и примитивных языковых форм, происхождение которых в конечном итоге может быть выведено из одного языка-основы. Племена, говорившие, как полагают, па этом языке-основе, были названы протофинно-уграми. Убеждение это было настолько сильным, что делались попытки обозначить па карте места расселения протофинно-угров, а все народы, говорящие в наши дни на языках этой группы, считались и в чисто генетическом смысле их потомками.
Не будет поэтому ошибкой, говоря о происхождении финно-угров, вначале определить их географическое местоположение и хронологический период, в котором, по нашему мнению, жили протофинно-угры, а затем по данным археологии попытаться охарактеризовать их культуру, а с помощью антропологии установить их физический тип.
В этой связи, однако, мы часто упускаем из вида, что так называемый язык-основа – гипотетическое понятие, аккумулирующее и связывающее общие характеристики отдельных живущих языков. У нас нет гарантии существования ни такого языка-ос новы, ни каких-либо протофинно-угров, которые якобы говорили на этом языке. Весьма вероятно, что общность или сходство между языками финно-угорской группы может оказаться совсем другого характера, нежели то, на котором делается акцент в так называемой теории генеалогического древа.
По мнению наиболее известных приверженцев теории генеалогического древа, протофинно-угры жили около 3 тысяч лет до и. э. на Средней Волге. В качестве одного из подкрепляющих эту теорию аргументов выдвигается связь между финно-угорским праязыком и ранними языковыми формами народов индоевропейской группы. Предполагается, что с этой своей исходной территории протофинно-угры двигались в разных направлениях, осваивая новые земли, причем процесс этот шел одновременно с возникновением на основе финно-угорского праязыка отдельных диалектов, сформировавшихся с течением времени в самостоятельные языки. С другой стороны, теория генеалогического древа не дает ответа на вопрос о том, каковы были причины исторического или общественного характера, вызывавшие движение и расселение древних финно-угров. Остается неясным, почему именно потомки этих древних племен постепенно добились такой гегемонии. Ведь на огромной территории северо-восточной части Европы от Урала до Ботнического залива, от Северного Ледовитого океана и до рубежа, который можно провести по параллели Казань – Рига, не существует никаких лингвистических следов других языков, кроме языков финно-угорских и самодийских.
Мы можем в качестве исходной взять другую теорию, а не модель генеалогического древа. Согласно этой теории, на всей территории северо-востока Европы, включая современную Финляндию и восточноприбалтийские страны, начиная с раннего каменного века обитало множество мелких групп, каждая с собственным языком или диалектом.
Лингвистические новообразования, фонетические и синтаксические неологизмы распространялись по всей этой территории подобно тому, как расходятся волны от брошенного в спокойную воду камня. Даже если каждое соединение, каждая популяция были достаточно замкнутыми и с точки зрения средств к существованию не зависели от соседних и удаленных популяций, они встречались с ними. Соседи заключали между собой брачные союзы, обращались за помощью к шаманам соседних племен, обменивались тогдашними предметами роскоши. В связи с этим возникла необходимость учить, по крайней мере в минимальном объеме, язык других групп, что вело к расширению словарного запаса и обновлению собственного языка. Такое явление названо в лингвистике теорией волны. Если мы примем эту модель за основу развития языков, все рассуждения о протофинно-уграх теряют всякий смысл.
Сто лет назад, в период возникновения теории генеалогического древа, лингвистические группы и народности считались еще чем-то существовавшим вечно, почти как в Ветхом завете: в конечном итоге все народы произошли от одного человека. Мы рассматриваем народы и языки как продукты исторического и культурного процессов развития. Даже если мы согласимся с теорией финно-угорского генеалогического древа, необходимо помнить, что это прежде всего теория лингвистическая.
В настоящее время даже самые убежденные сторонники генеалогической теории едва ли станут считать, что финно-угорские народы произошли в физическом смысле от одного протонарода. Наиболее характерным примером этого могут служить венгры (мадьяры); вместе с тем пример мадьяр свидетельствует о том, что такое положение может распространяться на все народы финно-угорской группы: их физическое сходство не обязательно влечет за собой общность языка.
В этой связи мне бы хотелось привести пример ренационализации, который, как я полагаю, мог бы проиллюстрировать развитие этого процесса, особенно когда он затрагивает две настолько близкие в лингвистическом и культурном отношениях популяции, что можно говорить об их общности. В начале XVII в. на севере Финляндии, в так называемом районе Кеми Лаппмерк, жили почти одни лопари, занимавшиеся рыболовством и оленеводством в его относительно примитивной форме. Они вели полукочевой образ жизни, имея стационарные зимние поселения. В течение XVII в. финны завершили освоение этого района, в результате чего здесь начало внедряться земледелие. В течение двух поколений лопари оказались настолько полно ассимилированными, что их язык, равно как религия и экономический уклад, полностью исчезли. Речь идет не о физическом истреблении лопарей, а об исчезновении их культуры и языка.
Физический тип лопаря выжил, став частью финской популяции и проявляясь в ней в довольно высокой степени. Вместе с тем возник вакуум в экономическом укладе страны – никто пе стал заниматься разведением северных оленей, что раньше было прерогативой лопарей. Как результат этого последовала иммиграция в страну оленеводов с запада – лопарей из Швеции, которые сформировали здесь новую лопарскую популяцию.
Этот пример кажется весьма поучительным, так как, видимо, именно так южные финны, занимавшиеся сельским хозяйством, завоевали население, проживавшее в лесной глуши Финляндии. Постепенно они ассимилировали местное население, как бы мы ни называли его – лопарями или исконным населением. Это должно было отразиться на генотипе новых поколений. Хотя побеждающая популяция является господствующей в экономическом, культурном и политическом отношениях, различия между популяциями настолько малы, что между ними устанавливается тесное общение.
В Швеции различия между шведами, их языком п общественным укладом, с одной стороны, и лопарями с их общественными институтами – с другой, оказались настолько велики, что последние смогли сохранить там спой быт н культуру национального меньшинства намного лучше, чем в Финляндии.
Об этом следует помнить, когда мы стараемся воссоздать доисторический ход событий среди финно-угров на северо-востоке Европы. Вполне можно представить, что группа, превосходящая другие в культурном или экономическом отношении, например одна из групп предполагаемого первоначального района обитания финно-угров в Центральной России, могла оказать влияние на связанные с ней более западные народы, вплоть до Прибалтики. Таким образом, утверждение о первоначальном районе обитания финно-угров пе лишено основания, хотя этого нельзя пока подтвердить антропологическими методами. Однако это могло бы произойти только в том случае, если бы культура волжской группы была более высокой; тогда можно было бы несомненно проследить следы этого влияния, этой культурной ассимиляции в прибалтийских странах. С моей точки зрения, такая теория применима лишь к каменному веку, к периоду культуры гребенчатой керамики. Вместе с тем совершенно очевидно, что не могло быть и речи о массовом переселении восточных племен в прибалтийские области.
Было бы странным, если бы самые западные финно-угорские народы, сохранявшие с таким поразительным упорством свой язык и национальное единство при несомненных контактах с различными индоевропейскими языками и народами – балтами, славянами и германцами – с их высоким культурным уровнем, при встрече с племенами, обитавшими на территории Центральной России, чья культура ни в каком отношении не была выше, в значительной степени позаимствовали бы ее.
При установлении происхождения финно-угров в том смысле, в котором это подразумевается антропологами, мы можем основываться лишь на лингвистических взглядах о происхождении и древнейшей истории финно-угорских языков, полагая, что нет оснований рассматривать языки народностей, проживающих вне границ хвойных n смешанных лесов Северо-Восточной Европы. Мы не можем считать какую-либо отдельную часть этого района первоначальным районом обитания финно-угров, а должны рассматривать его в целом. Необходимо начать с народов, живущих здесь в настоящее время.
Мы должны попытаться выяснить, как возникли здесь древнейшие поселения, какие происходили здесь изменения в составе населения, а также наблюдались ли здесь крупные перемещения населения, и повлияли ли они на изменение антропологической характеристики популяций.
Здесь мы можем прибегнуть к помощи археологии в двух аспектах; с одной стороны, мы можем предположить, что если бы в этот район проникли значительные чужеродные этнические элементы, то это оставило бы след и в археологических материалах. В случае относительно примитивных обществ охотников и собирателей, о которых здесь идет речь, племя пришельцев могло бы оказаться господствующим лишь в том случае, если бы имело более высокий уровень культуры, общественный уклад или превосходило бы местные племена в численном отношении, причем во всех перечисленных случаях это бы оставило след в археологии. С другой стороны, необходимо признать, что неожиданное обнаружение в археологических раскопках чужеродных для этого района Европы элементов часто проще всего может быть объяснено притоком сюда новых этнических группировок. Именно поэтому я склонен считать, что в дискуссии о древнейшей истории населения Северо-Восточной Европы обязательно должен принимать участие археолог.
К сожалению, мы признаем, что примерная хронологическая картина истории финно-угорских популяций начинается с неведения. Нам все еще недостаточно известно о происхождении древнейшего населения севера Восточной Европы. Наиболее важные археологические находки, относящиеся к эпохе позднего палеолита и раннего мезолита, около IX—VII тысячелетий до и. э., сделанные на территории между Одером и Центральной Россией, принадлежат свидерской культуре. По-видимому, эта культура играла важную роль в формировании древнейших популяций Северо-Восточной Европы.
Весьма вероятно, что свидерская культура развилась на основе культур позднего палеолита в районах Южной России и Приду павья. Самые северные захоронения, относящиеся к свидерской культуре, найдены в Карелии: кремневые изделия Олепеостровского могильпика не могут быть объяснены никак иначе, как принадлежностью к поздней свидерской культуре. Точная дата захоронений в Оленеостровском могильнике не установлена, но я склонен отнести его примерно к V тысячелетию до н. э. К сожалению, наши сведения о носителях свидерской культуры в Вое точной Европе весьма скудны, так как относящиеся к пей археологические находки – места стоянок первобытных людей – расположены на песчаных дюнах, в которых не сохранилось костяных или роговых изделий.
В этом отношении Оленеостровский могильник представляет исключение: из него извлечено большое число предметов, изготовленных из рога и кости. Неудивительно, что находки из Оленеостровского могильника во многом сходны с материалами так называемой культуры кунда. Неправильным будет говорить в этой связи о разных культурах. Свидерская культура, как ужо отмечалось, характеризуется почти исключительно кремневыми изделиями, а культура кунда – изделиями из рога и кости. Более целесообразным было бы в этом случае говорить не о культурах, а о технологических приемах.
Материалы культуры кунда сравнивались с датской культурой маглемозе. Разница весьма значительна, поскольку маглемозе характеризуется в основном микролитами и разными формами топоров, которые совершенно отсутствуют в культуре кунда. С другой стороны, изделия из кости, типичные для кунда, найдены далеко на востоке в ряде памятников Урала.