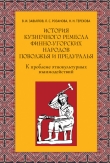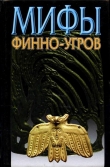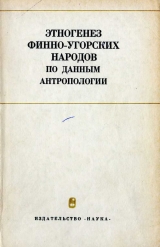
Текст книги "Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии"
Автор книги: Автор Неизвестен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии

Предлагаемая вниманию читателя книга содержит статьи, в основу которых легли темы докладов советско-финляндского симпозиума, посвященного обсуждению антропологических аспектов проблемы происхождения финно-угорских народов. Симпозиум проходил в Москве в ноябре 1972 г. Преимущественное место и но объему и по разнообразию материала принадлежит статьям советских исследователей. Это и понятно, если учесть, что основная масса финно-угорских народов живет на территории СССР и советские ученые занимают ведущее место в изучении этих народов. Кроме того, следует учитывать, что именно школой советских антропологов разработаны принципы использования антропологического материала как исторического источника, что нашло отражение в подходе и к этногенезу финно-угорских народов. Вместе с тем можно с удовлетворением отметить как сам факт участия финских коллег в обсуждении широкого круга вопросов, связанных с генезисом финского и угорского этносов, так и тот фактический вклад, который внесен их исследованиями в разных областях знания – генетике, биологии человека, археологии.
Сборник отличается большим разнообразием представленных материалов, которые в ряде случаев шире основной его проблематики. По антропологии финских и угорских народов накоплено очень много данных, прежде всего по соматологии и краниологии. Опубликованы монографии, содержащие результаты антропологического изучения многих десятков выборок современных этнических массивов финноязычных народов Поволжья (К. Марк), обских угров (К. Марк), эстонцев (К. Марк, Н. Н. Чебоксаров, М. Битов), коми (H. Н. Чебоксаров), финнов-суоми (К. Марк). Большое число отдельных работ посвящено краниологии финно-угорских народов. В соответствии с давней и плодотворной традицией нашей антропологической науки – изучением обширных пространственных областей, когда этнос рассматривается не изолированно, а во взаимосвязи с окружающими этническими общностями, – проблема происхождения финских народов связывается с обращением к антропологии и славяноязычного, и балтоязычного населения Восточной Европы. Разумеется, в настоящем сборнике нет возможности охватить сколько-нибудь полно эти материалы, и поэтому авторы статей предлагают читателям обратиться к соответствующим монографическим исследованиям и специальным работам. Среди них можно назвать такие книги, как «Этническая антропология Восточной Прибалтики» (М. В. Витов, К. 10. Марк, H. Н. Чебоксаров), «Происхождение угро-финских народов по данным антропологии» (К. Ю. Марк), «Происхождение и этническая история русского народа» (В. В. Бунак и Т. И. Алексеева) и др.
Большое место уделено конкретным данным морфологических систем, ранее изученных слабо или не нашедших отражения в литературе. Мы имеем в виду работы как советских, так и финских ученых, представивших новые результаты по фено– и генотипическим характеристикам белков крови, дерматоглифике, одонтологии многих групп населения Советского Союза, Финляндии, Венгрии. Эта новая генетическая информация является существенным дополнительным материалом при изучении генезиса не только отдельных групп, но и всей финно-угорской общности.
Несколько особое место занимают статьи, посвященные изучению адаптивных процессов у ряда северных народов, не принадлежащих к угро-финской языковой семье (например, ненцев, эскимосов). Однако изучение этногенетических процессов собственно финских и угорских народов невозможно без учета длительных контактов их с народами, связанными с древнейшим поселением субарктической полосы Евразии, прежде всего самодийскими. Как хорошо известно, антропологические признаки не остаются неизмененными во времени. По отношению к некоторым признакам или даже их комплексам эта пластичность связана с приспособительными, адаптивными изменениями. Экстремальные климатические условия приполярных областей в сочетании с некоторыми характеристиками социо-демографического плана (малая плотность населения, длительное существование небольших замкнутых групп, приводившие к генетическим изменениям, свойственным малым изолированным популяциям) как раз п диктуют необходимость определения адаптивной изменчивости в общем антропологическом статусе. Разумеется, чем шире сравнительный фон, тем яснее видны величины адаптивных отклонений, поэтому привлечение данных по такой далекой на первый взгляд группе, как эскимосы, вполне оправданно и полезно.
В некоторых статьях высказаны точки зрения, часто и не совпадающие с концепциями, разделяемыми большинством исследователей, что, бесспорно, может вызвать критические замечания. Однако вполне очевидно, что все эти точки зрения имеют основание быть высказанными в связи с обсуждаемыми проблемами, тем более что вопросы этногенеза такой сложной общности, как финно-угорские народы, не могут решаться однозначно.
Можно надеяться, что помещенные в книге материалы и их интерпретация послужат базой или стимулом для дальнейшей разработки проблем этнической истории финно-угорских народов.
Хотелось бы отметить, что авторы этой книги с благодарностью могут вспомнить сотрудников отдела антропологии Института этнографии, способствовавших подготовке рукописи к печати, – Г. М. Давыдову, В. К. Жомову, А. А. Зубова, Н. И. Халдееву.
И. М. Золотарева
Антропологические аспекты исследования этногенеза финно-угорских народов
В. П. Алексеев
Нет возможности, да и необходимости давать полный обзор всех исследований, сделанных до сих пор, и оценить вклад каждого автора в изучение проблемы, которая интересует нас в данном случае. Результаты этих исследований образуют тот фон, который должен быть принят во внимание при обсуждении всех вопросов происхождения финских и угорских народов. Поэтому следует ограничиться только перечислением тех исследователей, которые внесли оригинальные данные и стимулирующие идеи в изучение этих вопросов: работы Л. Бартуца, М. Малана, П. Липтака, Т. Тота – из Венгрии, проф. Кайява и его учеников – из Финляндии, А. и К. Скрайнеров, Р. Сельмсра-Ольсена – из Норвегии, Д. А. Золотарева, С. И. Руденко, М. С. Акимовой, В. В. Бунака, М. В. Витова, М. А. Гремяцкого, Г. Ф. Дебеца, Р. Я. Денисовой, П. И. Зенкевича, К. 10. Марк, H. Н. Чебоксарова, В. П. Якимова – из СССР.
Конкретные пути использования антропологических материалов в изучении происхождения и основных этапов этнической истории финно-угорских народов можно свести к четырем группам вопросов или к четырем фундаментальным проблемам. Каждая из этих проблем находит отражение и в других подходах – лингвистическом, археологическом, историко-этнологическом и т. д., но отдельные аспекты именно этих проблем могут быть освещены с помощью антропологических материалов полнее и глубже, чем с помощью любых других.
Первая из этих проблем – степень антропологической дифференциации финно-угорских народов и масштаб удаленности наименее близких народов друг от друга. Эта удаленность может быть оценена на уровне современности также через соответствующую этнографическую и лингвистическую информацию, но этнография и лингвистика не располагают пока способами количественной оценки близости этнических групп или носителей соответствующих языков друг к другу, иными словами, способами количественной оценки степени культурной или языковой дифференциации. Для антропологической дифференциации разработаны разнообразные способы оценки – начиная с качественных, при которых тот или иной комплекс признаков соотносится с определенной системой расовой классификации и находит внутри нее более или менее точное место, и кончая разнообразными, быстро развивающимися сейчас методами многомерного анализа. Уровень антропологической дифференциации финно-угорских народов при надлежащей интерпретации дает материал для обсуждения их языковой n культурной близости, иными словами, для суждения об их этнической истории.
Вторая проблема в отличие от первой – проблема, если можно так выразиться, не «внутренняя» финно-угорская, а «внешняя», проблема не внутренней этнической структуры финно-угорских народов, а их внешних связей, контактов с иными этносами. Для поздних эпох такие контакты засвидетельствованы прямыми сообщениями письменных источников, лингвистическими и этнографическими данными, по мере удаления от современной эпохи единственным источником сведений о них остаются археология и палеоантропология. Уже можно считать твердо установленным, что формирование финно-угорских народов происходило в процессе многообразных контактов с народами различных языковых семей как па востоке, так и па западе их ареала, и реконструкция таких контактов с помощью палеоантропологии и изучение антропологических особенностей современного населения является необходимой страницей в книге этногенеза финно-угорских народов.
Третья проблема – это история тех локальных расовых комплексов, вариантов, групп популяций или типов (последнее наименование, правда, неоднократно скомпрометировало себя в разнообразных схемах индивидуальной типологии), которые выделяются в составе финно-угорских народов. Палеоантропологически восстанавливаемая эта история – далеко не повторение этнической истории носителей расовых комплексов, но она связана с ней многообразными связями и неоднозначными переходами, во многих случаях освещает не только интенсивность контактов, но и их направление. Динамика расовых признаков и комплексов помогает часто вскрыть тот социальный фон, на котором развивается расогенетический процесс. В истории финно-угорских народов подобное направление исследований особенно важно, так как при значительном различии составляющих их расовый состав элементов автоматически можно ожидать картину большой сложности их расовой истории. Опа и вскрывается частично палеоантропологическими материалами вместе с археологическими, говорящими также и об исключительно сложной этнической истории.
Наконец, последняя, четвертая проблема в ряду важнейших проблем этногенеза финно-угров с антропологической точки зрения – получение ответа на вопрос о прародине финно-угорских народов. Если реконструкция исторической динамики отдельных антропологических комплексов приведет в конце концов определенным образом к установлению общего исходного прототипа, можно положительно решить вопрос об их исходной расовой общности и дивергенции как преобладающем процессе формирования их расового состава. От расовой прародины закономерен переход к рассмотрению прародины народов и языков. Выявление множества исходных расовых комплексов, очевидно, подводит к нигилистической оценке наших возможностей в реконструкции прародины финно-угорских народов, хотя и не снимает эту проблему полностью. Тогда антропологическая информация ставит перед историческим исследованием другой вопрос не меньшей важности – каковы те интегративные исторические n социальные явления, которые вызвали формирование родственных народов н языков на разнородной расовой основе.
Не входя в обсуждение места каждого финского и угорского народа в антропологической классификации, что потребовало бы слишком много времени, укажу лишь, что мы имеем дело в данном случае с широким спектром типологически разнородных антропологических характеристик. Ливы, например, отличаются исключительно сильной выраженностью европеоидных особенностей (Денисова, 1956), ханты практически входят в состав монголоидной расы, хотя и характеризуются в сравнении с классическими монголоидными популяциями некоторым ослаблением развития монголоидных признаков (Руденко, 1914; Дебец, 1947). Такие факты общеизвестны, но они чрезвычайно важны для нашей темы, так как именно они свидетельствуют о большом морфологическом полиморфизме финно-угорских народов, а значит, и о сложных путях расогенеза в пределах предков финно-угров, их многообразных контактах с представителями других расовых комплексов и т. д.
Какие этнические заключения можно сделать из самого факта значительного морфологического полиморфизма финно-угорских народов? Прежде всего он свидетельствует о том, что формирование предков финно-угров происходило в рамках достаточно широкой территории, захватывавшей периферийные районы и европеоидного, ii монголоидного ареалов. Процесс складывания финно-угорской общности имел место в расово разнородной среде, включавшей в свой состав как европеоидные, так и монголоидные варианты. В пределах этой разнородной в расовом отношении среды (возможно, она была достаточно разнородна и в культурном отношении – предполагать это позволяют и размеры территории, и ее резкая ландшафтно-климатическая характеристика) должны были действовать какие-то факторы, способствовавшие интеграции языковых процессов и выделению первоначального ядра финно-угорских языков. Можно думать, что в качестве такого фактора выступало смешение, которое в конечном итоге сближало и антропологические характеристики финно-угорских народов, но изменяло эти характеристики в силу их стабильности значительно медленнее.
Антропологическая среда, в которой складывались финно-угорские народы, была не только разнородной в расовом отношении – она лишь частично была расово специфической, а современный антропологический состав финно-угров роднит их со многими окружающими народами.
Что касается венгров, то при всей неясности многих вопросов их этногенеза и этнической истории ясно одно: предки венгров рано оторвались от своего угорского ареала, долгое время проживали в среде народов, населявших южнорусские степи, вступали с ними в разнообразные и интенсивные брачные контакты, поэтому их этническая история отличается исключительным своеобразием по сравнению с другими финно-угорскими народами. Это своеобразие отразилось в их антропологическом облике – краниологически совершенно несомненно устанавливается сходство между венграми и носителями брахикранного сравнительно широколицего европеоидного комплекса, который так сильно был распространен в составе средневекового населения Нижнего Поволжья и северных районов Средней Азии и который представлял собою в разных вариантах позднюю формацию памиро-ферганской расы.
На западе своего ареала финно-угорские народы близко сходны морфологически с балтийскими и восточнославянскими. Не вдаваясь в подробности, отмечу лишь основной вывод, вытекающий из многих исследований: в составе эстонцев представлены те же локальные комплексы признаков, которые мы находим в составе балтов (Битов, Марк, Чебоксаров, 1959), по-видимому, можно то же повторить и про финнов (Kajanoja, 1970). Сходные, вернее даже сказать, тождественные локальные варианты объединяют русских северных и восточных областей их расселения с волжско-финскими народами (сводка данных: Алексеева, 1965). Последнее выявляется и по краниологическим данным: русские Архангельской области, например, краниологически сходны с восточно-финскими народами (Алексеев, 1969). Любопытно отметить, что география системы АВО не нарушает отмеченной картины чересполосицы антропологических и этнических границ и не противопоставляет финские народы их соседям (Бунак, 1969). Это справедливо даже по отношению к лопарям, которые по большинству серологических факторов сближаются с другими европейскими народами: последнее является основным аргументом против гипотезы их восточных контактов и рассмотрения их антропологического типа только в рамках европеоидной расы (A. Mourant, 1964). На востоке финно-угорского ареала комплекс признаков, свойственный хантам, представлен в то же время у ненцев (Дебец, 1947; Алексеев, 1971), селькупов (Дебец, 1947; Розов, 1956), частично, возможно, чулымских татар (Розов, 1961) и тобольских татар (Трофимова, 1947). У тюркоязычных народов Западной Сибири этот комплекс, судя по всем другим историческим свидетельствам, представляет собой субстратное явление. Что же касается морфологического сходства угров и самодийцев, то, вне зависимости от того, каким конкретным историческим событиям и процессам оно обязано своим возникновением – субстратно-суперстратному взаимодействию или формированию угров и самодийцев в сходной расовой среде,– оно должно быть отнесено к значительно более глубокому хронологическому уровню, чем упомянутое сходство обеих этих групп с тюркоязычными западносибирскими народами.
Сходство финнов с окружающими их балтами и восточнославянскими народами и этнографическими группами до недавнего времени рассматривалось как результат формирования народов разных языковых семей на основе одних и тех же антропологических элементов (Трофимова, 1946; Дебец, 1948). В этом находит выражение этногенетическая концепция, целиком отрицавшая достижения сравнительно-исторического языкознания и опиравшаяся па гипотезу этно– и глоттогепеза, сформулированпую Н. Я. Марром. В ходе исследований последних двух десятилетий все больше выясняется, что в расогенезе и этногенезе русского народа, во всяком случае, значительную роль, наряду с балтийским, сыграл древний финский субстрат. За счет этого субстрата логично отнести все отмеченные выше случаи морфологического схождения финских народов с балтийскими и русским. Датировка субстратных явлении в антропологическом составе русских – время распространения восточнославянских языков в Восточной Европе, т. е. середина и вторая половина I тысячелетия и. э. Такая датировка подтверждается и налеоантропологи-ческн. В этногенетичсском отпошении это означает, что аптропологнческнй материал заставляет говорить об особой роли в этнической истории финских народов последних полутора тысячелетий межэтнических контактов с балтами и славянами.
Групповые вариации признаков в составе угров и самодийцев складываются в несколько самостоятельных локальных сочетаний, которые не могут быть истолкованы как субстратные по отношению друг к другу. Скорее всего угры и самодинцы, как представители разных языковых семей, сформировались в относительно единой антропологической среде. Соответствующий процесс абсолютно пе освещен палеоаптропологическими материалами вследствие почти полного отсутствия их из лесных областей Сибири. Единственная приемлемая аналогия – таштыкское население Минусинской котловины, па краниологическое сходство которого с хантами указал впервые Г. Ф. Дебец (1948).
В общем исключительная роль взаимодействия с самодинцами в этногенезе и этнической истории угров антропологическими наблюдениями иллюстрируется совершенно отчетливо.
Не имея возможности остановиться сколько-нибудь подробно на конкретной истории формирования локальных расовых вариантов в составе финно-угров, ограничусь отдельными примерами. Краниологический тип коми-пермяков, например, преемственно связан с краниологическими особенностями населения ломоватовской культуры середины 1 тысячелетия н. э. (Алексеев, 1969). Это значит, что население ломоватовской культуры сыграло определенную и скорее существенную роль в этногенезе коми-пермяков. Формирование расового комплекса эстонцев прослежено палеоантропологически до эпохи позднего неолита. Показано, что основой его является краниологический тип населения культуры шнуровой керамики, обнаруживающий юго-западные аналоги, но к нему примешивалось население культуры ямочно-гребенчатой керамики, появившееся в Восточной Прибалтике с востока (Марк, 1956; М. В. Битов, К. Ю. Марк и H. Н. Чебоксаров, 1959). Ясно, что при решении проблемы этногенеза эстонцев и антропологически близких к ним финнов нельзя не учитывать как юго-западных, так и восточных связей.
Последняя проблема, намеченная в начале, – проблема прародины финно-угров решается в свете всех приведенных фактов и накопленных материалов о морфологическом полиморфизме финно-угорских народов (исчерпывающие данные, собранные по единой методике, см.: Марк, 1970) скорее в отрицательном смысле. Совершенно очевидно, что разные локальные варианты в антропологическом составе финно-угров не могут быть сведены к одному прототипу, имеют разную расовую историю, и, следовательно, финно-угры сформировались в резко различной расовой среде и отдельные группы их имеют неодинаковое происхождение. Как уже говорилось выше, перед специалистами, работающими в области этногенеза финно-угорских народов, встает задача объяснить, каким образом сложилась языковая финно-угорская общность и какие генерализирующие факторы вызвали это.
Все сказанное, разумеется, не исчерпывает всех проблем, связанных с расогенезом и этногенезом финно-угорских народов, Однако если исключить палеоантроиологическую информацию, явно недостаточную и нуждающуюся в серьезных дополнениях, особенно по отношению к восточным районам финно-угорского ареала, то, по глубокому убеждению автора, прогресс в решении всех этих проблем больше зависит от тщательной и многосторонней интерпретации уже имеющихся данных, чем от накопления новых.
Литература
Алексеев В. П. Палеоантропология Хакасии эпохи железа. Сб. «Музея аптропологии и этнографии АН СССР», вып. XX. М., 1961.
Алексеев В. П. Происхождение народов Восточной Европы (краниологическое исследование). М., 1969.
Алексеев В. П. Лесные ненцы (соматологические наблюдения), 1971, «Вопросы антропологии», вып. 39.
Бунак В. В. Гено-географические зоны Восточной Европы, выделяемые по факторам АВО. «Вопросы антропологии», 1969, вып. 32.
Витов М. В., Марк К. Ю., Чебоксаров H. 11. Этническая антропология Восточной Прибалтики. «Труды Прибалтийской объединенной комплексной экспедиции», т. 2. М., 1959.
Дебец Г. Ф. Селькупы. «Труды Ин-та этнографии ЛН СССР», т. II. М., 1947.
Дебец Г. Ф. Палеоантропология. «Труды Ин-та этнографии ЛН СССР», новая серия, т. IV. М.—Д., 1948.
Денисова Р. Я. Антропологический тип ливов. «Труды Ин-та этнографии АН СССР», новая серия, т. XXXIII. М., 1956.
Марк К. Ю. Палеоантропология Эстонской ССР. «Труды Ин-та этнографии АН СССР», новая серия, т. XXXII. М., 1956.
Морант А. Э. Группы кропи народов Северной Европы и Азии. «Современная аптропологпя». М., 1964.
«Происхождение и этническая история русского народа». «Труды Ин-та этнографии АН СССР», новая серия, т. 88. М., 1965.
Розов Н. С. Материалы по краниологии чулымцев и селькупов. «Труды Ин-та этнографии АН СССР», новая серия, т. XXXIII. М., 1956.
Розов Н. С. Антропологические исследования коренного населения Западной Сибири. «Вопросы антропологии», 1961, вып. 6.
Руденко С. И. Антропологическое исследование инородцев северо-западной Сибири. «Записки императорской Академии наук», т. XXXIII, № 3. СПб., 1914.
Трофимова Т. А. Кривичи, вятичи и славянские племена Поднепровья но данным антропологии. «Советская этнография», 1946, № 1.
Трофимова Т. А. Тобольские татары. «Труды Ин-та этнографии АН СССР», новая серия, т. II. М.—Л., 1947.
Kajanoja P. A contribution to the physical anthropology of the Finns. «Anna-les Academiae Scientiarum Fennicae». Series A, V. Medica (150–153). Helsinki. 1972.
Mark K. Zur Herkunft der finnischugrischen Völker vom Standpunkt der Anthropologie. Tallinn, 1970.