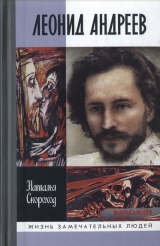
Текст книги "Леонид Андреев"
Автор книги: Наталья Скороход
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 34 страниц)
Один из террористов – Василий Каширин от самого суда «весь состоял из одного сплошного, невыносимого ужаса смерти и такого же отчаянного желания сдержать этот ужас», а эстонец Янсон, «этот человек с маленьким, дряблым личиком», что «никогда не думал о том, что такое смерть, и образа для него смерть не имела», теперь стал бегать по замкнутому пространству, поскольку «почувствовал ясно, увидел, ощутил», что смерть «вошла в камеру и ищет его, шаря руками». А юная «бомбистка» Муся «была счастлива». «Заложив за спину руки в большом, не по росту, арестантском халате, делающем ее странно похожей на мужчину, на мальчика-подростка, одевшегося в чужое платье, она шагала ровно и неутомимо» и вела с человечеством и собой беспрерывные разговоры. «– Тебя казнят. Вот петля. – Меня казнят, но я не умру. Как могу я умереть, когда уже сейчас я – бессмертна?» Так ночь перед казнью ставила всех семерых лицом к лицу с тем, от чего нельзя было отмахнуться… И «не было таких понятий в… человеческом мозгу, не было таких слов на… человеческом языке, которые могли бы охватить увиденное». И кто-то, как бесстрашный Цыганок, «стал на четвереньки посреди камеры и завыл дрожащим волчьим воем», а кто-то, как «неизвестный по прозвищу Вернер», «от гордой и безграничной свободы пришел к нежной и страстной жалости»…
Но не эта ночь, не душераздирающая сцена предсмертного свидания одного из террористов с матерью и отцом, на мой взгляд, вот уже более ста лет делают эту вещь близкой любому читателю, а та атмосфера кафкианской тоски, что возникает поверх сюжета и слов диалога. «Одна за другою мягко подкатывали темные кареты, забирали по двое, уходили в темноту, туда, где качался под воротами фонарь. Серыми силуэтами окружали каждый экипаж конвойные, и подковы их лошадей цокали звонко или хлябали по мокрому снегу». Сегодня этот текст – визитная карточка Андреева на самых разных языках; мир, прочитавший Кафку и Камю, мир, переживший Холокост, отменивший смертную казнь и вернувшийся к терроризму, до сих пор читает «Рассказ о семи повешенных» как текст автора-современника.
А тогда – в марте 1908 года Андреев лично прочел «Рассказ…» у себя на Каменноостровском, потом еще раз – в Орле. И в столице, и в провинции слушатели расходились молча, были подавленны. Приглашенный в качестве «эксперта», слушал этот текст в Петербурге и некто Стародворский. Бывший заключенный Шлиссельбурга, – когда-то осужденный на смерть, но перед казнью помилованный, – грустно сказал писателю: «Меня удивляет, как вы, человек, не переживший на самом деле тоски неизбежной смерти, могли проникнуться нашими настроениями до такого удивительного подобия. Это все удивительно верно» [427]427
Измайлов А. А.Литературный Олимп. М., 1911. С. 291.
[Закрыть]. В целом современники встретили «Рассказ о семи повешенных» хорошо – 23 тысячи экземпляров пятого выпуска альманаха «Шиповник» разошлись в несколько дней, однако реакция публики оказалась куда более сдержанной, чем на «Черные маски» или «Тьму». Здесь не было ничего скандального или неожиданно яркого, всем казалось, что этот – по сути глубоко новаторский – текст плавно движется в русле русской реалистической литературы. Нашлись и те, кто писал, что Андреев поднялся в «Рассказе…» до вершин Толстого.
Однако сам Лев Николаевич, прочтя посвященный ему «Рассказ о семи повешенных», с раздражением произнес: «Отвратительно! Фальшь на каждом шагу! Пишет о таком предмете, как смерть, повешенье и так фальшиво!» [428]428
Цит. по: Гусев Н. Н.Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973. С. 162.
[Закрыть]Недоволен был он и сценой свидания Сергея Головина с родителями, заявив близким, что и сам бы не взялся за эту тему. Что не помешало ему отправить Андрееву вежливое письмо, поблагодарив за посвящение.
Отношения первого и второго литераторов России малоинтересны; их встреча в Ясной Поляне в год смерти Толстого носила вполне официальный характер, и хотя оба бродили тогда по краю пропасти: Толстой вынашивал планы бегства из дома, Андреев близко подходил к кризису, но о какой-либо откровенности между писателями свидетельств нет.
Известно, что 21 апреля 1910 года Толстой записал в дневнике: «…приезжал Андреев. Мало интересен, но приятное, доброе обращение. Мало серьезен» [429]429
Толстой Л. Н.Полное собрание сочинений: В 90 т. Т. 58. М.: Художественная литература, 1934. С. 41.
[Закрыть]. Андреев же в многочисленных интервью, которые он раздавал после возвращения из Ясной Поляны, как вызубренный урок твердил о том, что «сейчас Лев Николаевич представляет единственное в мире явление. Он давно уже переступил какую-то грань, за которой нет борьбы, за которой – тишина и сияние святости. Он светится весь. В каждой его улыбке, взгляде, в каждой морщине лица столько же, если не больше, глубочайшей мудрости, как и в его словах» [430]430
Цит. по: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1978. С. 410–413.
[Закрыть]. Много хвалил Леонид Николаевич и усилия жены Толстого Софьи Андреевны, по всей видимости, подвергшись в Ясной Поляне и ее «облучению».
Толстой и Андреев вместе снимались, обедали, гуляли по лесу, Лев Николаевич и Софья Андреевна показывали гостю дом. Официально говорили они о кинематографе, что занимал тогда Толстого, Леонид Николаевич даже рассказал патриарху о своих впечатлениях о новых картинах и о своем совете русскому кинематографисту Дранкову устроить конкурс для писателей в целях создания лучшего репертуара. Толстой задумался и долго расспрашивал Андреева о кино. «Повестка дня» предусматривала и разговоры о литературе и литераторах: обругав декадентов за то, что пишут сложно, Толстой с огромной похвалой отозвался об Александре Куприне и даже пытался читать вслух не так давно напечатанный в газете «Утро России» рассказ «По-семейному» – «очень искренний, красивый и ясный». О том, что Андреев вынес за скобки официальных интервью, мы можем лишь догадываться. Думаю, любовь мэтра к Куприну, который, кстати говоря, становился в те годы все более популярным, была обидна Андрееву. Обидным, вероятно, было и то довольно прохладное мнение, что с глазу на глаз высказал Толстой Андрееву о его сочинениях.
Это парадокс, но в истории сохранился миф о том, что Толстой не любил Андреева, как и миф об обожании патриарха от литературы нашим героем. Хотя, по свидетельству секретаря Толстого Н. Н. Гусева, Андреев был именно тем новым русским литератором, чьи тексты более всех прочих занимали Льва Николаевича, и, начиная с «Жили-были», он внимательно читал практически всё, что выходило из-под андреевского пера. Андреев же – едва ли столь же прилежно знакомился со всеми подряд сочинениями Льва Толстого, «Анну Каренину» и «Воскресение» он, разумеется, знал, а вот прочел ли Леонид Николаевич – от корки до корки – «Войну и мир» – это еще вопрос.
Был ли писатель Андреев близок читателю Толстому, очевидно нет, не был. «Сладкий» автор «Олеси» Куприн был любезнее сердцу патриарха русской литературы. Как же так? Однажды ответить на этот вопрос попытался сам Андреев. «Кто следит за отзывами Толстого о пишущей братии, – рассуждал он в интервью „Петербургской газете“ летом 1908 года, – тот должен признать, что Толстой крайне нетерпим: хорошо у него только то, что похоже на толстовское, все другое – никуда не годится. Между Толстым и Куприным, при всем различии в глубине и объеме дарований, много общего. Он ищет правду там же, где и Толстой. Читая Куприна, Толстой доволен, что писатель идет с ним по одной дороге. Он хвалит Куприна, как хвалит все другое – толстовское. У меня и у Куприна учитель – один, но дороги наши расходятся. Толстой никак не может мои произведения одобрить… они слишком самостоятельные» [431]431
Цит. по: «Жизнь…». С. 216.
[Закрыть]. И, кстати, в том же интервью Андреев в который раз признал Толстого своим учителем.
Хотя едва ли, положа руку на сердце, мы сегодня можем причислить Андреева к ученикам и последователям Льва Толстого. Здесь приходят на ум иные фамилии: писатель, как правило, проходит у нас по «гоголевско-достоевскому ведомству». И думаю, что отношения с Толстым были для Андреева – хотя и бессознательно – частью публичного имиджа, ведь Толстой был жив, Толстой активно писал, еще более активно он высказывался по социальным вопросам, не примыкая ни к одному из политических или литературных лагерей. Толстой был непримирим ко всему, что считал неправильным, и на Ясную Поляну оглядывалась вся Россия. Андрееву во многом нравился образ Льва Николаевича и даже скорее образ его «бытования»: с почти ежедневным «не могу молчать!», с антибуржуазными привычками, с проклятиями как в адрес попов и российского правительства, так и в адрес «русского бунта», что без оглядки на революционные настроения интеллигенции печатно высказал Толстой в 1905 году. Тот же «анархизм», который в какой-то мере исповедовал на общественном поприще Леонид Николаевич, был свойствен и Льву Николаевичу.
Но – как литератор – Толстой закрывал собой век уходящий, Андреев же – открывал наступающий, и в его – даже несовершенных – творениях «варился бульон» будущих «измов» XX века. Толстой лишь глухо раздражался перед этими прорастающими зернами, советуя Андрееву выполоть их как зловредные сорняки. И – как не мог великий старец воспринять уже ни пьес Чехова, ни стихов Блока, так и андреевские тексты, где автор «заворачивал» подчас свои новаторские идеи в простые и ясные толстовские слова, бесили яснополянского гения.
Крен Андреева в сторону Достоевского, о котором наш герой до поры до времени помалкивал, стал совершенно очевиден после выхода в свет рассказа «Мои записки». «Читала „Мои записки“ Андреева? – спрашивал Горький у Екатерины Пешковой. – Вещь озлобленная, противная. Погибает Леонид, с каждым шагом вперед он опускается куда-то вниз. Меня не удивит, если он напишет что-то в духе „Бесов“» [432]432
Переписка. С. 445.
[Закрыть]. Проницательно угадав направление вектора, бывший «друг Максимушка» не смог конечно же сдержать желчи, разлившейся у него после чтения «Записок». Не только для Горького – для многих – этот рассказ – монолог пожизненно осужденного – стал раздражающей «костью в горле». Двойственность героя была задана от самой первой страницы этого двенадцатичастного монолога: «Теперь я старик, скоро умру, и вам нет ни малейшего основания сомневаться, если я скажу, что был совершенно не виновен в чудовищном и страшном злодеянии, за которое двенадцать честных и добросовестных судей единогласно приговорили меня к смертной казни». «Чудовищное и страшное злодеяние» – убийство отца, брата и сестры, совершенное 27-летним профессором математики, – никак не умещается в его сознании, да и сам Андреев не торопится разоблачать героя, давая тому возможность морочить и себя, и читателя вплоть до самого финала рассказа. Смертная казнь «злодея, не только убившего трех беззащитных людей, но и в какой-то слепой и дикой ярости изуверски надругавшегося над ними», «была впоследствии заменена пожизненным заключением в одиночной камере», где собственно и происходило действие рассказа.
Итак, идеальный потомок «подпольного человека» ведет многолетние записки, тщательно закрывая хаос, рвущийся из подсознания, цепочками логических рассуждений, фиксирующих развитие мысли, обострение тех или иных чувств, изменения характера героя, и этот герой в конце концов выводит собственную формулу жизни. «Почему небо так красиво именно сквозь решетку? – размышлял я, гуляя. – Не есть ли это действие эстетического закона контрастов, по которому голубоечувствуется особенно сильно наряду с черным? Или не есть ли это проявление какого-то иного, высшего закона, по которому безграничноепостигается человеческим умом лишь при непременном условии введения его в границы,например, включения его в квадрат?» С годами, сделавшись не только апологетом, но и «гордостью тюрьмы», заключенный начинает весьма активную жизнь в социуме – как во внутритюремном: его беседами наслаждаются все служащие вплоть до господина начальника тюрьмы, так и во внешнем: один раз в неделю он «проповедует» свою формулу для всех желающих услышать его.
Но – чем более тюремный быт и отношения внутри этого маленького социума обволакиваются интонацией глубокого, всепоглощающего умиления, тем менее доверчиво воспринимает читатель невиновность героя «Записок». Узнав, что один из заключенных, выломав ножку кровати, неожиданно убил вошедшего надзирателя, наш математик изобретает усовершенствование – окошечко, через которое охранник может наблюдать за действиями заключенного, уничтожая тем самым последнее преимущество одиночного заточения – приватность. С ласковостью уссурийского тигра герой сообщает о своем изобретении тюремному начальству… «И уже на следующий день г. начальник тюрьмы горячо жал мне руки, выражая свою признательность, а через месяц на всех дверях, во всех тюрьмах государства темнели маленькие отверстия, открывая поле для широких и плодотворных наблюдений». Читатель сегодняшнего дня уже давно ломает голову над тем, что все это ему напоминает… ну конечно же «Приглашение на казнь» Набокова, не сомневаюсь, что Владимир Владимирович, помимо Достоевского, вдохновлялся именно этим андреевским текстом.
Итак, спокойное и достойное существование «лучшего заключенного» в самом рациональном из мироустройств – тюрьме – иногда подвергается сомнению: так, портрет героя, написанный другим заключенным – художником К., «с поразительным сходством» передает лишь нижнюю часть лица, «где столь гармонически сочетаются добродушие с выражением авторитетности и спокойного достоинства». Однако верхняя часть портрета – «остановившийся, застывший взгляд, мерцающее где-то в глубине безумие, мучительное красноречие души бездонной и беспредельно одинокой» – возмутила саму модель. «– Да разве это я? – воскликнул я со смехом, когда с полотна на меня взглянуло это страшное, полное диких противоречий лицо. – Мой друг, с этим рисунком я вас не поздравляю. Мне он не кажется удачным. – Вы, дедушка, вы! И нарисовано хорошо, вы это напрасно. Вы куда его повесите?»
Что ж, прием отраженного восприятия конечно же одолжен Андреевым у Гоголя, когда, к примеру, герой повести «Записки сумасшедшего» позиционирует себя перспективным чиновником, искателем руки директорской дочки и возмущается отзывом о себе начальника, прекрасно видящего, что Поприщин «иной раз метается словно угорелый», имея в голове «такой ералаш», «что сам сатана не разберет».
Шестая главка «Записок», где наш герой с усердием проповедует «священную формулу железной решетки» перед паломницами, заставляет конечно же вспомнить приемы страждущих старцем Зосимой из «Братьев Карамазовых», двусмысленность, замутненность отдельных поступков героя также отсылают нас к известной манере Федора Михайловича. Постепенно, при помощи оговорок и отраженных фактов читателю открывается истинное лицо садиста: убивая родных, он «последние удары наносил уже мертвым». В глубине подсознания самого осужденного зарождается мысль, что убийца «временноперестал быть человеком и стал зверем, сыном изначального хаоса, детищем темных и страшных вожделений». Он вспоминает, «что убийца после совершения преступления пил вино и кушал бисквиты – остатки того и другого были найдены на столе со следами окровавленных пальцев.Но есть нечто ужаснейшее, чего ни понять, ни объяснить не может мой человеческий разум: закуривая сам, убийца, по-видимому, в чувстве какого-то странного дружелюбия, вложил зажженную сигару в стиснутые зубы моего покойного отца». Сразу же после этих воспоминаний, словно тень отца Гамлета, в камеру героя приходит труп отца с горящей сигарой в зубах и «крик, который я испустил и который так обеспокоил моего друга-тюремщика и произвел некоторый переполох в тюрьме, был вызван внезапным исчезновением призрака, столь внезапным,что образовавшаяся на месте трупа пустота показалась мне почему-то более ужасною, нежели сам труп».
Интересно, что этот образцовый заключенный, этот проповедник формулы «железной решетки», дослужившийся в конце концов до УДО, на воле так и не смог ужиться сам с собою и со свободными людьми, там – он чуть было не проговорился о своей вине любящей его женщине… И, опомнившись, словно в монастырь – андреевский герой добровольно уходит обратно – в заключение. В последней – двенадцатой главке рассказа он поведал читателю, что бросил все оставленные ему матерью средства на строительство личной тюрьмы, где под охраной нанятого им опытного и честного тюремщика он сможет теперь до конца своих дней наслаждаться неволей. «При закате солнца наша тюрьма прекрасна».
Странно, но это удивительно прозрачное по замыслу и стройное по исполнению произведение вызвало в 1908 году недоумение читателей, в один голос вопрошающих автора, виновен его герой или нет. Андреев был вынужден дать интервью, где сообщил недогадливым людям, что вначале «был убежден в его невиновности, но с некоторых пор стал подозревать его в убийстве». Но, побоявшись, что этого окажется недостаточно, он раскрыл карты, указав недотепам, «что дойти до таких чудовищных логических построений мог только человек, за плечами которого стоит какое-нибудь тяжкое преступление» [433]433
Цит. по: «Жизнь…». С. 222.
[Закрыть].
Безусловно, давая портрет злодея и садиста, который пытается приспособить свое сознание к совершенному преступлению, Андреев шел по следам Достоевского и должен был привести героя не только к приятию камеры и несвободы, но и к провозглашению «священной формулы железной решетки», рабом которой и становится в конце концов он сам. Один шаг, на мой взгляд, отделял героя «Моих записок» от того, чтобы сделаться идейным палачом, вложив «звериный хаос души» в логическую и «гармоничную» формулу узаконенного и «правильного» убийства и мучения другого человеческого существа. Недаром проваливаются все попытки героя «Записок» прочесть Евангелие – эту величайшую проповедь человеческой свободы: «Но сопротивление, которое оказывает книга, поразительно сильно и временами доводит меня, – мне стыдно в этом сознаться, – почти до неистовства: даже под пыткою слова молчат, и за жесткою скорлупою, разбитою с таким трудом, я нахожу странную и несомненно лживую пустоту».
Опять-таки на этот страшный и такой, как казалось современникам, «нежизненный» образ ложатся тени будущего: причем не только Набокова, Кафки и Сартра, но и «тени всех Бутырок и Треблинок», тени будущих исполнителей узаконенных пыток и массовых убийств.
Что ж… Называя – в большом интервью «Петербургской газете» – среди своих учителей Толстого, Диккенса и Гаршина, Андреев, возможно, искренне заблуждался. Но возможно и другое… Размышляя над собственным художественным методом, активно читая чужие книги и составляя мнение о прочитанном, Леонид Николаевич старался и все-таки никак не мог разгадать, по какой же дороге в искусстве он движется. Отчасти это мучило его, отчасти делало – уже зрелого мастера – столь уязвимым для критики. Недоумевал не только сам автор, но и его рецензенты и критики, «…в каком направлении тревожно ищет душа и в свете каких идеалов переоценивает существующее?» [434]434
Кугель. С. 160.
[Закрыть]– вопрошал себя и читателя Александр Рафаилович Кугель, заканчивая очерк о драмах Андреева. В ближайшие годы Леониду Андрееву предстояло ответить на этот неудобный вопрос.
Глава десятая
1909–1914: ТЕАТР ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА
«Анатэма», «Дни нашей жизни». Новый драматический театр.
«Письма о театре». «Панпсихе». «Анфиса» в НДТ.
«Екатерина Ивановна» и «Мысль» в МХТ. Театр жизни.
Новые роли: помещик, морской волк, отец огромной семьи.
Андреев – носитель масок – версия К. Чуковского.
Покушение и драка. Заморские впечатления. Капри и старый друг.
«Когда я прочитал „Анатэму“, мне сам Л. Андреев представился блуждающим, усталым путником в необозримой пустыне, среди раскаленных зыбучих песков, под палящими лучами солнца» [435]435
Кугель. С. 154.
[Закрыть]. В действительности же «блуждающий путник» на тот момент нашел себе новое и – как ему казалось – во всех отношениях превосходное и надежное пристанище – драматический театр. Воодушевление Леонида Николаевича было столь велико, что, он, впрочем, как и обычно, решил отдаться новому поприщу безраздельно, публично объявив в феврале 1909 года: «Несомненно, я с беллетристикой почти кончаю и перехожу главным образом к драме» [436]436
Беседа с Л. Андреевым // Новая Русь. 1909. 19 февраля. С. 6.
[Закрыть]. К тому же и сцена приняла драматурга Леонида Андреева с энтузиазмом: в течение десяти лет его пьесы ставили практически все выдающиеся и просто известные режиссеры Российской империи: Мейерхольд, Станиславский, Немирович-Данченко, Комиссаржевский, Таиров, Марджанов, Санин, Сахновский и даже Евтихий Карпов. Хотя… долгого и плодотворного творческого союза не случилось у нашего драматурга, пожалуй, ни с одним из представителей этой славной профессии, нет такого союза, увы, и по сей день. Но – так или иначе, начиная с 1907 года прославленный беллетрист ощутимо влияет на театральный процесс: он пишет пьесу за пьесой, вступая в соревнование с российской цензурой, которая едва успевает запретить очередной андреевский опус, как появляется следующий. И более того, в эти годы Леонид Николаевич становится во главе репертуара петербургского Нового драматического театра, он намеревается разработать собственную – андреевскую – «теорию драмы», для чего пишет и публикует теоретический трактат «Письма о театре».
Итак, «Жизнь человека» открыла нашему герою дверь в театральный мир, где – всего за несколько лет – он стал весьма значительной фигурой. В 1908 году громкими событиями сезона были «Дни нашей жизни», в 1909-м – «Анфиса» и конечно же «Анатэма».
Последняя пьеса оказалась для драматурга в какой-то мере программной, она продолжала линию «Жизни человека». Еще на Капри, рассказывая замысел драмы Викентию Вересаеву, Андреев упомянул ее первоначальное название: «Бог, человек и дьявол». Ему хотелось во что бы то ни стало столкнуть эти стихии. «Человек – воплощение мысли. Дьявол – представитель покоя, тишины, порядка и закономерности. Бог – представитель движения, разрушения, борьбы», – фантазировал Андреев. Странная была задумана антиномия. «Веселый будет бог, – делился он с другом. – Он будет говорить, потирая руки: „Сегодня я устроил хорошенькое изверженьице!“» [437]437
Вересаев.
[Закрыть]
Воплощенный замысел конечно же видоизменился: автор так и не решился вывести на сцену самого Господа Бога, вместо этого, как и в «Жизни человека», воспользовавшись его представителем – Некто, охраняющий входы, подобно Некоему в сером транслировал персонажам и публике не только «высочайшую волю», но и «высочайшие соображения», в которых не было, увы, никакого веселья. А вот дьявол – под именем Анатэма (Анафема) – на этот раз появился на сцене, что называется in corpore– почти что в человеческом облике. И надо сказать, персоной он оказался словоохотливой, разве что не болтливой: с первых же секунд сценического действия в многословных монологах объясняя зрителю свои намерения: «Никто не верит мудрому Анатэме, даже говорящему правду, – а кто же любит правду больше, нежели Анатэма?» В Прологе пьесы Некто, охраняющий входы, и Анатэма едва не подрались, когда дьявол – как надоедливый проситель у кабинета начальника, пытался проникнуть на прием к Богу: «Молчаливый пес, грабитель, укравший истину у мира, железом заградивший входы! ( Яростно бросается на Некоего, ограждающего входы, и с визгом ужаса и боли отступает пред грозной неподвижностью его. И ноет жалобно, припадая серой грудью к серому камню.)Ах, у дьявола седые волосы! Плачьте, возлюбившие Анатэму, стенайте и горюйте, стремящиеся к истине, почитающие ум, – у Анатэмы седые волосы! Кто поможет сыну хари, – он одинок во вселенной. Зачем, великий, ты напугал так бесстрашного Анатэму – он не хотел тебя ударить, он только приблизиться хотел. Можно подойти к тебе, скажи? (Некто, ограждающий входы, молчит, но Анатэме слышится что-то в его молчании. Вытянув змеиную шею, он кричит страстно.)Громче, громче! Молчишь ты или говоришь, я не понимаю? У преданного заклятию тонкий слух, и в твоем молчании он улавливает тени каких-то слов; смутное движение мыслей он чувствует в неподвижности твоей – но он не понимает. Говоришь ты или молчишь? Сказал ли ты: „подойди“, или мне только послышалось это?»
В пьесе слышались отголоски «Фауста». В отличие от гётевского героя, так и не добившись приема у Бога, Анатэма – этот упрямый наследник Мефистофеля – безо всяких конвенций с Небом – затевал похожий эксперимент: дьявол намерен заполучить душу злосчастного и нищего, но честного и сердобольного еврея Давида Лейзера, являясь к тому под личиной адвоката Нуллюса с известием о миллионном наследстве.
В андреевском мире у Анатэмы есть конечно же более близкий предок: это – Иуда Искариот, предатель. Как и Иуда, Анатэма любит и Бога, и истину, но считает, что Создатель напрасно держит на нее монополию: мир живет не по Божьим законам, и человек не достоин своего Господина. Ставя свой эксперимент на Лейзере и его собратьях, Анатэма полон решительности доказать Всевышнему, что истина Анатэмы в нынешнем мире гораздо актуальнее божественной. Потомком Анатэмы будет конечно же американский миллиардер Вандергуд из «Дневника Сатаны» – последнего романа Андреева. Вообще, Анатэма весьма близок к самому автору. «Я силен, пока я разрушаю», – не раз говорил о себе Леонид Андреев. Однако разрушительный пафос героя-протагониста – этот как всегда у драматурга – пафос предельно страстной мысли, а поэтому андреевский дьявол не циничен, а скорее – чистосердечен и как ни парадоксально – наивен.
Фабула пьесы напоминает притчу: получив наследство и раздав его бедным, Давид Лейзер объявлен ими «Давидом, радующим людей», и вот уже толпы нищих, несчастных и больных проводят ночи и дни у его дверей в ожидании чуда. Вместе с живыми ждут чуда и мертвецы: принесенные на носилках жителями окрестностей близкие, умершие день, два или три назад. Даже жена Давида – старуха Сура верит в то, что он – чудотворец, приведя к нему в комнату женщину с мертвым, уже почерневшим младенцем, она умоляет мужа воскресить ребенка «вне очереди».
В конце концов осознав, что чуда не будет, разъяренная толпа побивает Лейзера каменьями и тот умирает на руках Анатэмы; последнее, что слышат на земле уши праведного Давида, – страшная реплика дьявола: «Ты мертв. И мертвы дети. Земля мертва – мертва – мертва». В финале, торжествуя, приходит Анатэма к Богу, но тут он слышит от непреклонного охраняющего входы «секретаря», что Давид Лейзер оказался угодным Небу и что его душа – уже там, за железными воротами, там, куда Анатэме нет входа; «Давид достиг бессмертия и живет бессмертно в бессмертии света, который есть жизнь». А он, Анатэма, никогда не узнает истину: «Анатэма – несчастный дух, бессмертный в числах, вечно живой в мере и весах, но еще не родившийся для жизни».
Едва закончив эту «героическую трагедию», Андреев передал ее в МХТ, и, хотя поначалу пьеса понравилась лишь Немировичу-Данченко, этого оказалось достаточно для принятия ее к постановке, тем более что Владимир Иванович связывал с «Анатэмой» «обновление всей художественной линии МХТ». Станиславский же после «Жизни человека» относился к писателю настороженно, если не враждебно. «Лучше совсем закрыть театр, чем ставить Сологуба и Андреева» [438]438
Беседа с К. С. Станиславским // Утро России. 1910. № 190. 6 июля. С. 3.
[Закрыть], – заявил он в одном из интервью, в письмах же ставил автора «Жизни человека» в один ряд с прочими: «все эти чириковы, найденовы, андреевы…» Однако заинтересованность второго лидера МХТ решила дело: проведя две предварительные беседы о пьесе в мае, Немирович-Данченко начал репетировать «Анатэму» в августе и 2 октября 1909 года за 89 репетиций выпустил спектакль.
Премьера принесла Владимиру Ивановичу немалую славу. Дело в том, что, взвалив на свои плечи основной груз руководства прославленным театром, творчески – Немирович нередко ощущал себя в тени «великого Станиславского», что, безусловно, мучило его душу. Успех «Анатэмы» вывел режиссера из тени «Орла», как ласково в театре называли создателя «системы Станиславского». «Без фраз, постановка „Анатэмы“ в Художественном театре дает право Вл. И. Немировичу-Данченко на звание большого художника» [439]439
Эфрос Н.«Анатэма» в Художественном театре: От нашего московского корреспондента // МХТ в русской театральной критике. Цит. изд. С. 222.
[Закрыть]– таков был вердикт большинства критиков после премьеры. Действительно, этот спектакль с первых минут изумлял зрителя, так привыкшего к реальным стульям, столам, скамейкам, лесенкам, пению птичек, жужжанию мушек или шуму морского прибоя. Старый «мхатовский волк» художник Симов выстроил нереальную картину Пролога на контрасте сияния и тьмы. «Внизу – тьма и скалы, вверху – что-то золотое, сверкающее, заключенное в рамы, напоминающее отдаленно какие-то иконостасы, царские врата», – писал Сергей Яблонский в «Русском слове». Через несколько минут сценического действия выяснялось, что «иконостасы» есть не что иное, как два крыла Охраняющего входы, чья маленькая фигурка темнела на фоне золота этих мощных ангельских крыльев. «А внизу, как пресмыкающийся червяк, ползает Анатема. Это не человек. Не человек это у автора, не человек и у Качалова. То есть не то, что это артист, загримированный дьяволом, нет, это воистину не человек. Он, вероятно, не подчинен земным законам, например, закону притяжения земли: так ловко, неслышно ползает он по скалам, поднимаясь по ним, словно злые испарения земли» [440]440
МХТ в русской театральной критике. Цит. изд. С. 217.
[Закрыть].
Что ж, если премьера «Анатэмы» в МХТ лишь упрочила громкую славу и Немировича-Данченко, и Андреева, то для исполнителя роли дьявола – актера Василия Качалова – 37 представлений «Анатэмы» оказались ступеньками на олимп. «Вылив своего Анатэму из бронзы», он сделал невротичного андреевского дьявола центром спектакля, с очевидностью затмив всех прочих персонажей. «И что бы на сцене ни происходило, какой бы момент вы ни выбрали, везде надо было смотреть на Качалова, – с удивлением и восторгом рассказывал рецензент „Русского слова“. – Страдает или радуется Лейзер – смотри на Качалова… Негодует Роза, умиляется Сура – смотри на Качалова» [441]441
Там же. С. 218.
[Закрыть]. Трудно сказать, была ли тому виной лишь сила актерского дара Качалова или невыразительность других исполнителей… Честно говоря, рецензенты вообще не уделяли внимания другим персонажам, а восхваляя игру Качалова, многие сходились на том, что актер играл не человека: его как будто мертвая голова излучала невидимые лучи, в нем явственно ощущалась некая дисгармония, на всякие лады критика с восторгом описывала его голос, его смех, напоминающий кашель. «Откуда такая силища? Откуда такой талант? такой голос, в котором тысячи интонаций и ни одной фальшивой, даже если там воспроизводится величайшая фальшь» [442]442
Там же.
[Закрыть]. Самого Василия Ивановича роль дьявола просто-таки измотала, он признавался близким, что возненавидел Анатэму, и, кстати, он сделал его вовсе не таким страстным, каким представлялся этот трагический герой автору. Однако, увидев Василия Ивановича, Андреев был сражен: «Качалов вступил со мною в борьбу и победил меня» [443]443
Беседа с Леонидом Андреевым//Русское слово. 1909.15 октября. С. 3.
[Закрыть]. Все, все признали Качалова-Анатэму, а для актера эта роль стала предтечей Ивана Карамазова, Гамлета, Николая Ставрогина.








