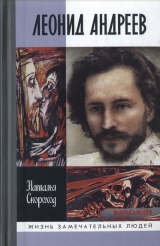
Текст книги "Леонид Андреев"
Автор книги: Наталья Скороход
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц)
Димискину было только два года, когда он выучил слово «отец». Мальчик самостоятельно заменил им детское слово «папа». Это слово «отец» по ходу жизни теряло для него прежние значения, приобретало новые смыслы, но никогда их так и не утратило. Напротив, – это слово оказалось одним из определяющих для всей его жизни. Любопытно, что Андреев – так же, как сделал когда-то своего первенца Николай Иванович – его отец, – тщательно подготовил для сына удобную среду обитания – осенью 1903 года Андреевы переехали в новую большую и светлую квартиру, где была и маленькая детская комнатка. Свои первые шаги Димискин сделал в тихом переулочке между Большой и Малой Грузинскими улицами в самом центре Москвы, где в уютном особнячке с садиком нанималась теперь барская – в семь комнат квартира. Как вспоминал Аркадий Алексеевский, «обслуживало квартиру уже четыре прислуги, в том числе и лакей, который вместе с горничной подавал к столу» [213]213
Цит. по: «Жизнь…». С. 126.
[Закрыть].
Устоявшаяся жизнь, известность, огромный круг общения – в доме Андреева, по свидетельству многих, бывали практически все московские писатели, и Андреев по чисто московской привычке очень скоро со многими перешел на «ты» – отнюдь не вносили успокоенность в мятежную душу нашего героя. Чем более комфортным было его существование, тем более тревожными – образы, всплывающие во время «ночных бдений» – в удушливой – от сигаретного дыма – атмосфере кабинета, под воздействием десятка стаканов черного – крепчайшего – чая. Еще не знакомый с Андреевым Блок, читая «Жизнь Фивейского» и «Красный смех», чутко почувствовал «хаос», который носил Андреев у себя в душе. О «странной тревоге», «мучительном беспокойстве» вспоминал и знавший Андреева в ту пору писатель-символист Георгий Чулков. «Какой-то бунт», «несогласие со всем» отмечал у друга даже «милый Максимушка»: «Я тебя люблю, потому что ты – анархист, ты – талантливый анархист, ты никогда не выродишься в мещанина» [214]214
Переписка. С. 150.
[Закрыть]. Природу этого «душевного бунтарства» едва ли понимал тогда сам Андреев, подчас ему казалось, что причина его внутреннего неблагополучия – социальная атмосфера 1903–1905 годов, когда по поэтическому предощущению Блока «раскинулась необозримо уже кровавая заря, грозя Артуром и Цусимой, грозя девятым января».
Война вспыхнула в январе 1904 года и, вспыхнув – бесконечно далеко от Москвы – где-то «на сопках Маньчжурии», вспыхнув – по инициативе Японии – за глобальные влияния на Дальнем Востоке (интересы Российской империи и Страны восходящего солнца столкнулись в Корее и Маньчжурии), как будто и вовсе не задевала мира, в котором жил и трудился Леонид Андреев. Русско-японская война, однако, немедленно вошла и в быт, и в разговоры московской писательской братии. «…говорили мы о безумии начатой войны, о чудовищных наших неурядицах, о бездарности наместника на Дальнем Востоке, адмирала Алексеева» [215]215
Вересаев.
[Закрыть], – вспоминал вскоре мобилизованный на эту войну Вересаев. В витринах московских лавочек появились агитационные лубки, где ладный русский богатырь, ухмыляясь, нанизывал на огромную пику с десяток визжащих японцев. Осада и сдача Порт-Артура – незамерзающего порта на Желтом море, который Россия аннексировала у Китая в 1897 году, чтобы разместить там военно-морскую базу, отчаянное сопротивление русских моряков, многотысячные потери, позорные поражения при Мукдене и в Цусимском сражении обнажили полную несостоятельность российских амбиций. Впору было менять вектор агитации и размещать плакаты, где бравый японец одним каблуком давит и топит в луже десяток российских кораблей… Очевидные поражения и чудовищные потери в этой странной войне с далеко не очевидными целями вызывали у русской интеллигенции единственную реакцию: «это безумие».
«…безумие и ужас. Впервые я почувствовал это, когда мы шли по энской дороге – шли десять часов непрерывно, не останавливаясь, не замедляя хода, не подбирая упавших и оставляя их неприятелю, который сплошными массами двигался сзади нас и через три-четыре часа стирал следы наших ног своими ногами» – знаменитый андреевский «Красный смех» был написан всего за десять дней, но вынашивался многие месяцы. Весной 1904 года семья уехала в Крым, под Ялтой у Никитского сада, в местечке, очевидно понравившемся Леониду и Шурочке во время их свадебного путешествия, они поселились на даче «Монтедоро», чтобы, как писал Андреев Вересаеву, вдыхать «горьковато-душистый запах можжевельника, которым здесь топят печи. Потом – соленый, глубокий, влажный, широкий запах моря, а за ним тьма-тьмущая приватных запахов, как то: сосны, пыли всевозможных цветов» [216]216
Цит. по: Там же.
[Закрыть]. Здесь, на берегу спокойного моря, среди кипарисов и расцветающих магнолий, вдали от торпедных атак и тонущих миноносцев, Андреев перебрал в голове множество сюжетов, но ни один из них «не ложился на бумагу». За несколько месяцев, совершая прогулки к морю или взбираясь на мыс Мартьян, он начал и бросил историю взлета и падения царя Навуходоносора, рассказ «Бунт на корабле», повесть «Чудо» – сюжет о взорвавшем чудотворную икону анархисте – черновик будущей пьесы «Савва», раздумывал он и над другими библейскими сюжетами, но… в конце концов вынужден был признать, что «для меня лето пропало… <…> Первая осень, когда я ничего не пишу, и хуже того – ничего в мыслях не приготовил для работы, ибо не мог думать. Боюсь, как бы не пропала зима от этого. Неврастения – только усилилась» [217]217
Цит. по: Вересаев.
[Закрыть].
Еще в середине лета, переживая смерть Чехова и «переваривая» вести с Дальнего Востока, Андреев лицом к лицу столкнулся с чужой частной бедой, «…нынче вечером возле нашей дачи взрывом ранило двух турок, одного, кажется, смертельно, вырвало глаз, – писал он в начале августа 1904 года Горькому. – Эти турки все лето работают у нас, очень милые ребята, смелые, деликатные, держатся с достоинством. И эти двое забивали бурку, когда от искры произошел взрыв. И я видел, как несли одного из них, весь он, как тряпка, лицо – сплошная кровь, и он улыбался странной улыбкой, так как он был без памяти. Должно быть, мускулы как-нибудь сократились, и получилась эта скверная, красная улыбка» [218]218
Переписка. С. 218.
[Закрыть]. Кровавая улыбка, мелькнувшая на лице мертвого рабочего. Неудача русской эскадры в Желтом море. (Не удалось прорваться во Владивосток.) Поражение при Ляояне. Девятнадцать тысяч убитых, десятки тысяч искалеченных. «И тут впервые я почувствовал это. Я ясно увидел, что эти люди, молчаливо шагающие в солнечном блеске, омертвевшие от усталости и зноя, качающиеся и падающие, что это безумные. Они не знают, куда они идут, они не знают, зачем это солнце, они ничего не знают. У них не голова на плечах, а странные и страшные шары».
Итак, «Красный смех» – мучительно найденный ответ Андреева на вызов времени, этот огромный рассказ, исследующий, по его собственному признанию, «психологию настоящей войны», был задуман еще в Крыму, но осенью, уже в Москве, автор долгое время не решается сесть за стол, он «занимается мелочами», он общается с вернувшимся с фронта офицером – братом Филиппа Александровича Михаилом Добровым, он переносит сроки сдачи рассказа, но уже конкретно и часто упоминает о нем в письмах – первоначально он хотел назвать его «Война»… И лишь в конце октября Андрееву удается ухватить целое: «Я узнал его, этот красный смех. Я искал и нашел его, этот красный смех. Теперь я понял, что было во всех этих изуродованных, разорванных, странных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольется по всей земле, этот красный смех!»
Девять разрозненных отрывков – давали читателю девять будничных картин войны, не конкретной – Русско-японской – войны вообще, всякой войны, где есть свои и есть неприятель, где руки воина от «насохшей крови… оделись точно в черные перчатки», где есть «равнодушные, спокойные, вялые трупы», где раненые копошатся и ползают, «как сонные раки, выпущенные из корзины…». Картины, увиденные глазами офицера действующей армии, которому «нашей гранатой, пущенной из нашей пушки нашим солдатом, оторвало… ноги» и который вернулся в родной город к родным людям – сыну, матери, брату, жене. И далее – спасшийся от «красного смеха» безногий калека – «весь трясущийся, с разбитою душой, в своем безумном экстазе творчества… с необыкновенною быстротой он водил сухим пером по бумаге, отбрасывая листки один за другим, и все писал, писал». Смертельная рана войны – по своему свойству оказалась душевной раной: лишившись разума, в слепом экстазе безумного порыва к сочинительству герой лишается и жизни, последние девять отрывков написаны братом офицера – мирным обывателем, никогда не ступавшим на поле войны. Однако и он оказывается «заражен» этим безумием: оставшись один в огромном особняке, этот человек счастлив оттого, что «война безраздельно владеет» им, что война «стоит, как непостижимая загадка, как страшный дух, которого я не могу облечь плотью. Я даю ей всевозможные образы: безглавого скелета на коне, какой-то бесформенной тени, родившейся в тучах и бесшумно обнявшей землю, но ни один образ не дает мне ответа и не исчерпывает того холодного, постоянного отупелого ужаса, который владеет мною». Брат умершего начинает «слышать» войну, и здесь Андреев оставляет пространство для воображения читателя, не оставляя ясности – кому из братьев – мертвому или еще живому – принадлежат новые картины войны: «Точно с мозга моего сняли костяную покрышку, и, беззащитный, обнаженный, он покорно и жадно впитывает в себя все ужасы этих кровавых и безумных дней». Собственно и источник повествования в первой части остается неясен – дневник ли это офицера, обрывки его рассказа брату или же созданные в безумном экстазе воспоминания… Андреев говорил, будто весь дневник целиком сочинен братом офицера, но для читателя это в конце концов оказывается несущественным, ибо грань между жизнью и смертью, реальностью и фантастикой постепенно размывается, и в последней – фантастической сцене оба брата – живой и мертвый – видят, как «от самой стены дома до карниза начиналось ровное огненно-красное небо, без туч, без звезд, без солнца… А внизу под ним лежало такое же ровное темно-красное поле, и было покрыто оно трупами». Трупы все прибывают: «очевидно, их выбрасывает земля». Наконец, трупы появляются в комнате, занимая все больше и больше пространства: «голыми ногами они уже касались нас и лежали плотно рукою к руке». Спастись? Но спасения нет: «За окном в багровом и неподвижном свете стоял сам Красный смех».
Уже после смерти Шурочки Андреев рассказал Вересаеву, что первым читателем и своеобразным редактором этого сложнейшего текста была именно она. И что, окончив первую версию «Красного смеха», он немедленно прочел ее жене. «Она потупила голову, собралась с духом и сказала: – Нет, это не так! Он сел писать все сызнова. Написал. Была поздняя ночь. Александра Михайловна была в то время беременна. Усталая за день, она заснула на кушетке в соседней с кабинетом комнате, взяв слово с Леонида Николаевича, что он ее разбудит. Он разбудил, прочел. Она заплакала и сказала: – Ленечка! Все-таки это не так. Он рассердился, стал ей доказывать, что она дура, ничего не понимает. Она плакала и настойчиво твердила, что все-таки это не так. Он поссорился с нею, но… сел писать в третий раз. И только, когда в этой третьей редакции она услышала рассказ, Александра Михайловна просияла и радостно сказала: – Теперь так! И он почувствовал, что теперь действительно так» [219]219
Вересаев.
[Закрыть].
Этот откровенно экспрессионистский текст, напоминающий современному читателю не только «Ужасы войны» Гойи, которыми Андреев непременно хотел оформить рассказ, но и графику Бекмана и Дикса, да и фантастические кадры из многочисленных «Мертвецов» Джорджа Ромеро, – в начале века оказал на публику эффект разорвавшейся бомбы. Опубликованный в третьем сборнике издательства «Знание» (22 января 1905 года книжка сборника поступила в продажу) – рассказ немедленно оказался в центре внимания буквально всех общественных и эстетических «лагерей». Прогрессивный журнал «Образование» полагал, что «огненному слову Андреева против войны суждено влить в общественное сознание ряд благотворных идей в противовес вакханалии крови, зверства и одичания». Проникновение в сознание современного человека, «бессильного выдержать и вынести войну, вместить ее не могущего» [220]220
Цит. по: Афонин. С. 84.
[Закрыть], – ставил в заслугу Андрееву и «Красному смеху» символист Вяч. Иванов. Более того, в последующие месяцы возникало множество картин войны, созданных под влиянием «Красного смеха», а сумасшествие героя, вернувшегося с фронта, вскоре стало общепринятым сюжетным ходом для беллетристики тех лет.
Конечно же в стане Горького многих смущали явная фантастичность, абстрактность и откровенная асоциальность «Красного смеха», смутили они и Льва Толстого, которому Андреев послал свой рассказ еще в ноябре 1904 года. Впрочем, Толстой, в отличие от «друга Максимыча», вероятно понял, что править андреевский текст бессмысленно, поскольку перед ним – хотя и чуждое его творческому методу и убеждениям, но все же – цельное произведение, Горький же просил и даже умолял Андреева существенно доработать текст. «Алексеич» советовал выкинуть последний эпизод «с нашествием трупов», настаивая на том, что «рассказ чрезвычайно важный и своевременный, сильный», но чересчур болезненный и пессимистичный, он просил Андреева немного «оздоровить его». Мешал Горькому и пробивающийся сквозь факты сюжета авторский голос: «факты страшнее и значительнее твоего отношения к ним в данном случае». Всегда чуткий к его замечаниям Леонид на этот раз оказался «насквозь не согласен». «Оздоровить, – писал он, – значит уничтожить рассказ», «мое отношение к фактам войны – тоже факт». Финал, возможно, и плох, но пусть будет таким, какой есть. Парадокс, но как читатель и критик Андреев готов был согласиться со всеми доводами Горького, и более того – будучи в восторге от «Красного смеха» в ноябре, уже через месяц он полагал, что замысел рассказа прекрасен, а исполнение «кургузое». Однако как писатель он категорически отказывался внести какое-либо, даже самое не существенное исправление, по какой-то неведомой Леониду Николаевичу причине его художническое «я» свирепо охраняло этот текст от любых посягательств [221]221
См.: Переписка. С. 243–246.
[Закрыть].
Смущала «болезненность» этой прозы не одного Горького. Даже такой проницательный ум, как Дмитрий Мережковский [222]222
См.: Мережковский Д. С.В обезьяньих лапах. О Леониде Андрееве.
[Закрыть]– и тот упрекал Андреева в чрезмерности: «Художник может созерцать уродство, но не может хотеть уродства; может быть в хаосе, но не может быть хаосом. Художественное творчество Андреева мне кажется сомнительным не потому, что он изображает уродство, ужас, хаос, – напротив, подобные изображения требуют высшего художественного творчества, – а потому, что, созерцая уродство, он соглашается на уродство, созерцая хаос, становится хаосом».
Сей парадокс объяснить теперь довольно просто. По своей экзальтированности, преувеличенности, сгущенности чувств, абстрактности, когда срывается все конкретное, наносное и открывается «чистая сущность» человеческой и пространственной материи, по самому строению формы – «рваной» композиции, незаконченности отрывков, повторам, зыбкости источника повествования, болезненной, гротескной преувеличенности событий, а главное – по тому, что за этими картинами и событиями ощущался крайне эмоциональный авторский – даже не голос, а крик – этот текст является одним из наитипичнейших и наиболее выразительных произведений русского литературного экспрессионизма. Но как мы знаем, собственно экспрессионизма как эстетического течения в 1904 году не существовало не только в русском, но и в европейском искусстве. Сам термин будет введен в эстетический обиход лишь в 1910–1911 годах, а собственно течение начнет утверждаться в европейском искусстве во втором десятилетии XX века. Теперь же русская словесность делилась, по меткому замечанию Зинаиды Гиппиус, на «два мешка»: «декадентов» и «общественников». Леониду Андрееву, каким он уже сформировался к 1905 году, оба эти «базовых качества» присущи не были. Андреев был – «общественное животное», и социальное чувство было развито у него чрезвычайно сильно. В одиночестве, в изоляции от мира, он мгновенно впадал в депрессию, и напротив – чувствовал себя комфортно под чьими-нибудь «знаменами». Более того, в честолюбии своем он хотел, страстно желал быть на переднем плане общественной жизни. Вера в Бога, отвергнутая еще в отрочестве, по мере погружения в ужасы существования человека в выстроенном Создателем мире – все с большей решимостью отрицалась. И – как беллетриста – нашего героя тянуло конечно же к «общественникам» или – по типологии Гиппиус – во «второй мешок». Но как писатель-экспрессионист, творческий метод которого уже сформировался в те годы, он просто не мог уложить себя в схемы, бывшие «в ходу» у писателей «горьковской плеяды». Наш герой и сам чувствовал, что «мешка» – где бы он мог встретить родственных для себя писателей-коллег, еще не «пошили» и что как художник он – «преждевременный человек». Позже он это замечательно сформулировал сам: «Над ржаво-зеленым болотом, где вся жизнь в тине, бурчанье и лопающихся пузырьках, вдруг поднялась на тонкой звериной шее чья-то очень странная голова, очень бледная, очень странная, с очень нехорошими глазами. И все ахнули: „Вот он пришел!“ И многие перекрестились от страху» [223]223
S.O.S. С. 45.
[Закрыть].
Но и тогда – в 1904-м писатель как будто уже почувствовал свою «преждевременность». «Разум, который не хочет, не может помириться с войною и гибнет как часовой на своем посту, – разум будущего, а не настоящего», – справедливо и даже провидчески писал Андреев Горькому. «Война – невзгода это настоящее, война – безумие, это завтрашнее» [224]224
Переписка. С. 242.
[Закрыть], и назавтра эта мысль отзовется не только в истории, но и в знаковых произведениях искусства XX века – «Крике» Мунка, «Мамаше Кураж» Бертольда Брехта, «Гернике» Пикассо.
Глава шестая
1905–1906: ДРАМАТУРГ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, ЭМИГРАНТ
«Поэт в России – больше, чем поэт» – Андреев и первая русская революция.
Арест и Таганская тюрьма.
«Савва» и «К звездам» – начало карьеры драматурга.
Смерть в текстах и в собственном доме. «Елеазар».
Бегство на Запад. Рождение Даниила. Болезнь и смерть Шурочки.
Судьба писателя-мистика Даниила Андреева.
«Что-то странное произошло с крепкими узами, соединявшими короля и народ, и они стали распадаться, беззвучно, незаметно, таинственно, – как в теле, из которого ушла жизнь и над которым начали свою работу новые, где-то таившиеся силы», – писал наш герой в разгар событий 1905 года. Конечно же в сюжете рассказа «Так было» слышится лишь отдаленное эхо первой русской революции. В действительности крепких уз между «королем и народом», вопреки позднейшим утверждениям историков и писателей почвеннического толка, в России к 1905 году давно уж не было: обложенное налогами, скованное круговой порукой и обделенное землей – скрежетало зубами крестьянство, озлобленные по большей части свинскими условиями труда – рычали рабочие, отстраненное от участия в управлении государством ныло земство, позор японской войны заставил призадуматься даже военных и промышленников, а что уж говорить об интеллигенции! Внук царя-освободителя, называющий конституцию «бессмысленными мечтаниями», и так-то не был особенно популярным государем, внутренняя политика, которую с одобрения Николая Второго с 1902 по 1904 год проводил министр внутренних дел фон Плеве, сделала социальное положение в России взрывоопасным. «И случилось, что в обширном королевстве… произошла революция…»
Русская революция от самого начала оказалась судьбоносной для Леонида Андреева – писателя и гражданина, ее события изменили жизнь, скорректировали гражданскую позицию, но самое важное: революция открыла для Андреева-писателя новые возможности: обнаружилось вдруг, что разрушительный пафос масс и геройство рыцарей-одиночек стали новым «коньком» Леонида Николаевича, эти темы приносили автору огромный успех.
Два обстоятельства: сам характер первой русской революции и горячая дружба с ее Буревестником – Максимом Горьким – определили место нашего героя среди баррикад. Именно в 1905 году Леонид Николаевич становится буквально тенью Горького:события андреевской жизни отражают – правда, в несколько уменьшенном масштабе – горьковские. Еще в 1904 году Леонид Николаевич совместно с другими московскими писателями подписывал гневные обращения к властям, протестуя против жесткого сценария разгона студенческих демонстраций. Накануне Кровавого воскресенья Горький, Гессен, Ник. Анненский и еще семь виднейших представителей российской интеллигенции просят Витте «не допускать крови» во время мирного шествия «рабочих к царю». Сразу после трагических событий 9 января практически все участники этой делегации были арестованы по подозрению «в руководстве противоправительственными организациями в делах свержения самодержавия». Максим Горький оказался в одиночной камере Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. А спустя месяц, 9 февраля, в собственном доме был арестован и Андреев – за предоставление квартиры для заседаний ЦК РСДРП. «Люди уже потеряли власть над событиями, начали действовать стихии, и что даст революция, умноженная на весну, на холеру, на голод, – невозможно решить. А в итоге будет хорошо – это несомненно… Если еще в тюрьме увидите Алексея, поцелуйте его от меня» [225]225
Переписка. С. 256.
[Закрыть], – писал Андреев Пятницкому. Оба писателя были отпущены из заключения под залог. Семнадцать тысяч рублей за Горького выложила его новая жена – примадонна МХТ Мария Андреева, под денежное поручительство в десять тысяч рублей Андреев был отпущен из Таганской тюрьмы. Поручился за него Савва Морозов. Оба – Горький и «его тень» – в тот же год уехали: Алексеюшка был выслан в Ригу и далее – с бросившей ради него мхатовские подмостки Марией Федоровной – отбыл в Европу, потом – в США. Леонид – с Шурочкой и Диди – в Финляндию, потом – в Германию. Летом 1905 года Андреев «в тени» Горького принимает участие в благотворительных вечерах в пользу Петербургского комитета РСДРП и семей бастующих рабочих Путиловского завода. В мае 1906-го Леонид Николаевич уже в одиночестве выступает с пламенной речью на митинге в Гельсингфорсе, призывая к свержению самодержавия. Но и помимо Максимыча, ближний круг Леонида Николаевича составляли «люди баррикад»: беллетристы-«подмаксимовики» Скиталец и Чириков, писатель-марксист Вересаев и писатель-революционер Серафимович.
Однако если Андреев и стал в эти революционные годы тенью Буревестника, то эта тень, как будто следуя известному сюжету, незаметно, но неуклонно отделялась от хозяина. Драматургия отношений Горького и Андреева к революционным стихиям при схожести событийной различалась по жанровым признакам. Как будто исполненный эпической воли исполин отбрасывал странную – то колеблющуюся, бледную, то растягивающуюся на мили, то сжимающуюся в комок – тень. Чуткий к образным дефинициям Андреев сам сформулировал различие: Горький – Красное знамя революции, а я – ее Красный смех.
Горький – под влиянием второй жены М. Ф. Андреевой – окончательно определил свою «политическую платформу» и вступил в ряды РСДРП(б). Теперь, из тренера «команды» так называемых «писателей-общественников», где Андреев, несомненно, выполнял в 1904–1905 годах роль «центрального нападающего», Алексей Максимович выдвинулся на роли политические: он уже знаком с Ульяновым-Лениным, уже живет и действует по заданию партии. Большевики вовсю используют литературную и драматургическую славу Горького, его магнетическую способность воздействовать на массы. В США тот отправился со специальной миссией, писатель и актриса собирали средства для партии большевиков.
Но нашему герою революция, конечно, близка отнюдь не практической стороной, Андреев скорее погружен в «бессмысленные мечтания» о благородном подвиге одиночки, идущего на смерть ради чаяний народных масс. И если бы наш герой всерьез задумался о своих политических симпатиях – он выбрал бы отнюдь не зануд и демагогов большевиков, а романтических эсеров.
В воспоминаниях руководителя Боевой организации Бориса Савинкова есть прелюбопытный эпизод: подготавливая теракт с целью убийства московского губернатора великого князя Сергея Александровича, Савинков как-то раз просто-напросто пришел к Андрееву в Грузины и, назвав свое имя, попросил автора «Красного смеха» о небольшой услуге: будущим убийцам необходим был человек, знающий расписание выездов московского губернатора и этот человек – князь Д. Шаховской – частенько заглядывал «на огонек» к писателю. Андреев, хотя и удивился столь необычной просьбе, через пару дней отрекомендовал Савинкова князю, внеся тем самым и свою лепту в террористический заговор. Трудно сказать, задумывался ли тогда Леонид Николаевич о личном участии в революционной борьбе или же просто с жадностью вдыхал «воздух времени». Ясно одно, события 1905-го втянули и его в воронку «практических дел»: 1905 год – своеобразный пик социального «бунтарства» Андреева.
«Это было в начале 1905 года, – вспоминал Скиталец. – Наша „Среда“ в полном составе собралась у Телешова. Ожидали, что Андреев прочтет свой новый рассказ, но настроение было у всех повышенное, тревожное: всем хотелось говорить. Вдруг в комнату вбежал художник Первухин, непременный, давнишний член „Среды“. Он был бледен, казался крайне взволнованным.
– Господа, – закричал он, – новость получена сейчас по телефону из Петербурга! Бойня перед царским дворцом! Масса крови!
Все повскакали с мест, загремели стулья, послышались восклицания. Толпой окружили вестника.
– Погодите, дайте отдышаться! – продолжал запыхавшийся Первухин. – Десять тысяч рабочих двинулись ко дворцу с иконами, с хоругвями, под предводительством какого-то священника Гапона. В них стреляли! Масса убитых и раненых! <…> Подробности еще неизвестны, телефон прерван!» [226]226
Скиталец.
[Закрыть]
Поначалу революционная эйфория как будто меняет образ мыслей и срывает творческие планы. «События держат мысль в таком напряжении, что ничего нельзя делать: ни работать, ни отдыхать, ни сидеть дома, ни думать о чем-нибудь другом, помимо происходящего, – пишет Андреев в январе. – Так и мечешься весь день как угорелый» [227]227
Переписка. С. 256.
[Закрыть]. К концу января напряжение только нарастает. «Вы не поверите, ни одной мысли в голове не осталось, кроме революции, революции, революции. Вся жизнь сводится к ней, – даже бабы рожать перестали, вот до чего», – с каким-то детским восторгом сообщает наш герой Вересаеву. В начале 1905 года Андрееву, как и многим из его круга, казалось, что вот-вот одна-две баррикады «превратятся в тысячу баррикад. В России будет республика» [228]228
Там же. С. 542.
[Закрыть]. Не случайно именно в 1905 году он становится, наконец, драматическим писателем, его образам уже как будто тесно в рамках повествования, и жажда действия выливается в две – пусть еще не совершенных и весьма традиционных по своей поэтике, но ярких и точно отражающих мировосприятие Андреева в те годы – пьесы: «Савва» и «К звездам».
А вскоре революционные вихри буквально ворвались в тихий особнячок в Грузинах, разметав такой приятный и ставший уже вполне респектабельным быт Андреевых: почти вслепую – опять-таки по просьбе неизвестного ему человека Иосифа Дубровинского – писатель «дал свою квартиру для собрания неизвестных ему людей» [229]229
Переписка. С. 250.
[Закрыть], как только «группа товарищей», входивших, как выяснилось, в ЦК РСДРП, собралась в одной из семи андреевских комнат в особняке Шустова, нагрянула полиция. Среди прочих, в заседании ЦК принимал участие давно разыскиваемый большевик-подпольщик Лев Карпов, именно он и привел за собой «хвост» к дому Шустова, спровоцировав обыск и все дальнейшие события.
Итак, застукав у Андреева «девять лиц, пытавшихся при появлении полиции уничтожить разные рукописи и другие документы, бывшие с ними» [230]230
ЦГАОР. Ф.ДП, VII. Оп. № 872, 1905. Лл. 1,5.
[Закрыть], некий полицейский чин заявил о том, что в доме будет произведен обыск. Имеющий юридическое образование хозяин немедленно потребовал ордер или – как тогда говорили – «предписание на обыск», с этим, как водится, вышла заминка, однако – пока один из офицеров «поскакал за ордером» – руководящий «операцией» пристав перекрыл вход в особняк, действуя по принципу «всех впускать, никого не выпускать». Второй из «подмаксимовиков», писатель Скиталец по доброй традиции, заехав к Андрееву после бани выпить винца, стал участником вполне комедийной сценки: «…едва отворил дверь подъезда, как дворники захлопнули ее за мной, и я очутился в руках рослых полицейских, которые крепко схватили меня под руки, вырвав узелок с бельем. Я стал вырываться, но меня держали, как в железных тисках.
– Да пустите же! – кричал я. – Что вы меня держите? В чем дело?
– Успокойтесь, успокойтесь! – вежливо сказал мне подошедший околоточный надзиратель, бережно и с каким-то опасением принимая мой узелок. – Пожалуйте в квартиру, здесь производится обыск!»
Длившийся до вечера обыск особенных результатов не дал, все нелегальные издания и бумаги, изъятые у «партийцев», с очевидностью не имели к Андрееву никакого отношения, и казалось, для самого писателя, присутствующих при вторжении Диди и Шурочки да пришедших в гости родственников и Скитальца всё закончится только испугом. Не тут-то было! «Наконец отправили куда-то, вероятно, в тюрьму, партийных людей, а затем понемногу стали выпускать из столовой остальных задержанных. К полночи столовая опустела: в ней остались только я и Андреев. Думали, что вся эта история кончилась, когда вошел жандармский ротмистр, заявивший, что мы оба арестованы и препровождаемся немедленно в тюрьму. Подивились, пожали плечами, развели руками, но, конечно, должны были подчиниться; оделись и вышли в сопровождении двух жандармов. У подъезда стояли два дрянных московских извозчика; на этих клячах нас тихо, не торопясь, как-то буднично, мирно и долго везли в Таганскую тюрьму» [231]231
Скиталец.
[Закрыть].
Доказать причастность Андреева и Скитальца к ЦК РСДРП оказалось затруднительно, писателей так ни разу не вызвали на допрос, не предъявили никакого обвинения. «Вегетарианский» характер тюремного заключения отмечали оба арестованных: «Обращались с нами в тюрьме почтительно. Приходил начальник тюрьмы, как-то заискивал и обронил такую фразу: „Время тревожное, кто знает, может быть, скоро вы будете правительством!“ <…> Мы пользовались неслыханными привилегиями: нам из дому приносили самую лучшую провизию, тюремный повар, оказавшийся прекрасным мастером своего дела, готовил нам шикарные обеды. Имели какие нам угодно книги, чернила, бумагу, а на прогулку нас выпускали вместе», – вспоминал Скиталец. Хотя, вероятно, ностальгическая восторженность помешала автору донести события в точности: известно, что самого Андреева отнюдь не обольстили разносолы таганского повара, и Шурочка потратила немало сил, чтобы вызволить мужа из тюрьмы, добывая многочисленные бумаги, врачебные свидетельства, поручительства. Ее старания и залог, внесенный Морозовым, «сработали»: Андреев был отпущен 25 февраля. «А ведь я еще сидел в тюрьме как барин – там же были люди – и есть, которые сидят по-настоящему… и для которых Таганка не увеселительная поездка, как для меня, а настоящий „рак мозга“» [232]232
Переписка. С. 259.
[Закрыть], – писал он другу Максимычу, вернувшись домой после двадцати дней тюрьмы.








