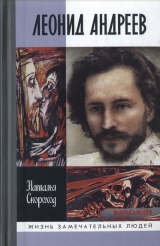
Текст книги "Леонид Андреев"
Автор книги: Наталья Скороход
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
Еще в 1906 году в Петербурге образовался, как поначалу казалось, «дубль» «Знания» – издательство с замечательным и таким характерным северным именем – «Шиповник». Под тем же названием здесь – как и в «Знании» – начали выпускать альманах. Сборники стоили поначалу один рубль, что было по тем временам довольно демократично. Впоследствии тиражи альманаха «Шиповник» доходили и до тридцати шести тысяч экземпляров и цена конечно же подросла. Жизнь «Шиповника» сложилась на удивление удачно: от первой и до второй революции он во многом определял «литературную погоду» России. С 1907 по 1916 год вышло 26 сборников «Шиповника», то есть литературно-публицистический альманах издательство выпускало три раза в год.
Основали это издательство два человека: художник-карикатурист Зиновий Исаевич Гржебин и журналист Соломон Юльевич Копельман, поначалу намерения их были чисто коммерческие и выпускали они плакаты и открытки, но, войдя во вкус, затеяли альманах, а затем приступили и к выпуску книг. Думаю, что у начинающих издателей не было никакой издательской политики, такое в разделенной на враждующие лагеря столичной художественной среде выглядело нонсенсом, но этот-то «нонсенс» предприимчивые Копельман и Гржебин сделали своей «фишкой». «Собрать, – как писал впоследствии Блок, – наиболее интересное и характерное, что может дать современная беллетристика, живопись, лирика и драматургия, притом и русская, и иностранная» [364]364
Блок А. А.Цит. изд. Т. 5. С. 223.
[Закрыть]. Во втором выпуске альманаха стихи Бунина шли за стихами Городецкого, а грубая проза Муйжеля соседствовала с рисунками Бенуа. «Помещенные в нем вещи ничем не объединены», – удивлялся Корней Чуковский. Однако активность «Шиповника» и те гонорары, что платили авторам Гржебин и Копельман, нервировали писателей-знаньевцев, и нервировали весьма. Поначалу издатели переманили к себе Куприна и Бунина, а с начала 1907 года – взялись за Леонида Андреева. «Что я могу сказать тебе? – писал Андреев Бунину. – С „Ш[иповником]“ я заключил трехлетний договор, по коему ⅔ написанного отдаю им, свободны только драмы… и романы» [365]365
Письма Л. Андреева и И. Бунина // Вопросы литературы. 1969. № 7. С. 171.
[Закрыть]. Переезд литературной звезды в Петербург оказался настоящей находкой для «Шиповника», немедленно обольстив хотя и преуспевающего, но вечно нуждающегося в деньгах для своей огромной семьи и своих грандиозных проектов беллетриста и драматурга, они с легкостью «перетянули» его к себе.
«Полуимпрессионизм, полуреализм, полуэстетство, полутенденциозность характеризуют правый фланг писателей, сгруппированных вокруг „Шиповника“. Самым левым этого крыла, конечно, является Л. Андреев. Левый фланг образуют откровенные и часто талантливые писатели, даже типичные символисты» [366]366
Блок А. А.Цит. изд. Т. 5. С. 224.
[Закрыть]– так видел место Андреева в альманахе его усердный читатель и конечно же один из авторов, Александр Блок.
Еще весной Андреев отдает для первой книжки «Шиповника» отвергнутую Горьким «Жизнь человека», летом же 1907 года совладельцы издательства буквально «преследуют» Леонида Николаевича, их предложение стать соредактором альманаха подходит как нельзя кстати: «свобода и художественность» как единственный критерий отбора материалов совпадают с его собственными мыслями: «свободная человеческая мысль, вечно пытующая, вечно ищущая, и как лучшее выражение ее – искусство, литература» [367]367
Переписка. С. 292.
[Закрыть]. Андреев соглашается печататься в «Шиповнике», а вскоре он и Зайцев становятся соредакторами альманаха.
Однако финансовые отношения со «Знанием» выглядят крайне запутанными: Леонид Николаевич, как мы помним, ухитрялся брать у Пятницкого авансы не только под готовые для печали произведения, но и под замыслы, ну а, кроме того, «Знание» издавало собрание его сочинений, дошедшее к моменту разрыва писателя и издательства до четвертого тома. К тому же как постоянный автор «Знания» Андреев ежемесячно получал от издательства зарплату – 600 рублей, с обязательством предоставлять Горькому и Пятницкому все – или во всяком случае большинство новых произведений, отдельно оплачивались гонорары и проценты с проданных томов собрания сочинений и книг. Но проживал-то Андреев в год по крайней мере в два раза больше! И выходило, что он был постоянно должен «Знанию», например, к моменту возвращения в Россию его долг составлял 2400 рублей. К тому же летом 1907 года, покупая землю и начиная строительство виллы на Черной речке, Леонид Николаевич взял в долг еще четыре тысячи. Надо сказать, что андреевская дача дорого обошлась не одному «Знанию» – само ее название вилла «Аванс» – раскрывает суть дела.
Таким образом, личный разрыв с Горьким еще не означал окончательного «развода» писателя с издательством. Между Андреевым и Пятницким завязалась изнуряющая переписка: сначала в счет погашения долга автор предложил «Царь-Голод» и «Тьму», но оба текста были отвергнуты Горьким по идеологическим соображениям. Узнав, что Андреев запросто публикуется в других издательствах, возмущенный и до глубины души обиженный другом Максимушка отказался и от написанной вскоре вполне реалистической пьесы Андреева «Дни нашей жизни». Но тут уж возмутился Пятницкий и напечатал-таки «Дни…» в двадцать шестой книжке «Знания» в 1908 году. Читая все, что выходило из-под андреевского пера, Горький отныне был беспощаден к уходящему из-под шляпки «Большого Максима» другу, ругая его тексты по-менторски жестко и грубо, он всюду провозглашал, что Леонид Андреев «нелепо разбазарил» свой дар. Их финансовые скандалы напоминали отношения разводящихся супругов: дошло до того, что в 1909 году «Знание» чуть было не предъявило к оплате андреевский долговой вексель через суд. После смерти друга Горький, как мне кажется, проговорился о том, что чувствовал в тот год, когда Андреев высокомерно и одновременно очень вежливо ушел из его издательства и из его жизни: «…Леонид как будто отменил, уничтожил праздник, которого я долго и жадно ожидал» [368]368
Горький.
[Закрыть]. Финансовая распря тянулась вплоть до января 1910 года, причем «друг Леонид» – в отличие от «друга Максимыча» – относился к тяжбе довольно вяло. В одном из последних писем Пятницкому он внешне почтительно и официально, а по сути – крайне высокомерно – попрощался с издательством: «…я приношу „Знанию“ мою исключительную благодарность за бесконечную и дружескую поддержку, которую оно оказало мне в первые, наиболее трудные годы моей литературной деятельности» [369]369
Переписка. С. 526.
[Закрыть]. Написал и – перевернул страницу.
Появившееся как-то вдруг андреевское высокомерие в то время ощутил на себе не один Горький; вся, любимая когда-то Леонидом Николаевичем «московская братия» писателей-телешовцев, те, чьим мнением он когда-то дорожил, внезапно утеряла для нашего героя авторитет. «Собрались у кого-то, не помню, в одном из переулков близ Арбата. Андреев должен был читать новую свою драму „Царь-Голод“. Но приехал он совершенно пьяный. Однако упрямо настаивал, что читать будет сам. И прочел первое действие. Читал заплетающимся языком, неразборчиво, с комично-наивным самодовольством подчеркивая места, по его мнению, особенно удачные. В конце концов, почувствовал, что ничего у него не выходит, и предоставил читать своему другу, С. С. Голоушеву, художественному критику» [370]370
Вересаев.
[Закрыть], – описывает эту встречу Викентий Вересаев порой – с чувством недоумения, временами – презрительно, во всяком случае, по интонации это уже явно не та – полная искреннего сочувствия – хроника жизни Андреева-вдовца на Капри.
Любопытно, что в Москве – в отличие от столицы – «Царь-Голод» произвел на товарищей по перу довольно сильное впечатление. Но обсуждения так и не получилось, поскольку сам Андреев никому вопросов не задавал, а другие, видя, в каком состоянии находится «живой классик», не рискнули навязываться ему со своими комментариями. Во время ужина началось, как рассказывал Вересаев, «…что-то андреевски-кошмарное. Перед глазами еще тень беспокойно-страстного Царя-Голода, с глазами, горящими огнем кровавого бунта, смутное движение трупов на мертвом поле, зловещие шепоты: „Мы еще придем! Мы еще придем! Горе победителям!“, а кругом: смешные анекдоты, литературовед залихватски бренчит на рояле, театральный критик с огненно-рыжей бородой и лицом сатира подпрыгивает на правой ноге, откинув левую назад и вытянув руку вперед… <…> Андреев сидит рядом со мною на диване и с глубоким отвращением говорит, глядя на танцующих: – Может ли вся эта сволочь понимать тр-рагедию?..» [371]371
Вересаев.
[Закрыть].
Что ж… положа руку на сердце, мне трудно заподозрить в Леониде Николаевиче тот сорт уродливой спеси, что появляется порой у провинциала, внезапно угодившего в гущу мировых событий. Правда и то, что теперь к собственной славе – первого, после Льва Толстого, литератора – он отнюдь не всегда мог отнестись с надлежащим юмором. Его коллег удивляло, а порой и возмущало, сколь серьезно реагировал этот «властитель дум» на ругательную рецензию, опубликованную в каком-нибудь «Вятском вестнике». Нет, действительно, такие корифеи символизма, как Анненский, Минский, Волошин и даже Мережковский, так или иначе сравнивали Андреева с Достоевским, Гоголем и Толстым, им бредил Блок, восхищались Андрей Белый и Немирович-Данченко, и вдруг – тот самый Андреев уходил в недельный запой и на несколько дней исчезал из дому из-за статьи г-на Н-ва из Одессы или г-на П-го из Жмеринки. И ведь нельзя сказать, что Андреев-человек был глупее Андреева-писателя, общеизвестно, что Леонид Николаевич был отменно умен… Умен, но как тогда объяснить его монологи о собственной славе, об особой миссии и о том, что ругательная критика отнимает у него силы и отравляет его душу?
«Иногда я чувствую, что для меня необходима слава – много славы, столько, сколько может дать весь мир. Тогда я концентрирую ее в себе, сжимаю до возможных пределов, и, когда она получит силу взрывчатого вещества, – я взрываюсь, освещая мир каким-то новым светом» [372]372
Горький.
[Закрыть]. В правдивости этого, воспроизведенного Горьким, конечно же по памяти, монолога можно было бы и усомниться, если бы не было других свидетелей подобных высказываний Андреева. Нет, прав был Корней Иванович Чуковский, поразительно верно ухватил он суть этого человека: андреевская страсть к лицедейству была едва ли не более сильной, чем его страсть к писательству… И вот теперь роль «первого – после Толстого – российского литератора» исполнялась им предельно серьезно и более того – со страстью.
Еще одна возможность выйти на сцену «в свете прожекторов» представилась ему в декабре 1907 года – в МХТ давали громкую премьеру – второе за этот год сценическое воплощение «Жизни человека». Режиссером спектакля был столь же, как и автор пьесы, знаменитый Константин Сергеевич Станиславский. Разумеется, это событие выглядело, по меньшей мере, общероссийским: в первом театре империи давали пьесу первого (после Толстого) литератора. Немногие из сидящих в мхатовском зале 12 декабря 1907 года знали о том, что путь «Жизни человека» на сцену МХТ был тернист и весьма извилист.
Общеизвестно, что Леонид Андреев любил Художественный театр, а тот – не отвечал ему взаимностью. Владимир Иванович Немирович-Данченко не раз сожалел об этой безответности МХТ: «Я очень признавал его огромный драматургический талант и старался утвердить его в нашем репертуаре. Большая же часть активных работников театра не оказывала доверия ни его художественному вкусу, ни его – казавшемуся слишком острым восприятию жизни». Наиактивнейший из активных – режиссер, актер, содиректор и пайщик театра Константин Сергеевич Станиславский Андреева действительно не любил и не понимал. Впрочем, в то время он еще доверял литературному вкусу Владимира Ивановича, и тот главным образом и строил репертуар. А у Немировича-Данченко была со дня основания театра заветная мечта – выращивать собственных драматургов прямо в здании МХТ, но – как он признавался сам, «мечта наша создавать собственных драматургов, близких задачам нашего театра, как были близки Чехов и Горький, не осуществлялась. <…> Сильнее всех удержался Леонид Андреев, большой своеобразный драматургический талант, неудержимый и бунтарский» [373]373
Немирович-Данченко Вл. И.Рецензии. Очерки. Статьи. Интервью. Заметки: 1877–1942. М.: ВТО, 1980. С. 286.
[Закрыть].
А у Константина Сергеевича к 1906 году уже сформировалась другая мечта – создать собственную систему воспитания актера, новый способ репетирования, то есть «систему Станиславского». И осуществление этой мечты поначалу очень раздражало Владимира Ивановича. «Вчера он собрал всех сотрудников и сотрудниц, а их около ста и просил изображать кошку, собаку, петуха и проч. и проч. Вся эта толпа мяукала, лаяла, пищала, кричала – и он был в восторге. Это ему, видите ли, надо для Синей птицы», – недоумевал он в середине сезона 1906/07 года.
Вот в такой неспокойной обстановке попала рукопись «Жизни человека» в МХТ. И хотя 19 октября 1906 года Немирович-Данченко лично прочел труппе пьесу «Жизнь человека» и она произвела сильное впечатление, – потребовалось еще множество усилий, и в частности со стороны судьбы, чтобы эта пьеса увидела свет рампы. Позднее Константин Сергеевич признавался: «Не надо забывать, что я всячески отказывался от постановки „Жизни человека“ и… писал Немировичу-Данченко слезное письмо, чтобы не заставлял меня ставить „Жизнь Человека“». Действительно, Станиславскому довольно долго удавалось уклоняться от этой работы, и был он увлечен совершенно другими авторами, в ближайших планах театра значились «Ревизор», «Синяя птица», «Каин» Байрона и «Месяц в деревне». Помог, разумеется, Некто в сером: в августе 1907-го после запрещения «Каина» Святейшим синодом пайщики решают сыграть в конце года премьеру «Жизни человека» Леонида Андреева.
Было и еще одно обстоятельство, обратившее Станиславского в сторону пьесы. В это время он с присущей этому человеку страстью и наивностью (что, кстати, делало его отчасти похожим на Андреева – отсюда и подсознательная неприязнь) искал «новой условности», новых приемов и «новых эффектов» в сценическом оформлении сцены. Лабораторные поиски, что поначалу велись горсткой энтузиастов прямо в квартире у Станиславского, привели к «открытию велосипеда»: эффекта «черного бархата», а по сути – давно уже открытого принципа камеры-обскуры, где предметы внезапно – то появлялись, то становились невидимыми, поскольку в обитой черной тканью комнате их то накрывали черной тряпкой, то откидывали ее. То-то было радости у режиссера. «Я побежал в свою комнату, чтобы разобраться в нахлынувших на меня мыслях и ощущениях и чтоб записать то, что может забыться, когда минута просветления пройдет. Колумб, открыв Америку, не был так окрылен, как я в тот вечер. Вера в значение нового открытия была велика. Какие только комбинации и трюки с черным бархатом не мерещились мне тогда!» – писал режиссер в своей знаменитой книге «Моя жизнь в искусстве». Надо добавить, кстати, что эта радость была связана вовсе не с «Жизнью человека», а с замыслом детского спектакля по пьесе-сказке Метерлинка «Синяя птица»: «Можно будет сделать худые фигуры из толстых, вшивая в бока костюма черный бархат и тем как бы отрезая то, что кажется лишним. Можно будет безболезненно ампутировать ноги и руки, скрывать туловище, отрубать голову, прикрывая ампутированные части тела кусками бархата…» Конечно, подобные замыслы были несколько радикальными для детской аудитории, да и выстроенная на большой сцене камера-обскура превратила подмостки МХТ «в мрачное, могильное, жуткое безвоздушное пространство, на сцене запахло смертью и могилой». Режиссер и художник (оформивший позднее «Жизнь человека» В. Е. Егоров) с ужасом осознали, что для детского спектакля эффект камеры-обскуры попросту неприемлем. «Но судьба и тут позаботилась о нас, – это утверждение Станиславского представляется мне спорным: судьба в данном случае заботилась вовсе не о нем. – Она послала нам пьесу Леонида Андреева „Жизнь Человека“. „Вот где нужен этот фон!“ – воскликнул я, прочтя пьесу».
Пьесу начали репетировать в сентябре 1907-го, на роль Человека был назначен один из премьеров МХТ – уже сыгравший на мхатовской сцене Ваську Пепла и Кассия, будущий Пер Гюнт и Митя Карамазов – Леонид Миронович Леонидов. Жену Человека репетировала тогда – выпускница Студии МХТ 23-летняя Вера Барановская – будущая Ниловна в знаменитом фильме Пудовкина по роману Горького «Мать».
Конечно, средства, вложенные в «Жизнь человека» в МХТ, были несравнимы с практически «безбюджетным» мейерхольдовским спектаклем. Репетиции продолжались три с половиной месяца, каждая картина имела свою собственную декорацию, в спектакле участвовала не просто вся труппа, а весь актерский состав, студия, а в ролях друзей и врагов Человека – другие сотрудники театра. Некто в сером (его исполняли сначала И. М. Уралов, а затем В. В. Вишневский) представал перед зрителями четырехметровым исполином, наглухо закутанный в черный бархатный плащ рукавами до полу (капюшон приоткрывал лишь рот исполнителя), в одной руке он держал длинный муляж свечи, которая заканчивалась (!) электрической лампочкой.
Андреев желал лично участвовать в репетициях, чем конечно же весьма раздражал Станиславского. Еще в сентябре в многостраничном послании он исповедался Константину Сергеевичу, в письме этом автор высказал несколько радикальных мыслей относительно актерского исполнения его пьесы: называя «Жизнь человека» не драмой, а представлением, Андреев мечтал, что «…сцена должна дать только отражение жизни. Ни на одну минуту зритель не должен забывать, что стоит перед картиною, что он находится в театре и перед ним – актеры, изображающие то-то и то-то. И сами актеры не должны забывать, что они актеры и что перед ними – зрительный зал. Как дать такое соединение: захватывающую игру и одновременно – искусственность, и можно ли дать – я не знаю» [374]374
Цит. по: «Жизнь…». С. 193.
[Закрыть]. Этого, увы, не знал и Станиславский, и, думаю, он был последним из режиссеров, кто в 1907 году мог хотя бы задуматься над подобной идеей. Наоборот, Константин Сергеевич как раз страстно размышлял о том, как можно в таких искусственных условиях, как сцена, заставить актера забыть, что перед ним зритель, а зрителя убедить, что перед ним проходят картины подлинной жизни. Станиславский всю свою жизнь был погружен в идею создания «правильного» иллюзорного театра, Андреев же – как говорилось уже не раз – мечтал о театре неиллюзорном. Впрочем, по улицам баварского города Аугсбург уже – с ранцем за спиной – бегал мальчишка, которому через два-три десятилетия удастся соединить «захватывающую игру и искусственность», и тогда – на смену иллюзорному – в мир придет брехтовский – неиллюзорный театр. Увы, Андреев не будет свидетелем театральных опытов Бертольда Брехта, однако в какой-то мере считается ныне его предтечей.
Итак, посмотрим, что же получилось в результате союза столь непримиримых художников? «С чего начинать? – размышляет в ночь с 12 на 13 декабря 1907 года рецензент газеты „Голос“ А. Тимофеев. – С выражения ли горькой досады на Л. Андреева, что писатель… решился опубликовать и даже поставить на сцене произведение – явно неудачное? Или с оценки… той высокой художественности, которой отмечена постановка и исполнение в Художественном театре „Жизни Человека“?» [375]375
МХТ в русской театральной критике: 1907–1918. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2007. С. 102.
[Закрыть]А вот и высказывание, прямо противоположное. «Идея пустоты заменена стращанием, лубочность Бердслеем, трагедия безвкусицы – безвкусной трагедией, – так отнесся к воплощению „Жизни…“ в МХТ уже знакомый нам столичный критик А. Кугель. – Станиславский груб в своем символизме, доводя его до простой аллегории, как груб в реализме, опуская его до натурализма. Он не вслушался в пьесу Андреева» [376]376
Там же. С. 146.
[Закрыть]. Верхом нелепицы Кугелю показался тот штрих, что восковая свеча в руке клерка Судьбы была заменена режиссером электрической лампой.
Собственно, вся критика разделилась на «андреевцев» и «станиславцев»: одни считали, что прославленные актеры МХТ оказались бессильны в пьесе Андреева, а серьезность, с которой игралась «Жизнь…», вообще ей противопоказана; другие – что МХТ открыл для себя новую дорогу и Станиславский «переиграл» Мейерхольда на его территории. Кто же из них был прав?
Конечно же черный бархат, примененный в «Жизни…», дал определенный эффект. «В пьесе Андреева жизнь человека является даже не жизнью, а лишь ее схемой, ее общим контуром, – утверждал Станиславский. – Я достиг этой контурности, этой схематичности и в декорации, сделав ее из веревок. Они, как прямые линии в упрошенном рисунке, намечали лишь очертания комнаты, окон, дверей, столов, стульев. Представьте себе, что на огромном черном листе, которым казался из зрительной залы портал сцены, проложены белые линии, очерчивающие в перспективе контуры комнаты и ее обстановки. За этими линиями чувствуется со всех сторон жуткая, беспредельная глубина». Это решение произвело впечатление и на зрителя, и на рецензентов: «Первая картина – рождение человека… Не какая-нибудь данная, конкретная, определенная комната в том или ином стиле, взятом из прошлого или настоящего, – а схема комнаты. Сцена представляет комнату углом с ярко подчеркнутыми гранями, где сходятся стены и потолок, с нарисованными серебристыми окнами, кошмарными, уродливыми. Схематичные стулья серебряные, простые, схематичная этажерка, сливающаяся с фоном стен и пола, кошмарные фигуры бесшумно передвигающихся старух… Все это не простая, яркая, угловатая действительность, а эхо, отголосок, сон, бред действительности» [377]377
Тимофеев А.Жизнь человека. Там же. С. 104.
[Закрыть].
Еще одна – ставшая уже хрестоматийной и вошедшая в историю театра сцена – картина бала. Вот как увидел ее московский критик, друг и когда-то коллега Андреева Сергей Глаголь: «Весь акт был у человека какой-то тягостный кошмар. Перед зрителем ряд наряженных в черное, белое и золото фигур, точно перенесенных с рисунков Бердслея. Это и люди и не люди. Они говорят обычным голосом, говорят довольно обычные слова, но если бы эти люди вдруг исчезли, растаяли в пустоте или если бы у них на плечах вместо людских появились бы вдруг хогартовские птичьи головы, то и это бы никого не удивило. Мимо этих людей призраком проходит человек со своею женой, его друзья и враги; над ними на черной подставке, похожей на роскошное подножие гроба, жуткие очертания трех, то неподвижно, то мерно, как куклы, движущих руками музыкантов.
А дальше… белые контуры окон, прорезающие мрак, делают эту залу похожей на катафалк. И с эстрады музыкантов льются плачущие звуки тоже призрачного танца, под который мерно движутся странно диссонирующие со всем остальным – белоснежные девы… И вдруг среди тишины оборвавшихся звуков – такие знакомые людские речи, полные пошлости, зависти, чванства, глупости и тщеславия» [378]378
Тимофеев А.Жизнь человека. С. 112.
[Закрыть].
Судя по этим описаниям и весьма выразительным эскизам Егорова, мейерхольдовскому минимализму при постановке «Жизни человека» была противопоставлена здесь декоративная роскошь «под Бердслея» – мрачноватого английского графика, чьи гравюры в ту пору воспринимались обывателем как «фирменный знак» декаданса. Думаю, в такой атмосфере текст пьесы и впрямь «резал ухо» плоской многозначительностью. Комбинация лубка и Бердслея – вероятно, не слишком радовала людей хорошего вкуса. Актеры, от которых Станиславский добивался «жизненности», также производили на критику двойственное впечатление. Одни – хвалили Леонидова, и особенно Барановскую, считая, что безусловное существование в условном пространстве дает интереснейший эффект, другие – как Немирович-Данченко – полагали, что в спектакле «все сделано для того, чтобы уйти от пьесы к самой элементарной психологии». Во всяком случае, Станиславский абсолютно пренебрег соображениями Андреева: «нет положительной спокойной степени, а только превосходная, если добр – то как ангел; если глуп – то как министр; если безобразен, то чтобы дети боялись», а вплоть до премьеры добивался от актеров «живого диалога».
Да, впечатление оказалось двойственным. Практически каждый критик, превознося в спектакле что-то одно, резко критиковал нечто другое. Лично мне кажется, что Станиславскому не был органичен текст Андреева, он действительно имел самые общие представления о пьесе и постарался всю ее условность, всю «схему жизни» переложить на плечи декораций и массовки, втиснув в эти рамки сцены с актерами – психологические по своей природе. Но даже это – не главный минус. По сути, его режиссерское решение было всего лишь иллюстративным. «Как красиво! Как пышно! Как богато!..» – восторгались гости в картине бала, и всё, что видел зритель, было действительно и красиво, и богато, и пышно. Мейерхольд же – как мог, старался облегчить – как сказали бы теперь – чересчур «навороченный» текст Андреева, и главное, ему удалось воспроизвести на сцене атмосферу этого текста, сочетание философской страстной эмоции и лубка; думаю, у него был более осмысленный, более цельный и более легкий спектакль, чем «громада» Станиславского.
Но – что интересно – андреевский текст не рухнул под тяжестью черного бархата, спектакль МХТ имел оглушительный успех, принеся автору пьесы очередную «порцию славы». «Шумно, весело и даже восторженно публика приветствовала Леонида Андреева и все время вызывала Станиславского», – писал рецензент Тимофеев. Станиславский, впрочем, вообще не вышел в тот вечер на поклоны, возможно уже осознав, что «Жизнь человека» – это шаг в сторону от маршрута его жизни в искусстве: как написал он впоследствии в своей главной книге: «Несмотря на большой успех спектакля, я не был удовлетворен его результатами, так как отлично понимал, что он не принес ничего нового нашему актерскому искусству».
Не был удовлетворен результатом Станиславского и сам автор «Жизни…». Спустя полгода после премьеры, будучи спрошен, «доволен ли он постановкой „Жизни человека“ в Московском Художественном театре», Андреев ответил: «Не очень. Куда более удовлетворила меня постановка в Театре Комиссаржевской» [379]379
Фидлер Ф. Ф.Из мира литераторов: характеры и суждения.
[Закрыть].
Жизнь прославленной пьесы оказалась яркой, но – короткой: в течение двух-трех лет она ставилась по всей России, правда, иногда особым распоряжением губернатора-самодура тот или иной город запрещал спектакль к показу по совершенно неведомой нам причине. Пьеса разошлась на цитаты, фотографии из мхатовского спектакля печатали на открытках, ее пародировали, иные репортеры брали себе имена ее персонажей как псевдонимы, но… в русский репертуарный топ-лист «Жизнь человека» так и не вошла и – более того, оказалась прочно забытой театром на целый век. Любопытно, но совершенно неожиданно пьеса «всплывает» в 1944 году: «Жизнь человека» ставится театром Василия Вронского в Одессе во время оккупации (!) города немецкими и румынскими войсками, пару раз ставилась она в Восточной Европе…
Лед был разбит только в 2009 году: режиссер Борис Мильграм отважился вернуть на отечественную сцену забытый и двусмысленный шедевр Леонида Андреева, его спектакль «Жизнь человека» – вызвавший, как это всегда бывало с текстами Андреева, – разнообразные, в том числе и полярные отзывы, оказался на удивление прочным. «Жизнь человека» можно увидеть на сцене Пермского академического театра драмы и в нынешнем – 2013 году. А вот дальнейшую театральную судьбу этой пьесы я, честно говоря, предсказывать не берусь.
…Нервно куря во время репетиций «Жизни…» в МХТ, Андреев не сводил глаз с четверки изящных «босоножек» – «белоснежных дев» – как окрестил их в рецензии Сергей Глаголь – юных танцовщиц на бале у Человека. Обозначенные в программке как «Танцующие», девушки, вероятно, своей юностью, белыми хитонами и гармоничными слитными движениями должны были, во-первых, оттенять «беспросветность» андреевской «вечной ночи», воплощенной в черном бархате Станиславского, а во-вторых, изящные белые фигурки на черном фоне – вот уж точно казались прямыми цитатами из Бердслея, что отвечало замыслу режиссера и художника. Третьей в этом ряду танцевала ученица студии МХТ восемнадцатилетняя Алиса Коонен. Кем была в 1907 году эта худенькая московская девушка польско-бельгийской крови? Вчерашняя гимназистка, «сбежавшая» в театр, даже не окончив гимназию? Статистка, не сыгравшая толком еще ни одной роли, по сути, еще не начавшая «свою жизнь в искусстве»? Тем более странным выглядел этот роман: Алиса поразила его воображение, «гвоздем» засела в сердце и – отвергла не только андреевское сердце, но даже и руку. Леонид Николаевич долго не мог поверить, что этой девочке-студийке действительно не нужна его любовь, не нужен он сам – со всею своею славой, богатством, безднами души и чертежами грандиозного замка…
На одной из танцевальных репетиций их познакомил сам Человек – Леонид Леонидов, своей улыбкой Алиса, как потом скажет ей Андреев, чем-то неуловимым напомнила ему покойную Шуру. Леонид вернулся в Петербург, но вскоре приехал опять. А приехав, стал серьезно и планомерно ухаживать за юной студийкой: по вечерам сажал ее в сани и долго катал по темной и уже морозной Москве, потом они ехали за город, и Андреев говорил Алисе о своей любви. Уезжая в Петербург, он писал ей нежные письма: «Далекая и чужая – Вы таинственно близки мне душой»… В один из своих приездов он вдруг раскрыл перед ней чертежи своего будущего «замка» на Черной речке – виллы «Аванс» и долго объяснял назначение будущих комнат огромного дома с высокой башней. В конце этого, крайне удивившего юную студийку, «доклада» знаменитый писатель сделал ей предложение руки и сердца: «Алиса, я хочу, чтобы в этой башне жили вы». Несмотря на изумление, девушка ответила твердым отказом: «Что вы, больше всего на свете я не люблю замков и башен, тем более таких высоких. Я брошусь вниз, если вы меня там запрете».
Наш герой притворился, что не услышал отказ Алисы. Напротив, вскоре он привез в Москву Анастасию Николаевну. «Мамаша» и будущая трагическая актриса театра Таирова провели вместе три мучительных часа. Девушка попала в чрезвычайно сложную ситуацию: Андреев вел свою битву за ее сердце, что называется, «мощными кратковременными атаками». Как-то в январе 1908 года поздней ночью он пьяным явился к Алисе домой и имел объяснение с ее отцом, объявив: «Она засела, как гвоздь в сердце…» Поднятую из постели Алису просто вынудили сказать «нет» прямо в лицо знаменитому писателю. Казалось бы, инцидент был исчерпан, в одном из последних писем Андреев обещает: «И больше писать Вам не буду. Зачем? Прощайте» [380]380
Цит. по: «Жизнь…». С. 201.
[Закрыть]. Впрочем, все-таки он не выдержал и писал ей опять. А через год, когда уже был женат, во время гастролей МХТ в Петербурге явился в ее гримерку и чуть было не застрелился на глазах молодой актрисы. Впрочем, думаю, прихватил с собой револьвер Андреев «на всякий случай» и серьезного намерения стреляться тогда уже не было. А вот зимой 1907/08… как знать, как знать? Леонид отчаянно страдал. Именно тогда он узнал, что в сердце Алисы давно уже живет другой: его счастливым соперником был не кто иной, как будущий андреевский Анатэма – актер Василий Качалов.








