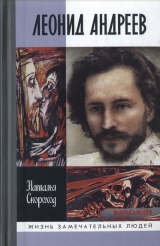
Текст книги "Леонид Андреев"
Автор книги: Наталья Скороход
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц)
Надо сказать, что оба события были звеньями одной цепи – зимой 1902 года противостояние власти и – как сказали бы теперь – «несогласных» достигло в Петербурге и Москве определенного накала. «Тюрьмы и части переполнены. Обыскивают, хватают, возят и перевозить не могут, – так видел московскую ситуацию наш жених из своего окна. – Мера вещей утеряна. Анархия в самом воздухе. <…> И все эти аресты создают одно – страшное возбуждение». 9 февраля в Москве полиция разгоняла студенческие выступления: «Была сходка – немногочисленная. К ней потом примкнула толпа – неорганизованная… хватали правого и виноватого и волокли в манеж» [191]191
Переписка. С. 138.
[Закрыть]. Павел же – по чистой случайности оказался рядом и – был захвачен вместе с толпою, а через несколько часов угодил в арестантский дом. Даже сегодня, хотя это и вопиющее беззаконие, арестованный за участие в уличных «беспорядках» в Москве частенько не может сделать звонок своим родным, чтобы сообщить, где он находится. Что ж говорить о положении задержанного студента тогда – в 1902 году? Два дня – 9 и 10 февраля – семья находилась в неведении. «Плохая, брат, свадьба, – писал Андреев Горькому 10 февраля. – Вчера пропал без вести мой брат (художник). Вероятно, сидит в Бутырках. Маменька моя воет. <…> А и отложить свадьбу нельзя. Съехались со всех концов родственники, старики и старухи» [192]192
Там же. С. 140–141.
[Закрыть]. Только 11 февраля брат дал о себе знать, и хотя вскоре его отпустили, на саму свадьбу он, увы, опоздал.
Предполагалось, что именно Павел будет шафером, его заменил следующий по старшинству брат – Всеволод. На роль посаженого отца Андреев пригласил своего – уже к тому времени хорошего знакомого – московского писателя Николая Дмитриевича Телешова – вдохновителя и организатора московских «Сред», где Андреев стал уже «своим человечком». «И вот однажды, – вспоминал Телешов, – я нашел у себя на столе следующее письмо, оригинальное по тону, в котором чувствовалась радость счастливого человека: „Милый друг! Будь моим отцом! Будь моим посаженым отцом! Свадьба моя 10-го (через три дня), в воскресенье. Посторонних никого, одни родственники – попросту. <…> Будь моим отцом! Я прошу тебя: будь моим отцом! Если таковым быть окончательно не можешь, то приезжай в качестве друга. Доставь мне радость, приезжай. И еще прошу тебя: будь моим отцом. Будь моим отцом!“ И отцом его я был… Эта роль была не из трудных. За торжественным чайным столом, когда приехали „молодые“, мать Андреева и я возглавляли присутствующих. К нам обращались за разрешением приветствий, пили за наше здоровье, и вообще это было какое-то шутливое и очень веселое председательство» [193]193
См.: Телешов.
[Закрыть].
Как раз незадолго до этого в «Курьере» появилась знаменитая андреевская «Стена», и многих читателей ужасала там именно сцена свадьбы двух прокаженных: «И они женились. И на миг все лица обернулись к ним, и широкий, раскатистый хохот потряс здоровые тела: так они были смешны, любезничая друг с другом. Смеялся и я, прокаженный; ведь глупо жениться, когда ты так некрасив и болен. – Дурак, – сказал я насмешливо. – Что ты будешь с ней делать? Прокаженный напыщенно улыбнулся и ответил: – Мы будем торговать камнями, которые падают со стены. – А дети? – А детей мы будем убивать» – так женится герой Леонида Андреева. А вот как – сам автор «Стены»: «Свадебный вечер был… очень веселый и простой. Леонид Николаевич был как-то внутренне радостен и необыкновенно покорен. Что ему говорили, то он и выполнял без возражения, – что называется – без оглядки, с удовольствием. Были и танцы. Андреева заблаговременно научили танцевать, и он танцевал вальс, польку и кадриль», – рассказывал Телешов в «Записках писателя». Не пройдет и пяти лет, как «тупая полька» из «Жизни человека» – которую, по словам Осипа Мандельштама, будут «бренчать в каждом доме», станет для Леонида Николаевича злой насмешкой над прошлым, а женитьба прокаженного из «Стены» – покажется невольным пророчеством, но теперь – «вальс, полька и кадриль» продолжались: Андреевы отправились в свадебное путешествие, сбежав от московской зимы в крымскую весну.
Они побывали в Одессе, где, по воспоминаниям Бунина, «Леонид много острил, был в это время очень весело возбужден» [194]194
Детство. С. 149.
[Закрыть], проплыли на пароходе до Севастополя и далее – в Ялту. Жили они у Горького – в Олеизе (более знакомое читателю название этого места – Мисхор). Здесь – на даче Нюра – у подножия Ай-Петри среди «кипарисов, лавров и магнолий» с 1901 года проживал высланный из Нижнего Новгорода Горький; южный климат, кроме того, был необходим Алексею Максимовичу, так как незадолго до этого у него был обнаружен туберкулез. Фактически Крым стал для Горького своеобразным «перевалочным пунктом», перед его отъездом в Италию. В Ялте Андреевы побывали и в доме у Чехова; Антон Павлович, уже читавший и успевший оценить прозу Андреева, подарил ему свою фотографию с надписью: «Леониду Николаевичу Андрееву на добрую память от ялтинского отшельника. А. Чехов. 18 марта 1902 года». В Ялте же Леонид подружился с марксистски настроенным журналистом и начинающим писателем Викентием Вересаевым, это знакомство переросло потом в своеобразную дружбу. Кстати, Вересаев приводит любопытный пример из быта молодоженов: «Мы ездили большой компанией в Байдарскую долину, в деревню Скели… Ночью, при свете фонарей, ловили в горной речке форелей. Утром, в тени грецких орешников, пили чай. Растирали в руках листья орешника и нюхали. Андреев сказал: – Совершенно пахнут йодом! – Ну, йодом! – Вы со мной на этот счет не спорьте. Я запах йода отлично знаю. Жена меня каждый день на ночь мажет йодом то тут, то там. – От каких болезней? – От всяких. – И что же, помогает? Андреев помолчал. – Семейному счастью помогает» [195]195
Вересаев.
[Закрыть].
Вернувшись в Москву, Андреев поселился отдельно с женой и матерью. Его сестры – Зинаида и Римма – как будто сговорившись – тоже обзавелись собственными «домами», братья – выросли, и таким образом дружная и большая семья разделилась, но конечно же Леонид по-прежнему опекал всех, особенно – младшего брата – Андрея, мечтая, что тот непременно станет поэтом.
О бытовании Андреева в Москве в ту самую, счастливую для него, жизненную пору вспоминал, как он окрестил сам себя, «его сын во литературе», тоже орловец, тогда начинающий, в будущем – известный русский прозаик Борис Зайцев: «…как порядочный писатель русский, он вставал поздно; как москвич – бесконечно распивал чаи, наливал на блюдечко, дул, пил со вкусом; к приходившему относился с великим дружелюбием. <…> Говорили о Боге, смерти, о литературе, революции, войне, о чем угодно. Куря, шагая из угла в угол, туша и зажигая новые папиросы, Андреев долго, с жаром ораторствовал. <…> В три Андреев обедал, а потом ложился спать – черта не европейская, как и во всем, был он весьма далек от европейца. (Носил поддевку, а позднее ходил в бархатной куртке. Среди „передовых“ писателей была у нас тогда мода одеваться безобразно, дабы видом своим отрицать буржуазность.)Проснувшись вечером, часов в восемь, опять пил крепкий чай, накуривался и садился на всю ночь писать. Тут он разогревался; голова накалялась и легко, непроизвольно родила образы страшные, иногда чудовищные. Писание было для него опьянением, очень сильным… Он погружался в бред, в мечты; и это лучше выходило, чем действительность» [196]196
Зайцев Б. К.Леонид Андреев // Зайцев Б. К.Голубая звезда: Повести и рассказы. Из воспоминаний. М.: Московский рабочий, 1989.
[Закрыть]. Постепенно Шурочка стала делить с мужем его ночные бдения – «бред и мечты», позже Вересаев рассказывал, что она не ложилась спать, пока он не прочитывал ей всего написанного. Мало-помалу Александра Михайловна искренно полюбила непростой андреевский дар и стала прекрасной «писательской женой»: «…было у нее огромное интуитивное понимание того, что хочет и может дать ее муж-художник, и в этом отношении она была живым воплощением его художественной совести» [197]197
Вересаев.
[Закрыть]. Сам муж-художник закончил «Мысль», отбивался от критики по поводу включенных во второе издание сборника «Бездны» и «Стены», задумывал «Жизнь Василия Фивейского», писал фельетоны в «Курьер».
Скандальная «Бездна» сделала имя Андреева известным по всей России, «двойку по поведению» во всеуслышание поставил ее герою Немовецкому сам Лев Толстой. В одном из интервью по поводу «Бездны» патриарх русской литературы гневно заметил: «Ведь это ужас!.. Какая грязь, какая грязь!.. Чтобы юноша, любящий девушку, заставший ее в таком положении и сам полуизбитый, – чтобы он пошел на такую гнусность!.. Фуй!.. И к чему все это пишется?.. Зачем?..» [198]198
Цит. по: Переписка. С. 162.
[Закрыть]Его жена Софья Андреевна зимой 1904 года выступила в «Новом времени», что называется, «с официальным заявлением», обвиняя Андреева в наслаждении «низостью явлений порочной человеческой жизни», возмущаясь, что этой любовью к пороку он «заражает неразвитую, морально еще нечистоплотную», не разбирающуюся в жизни «читающую публику и молодежь». К тому времени скандальных текстов Андреев опубликовал уже достаточно: за «Бездной», «Стеной» и «Смехом» последовал рассказ «В тумане», где герой-гимназист убивал проститутку, затем и знаменитая «Мысль». Привыкший – от имени Джеймса Линча – разносить в пух и прах результаты чужого творчества, Андреев оказался абсолютно не готов к поднявшейся вокруг его текстов газетной шумихе и отнюдь не равнодушен к обвинениям, которые бросали ему со страниц газет. За «Бездну» ему досталось и от Толстого, и от символистов, и от Розанова, и от стариков-народников, «Мысль» категорически не принял Михайловский, а рассказ «В тумане» поверг в растерянность даже коллег по литературным «Средам». И все они, правда, каждый на свой манер, упрекали Андреева в любовании – как сформулировали бы теперь – чернухой. Зинаида Гиппиус, например, практически буквально, – лишь придав ей остроумную форму, – повторила толстовскую мысль о том, что автор «Бездны» «как будто сидит на дороге после осеннего дождя, забирает рукой жидкую грязь и, сжимая пальцы, любуется, как она чмокает и ползет вниз» [199]199
Антон Крайний.Литературный дневник: 1903 год. http://www.viperson.ni/data/200703/gippius.do. Дата обращения 30.10.2011.
[Закрыть].
Андреев, у которого в жилах все еще кипела журналистская спесь, сделал самое худшее из возможного – ввязался в полемику с критиками. Он бросился защищать своих героев, объяснять их поступки и даже (!) растолковывать плоды своей «страшной или иногда чудовищной» фантазии. В «Курьере» было опубликовано сочиненное Андреевым письмо от имени студента Неведомского, где тот отвергал обвинения в зоологичности своей натуры, в «Биржевых новостях» он извещал публику, что «никогда во всю мою жизнь я не страдал никакими психическими заболеваниями», в письмах читателям он разъяснял, что Стена, это «то, что стоит на пути к новой, совершенной и счастливой жизни» [200]200
Цит. по: «Жизнь…». С. 109.
[Закрыть]. Надо признать, что после всех газетных перебранок слава его – и уже с привкусом скандальности – становилась все громче, а вот нервы начали сдавать, и в 1902–1903 годах Андреев переживает свой первый творческий кризис. Жаловался Горькому, что вообще перестал писать, не может сочинить даже крохотной статейки для «Курьера». Что ж… Теперь он мог себе позволить ничего не писать: второе – дополненное – издание книги принесло ему почти состояние, третье – в восемь тысяч экземпляров, вышло в том же 1902 году. «Входи пайщиком в „Знание“, – настойчиво приглашал его Максимушка. – Целее деньги будут, и голос получишь в деле снабжения рынка книгами» [201]201
Переписка. С. 147.
[Закрыть].
Пайщиком «Знания» Андреев так никогда и не стал, и вообще старания Алексея Максимовича сделать из Леонида Николаевича «делового партнера» и более того – правую руку в организационных делах наталкивались на пассивное, но стойкое сопротивление друга. Их отношения по-прежнему были близкими, почти что семейными, они вынашивали планы то совместного путешествия, то совместной работы над некой драмой, и в то же время отношения эти казались Андрееву весьма далекими от идиллии. В те годы они строчили друг другу по два, а иногда и по три письма в неделю, однако только для нашего героя переписка эта носила совершенно личный характер, отчасти заменяя ему дневник. С 1901 года Андреев прекратил делать дневниковые записи, и исповедальный – лирический или философский – тон дневника перенес в письма к «единственному другу». И, надо сказать, этот тон донельзя раздражал Горького, которому были интересны лишь литературные планы Андреева, новости московской жизни, сообщения о друзьях и знакомых. На лирические излияния друга Горький реагировал так: «Прочитал твое письмо и понял – у тебя скверное настроение…» Или: «Письмо твое прочитал, разорвал и – постараюсь забыть о нем, а тебе рекомендую, дружище, – имей побольше уважения к себе и не пиши глупостей, поддаваясь настроениям, унижающим свободолюбивую душу твою» [202]202
Переписка. С. 150, 177.
[Закрыть].
Горький огрызался, Андреев упорствовал, его исповеди касались не только их взаимных отношений: «я не знаю, друг ты мне или просто товарищ», «любишь ли ты меня самого» или «за то, что считаешь моим талантом», но и чрезвычайно важных для нашего героя вопросов самоопределения и самосознания. В одном из таких писем Андреев набросал словесный автопортрет: «…во мне ужасно много мещанского тяготения к благополучию, к погремушкам, к внешним знакам почета; трусоват я, люблю поговорить о себе… ни к кому в мире я не испытывал временами такого отвращения, как к самому себе». Не жалея сатирических красок для описания весьма неприятного господина «в лаковых сапогах, который так часто говорит о своем я», Андреев признается, что и сам не любит и даже не признает этого господина и что его настоящее яживет только в его рассказах: «Там нашло отражение мое глубокое, сокровенное, тайное, о чем я никогда не умел и не умею говорить. Там из-под кучи сора начал вырисовываться на свет тот самому мне неведомый новый человек, которого я, еще робко, осмеливаюсь иногда уважать» [203]203
Там же. С. 173.
[Закрыть]. Действительно, за внешней мишурой все возрастающей славы, внезапно нахлынувшего богатства и многочисленных знакомств, за прочным семейным благополучием скрывалась тревога: «неведомый новый человек» вынашивал – «Жизнь Василия Фивейского». К тому же этот «новый человек» должен был вот-вот стать отцом: Шурочка ждала первенца, что также повергало Андреева в невероятное волнение и трепет. И всю эту внутреннюю тревогу он жаждал разделить с человеком, которого не только любил и ценил, но и считал лучшим из встреченных им людей. Горький же, неизменно поддерживая Андреева на литературном поприще и даже ввязываясь в газетные дискуссии о скандальных рассказах друга, отнюдь не жаждал предоставить свою жилетку для его «метафизических» слез. Надо сказать, что, имея привычку к постоянному присутствию в своем доме разнообразных людей, многие из которых годами жили в его семействе, Горький был человеком весьма и весьма сдержанным, свои личные дела он, например, не обсуждал никогда и ни с кем.
Столь неопределенные отношения между «милым Алексеюшкой» и «дорогим моим Леонидом» должны были закончиться неминуемым взрывом. Андреев был не из тех, кто с покорностью сносит – пусть даже добродушную – грубость и пренебрежение к метаниям своей сложноустроенной души. Так и случилось. Зимой 1903 года, приехав – для участия в благотворительном концерте – в Нижний Новгород, куда с семьей и домочадцами уже вернулся Горький, Андреев, изрядно напившись, закатил в его доме невероятный скандал. «Видел Леонида пьяным – это отвратительно и ужасно, но помогает многое понять в его литературе» – так наутро после случившегося отрапортовал Горький своему неизменному корреспонденту – Пятницкому. По версии Максимушки, друг Леонид наговорил дерзостей всем его домочадцам и, не встретив сочувствия, пожелал уйти. «Ну, я снял с него сапоги и спрятал их. Он – обозлился. Кинулся на Алексина с ножом». Александр Алексин – живший тогда у Горького «идеальный русский земский врач» и личный друг писателя – конечно же менее всего заслуживал подобного, хозяин пришел в ярость, писатели подрались. Далее – по версии жены Горького, тот сам свез Леонидушку на вокзал, посадил в поезд и отправил в Москву. «Алексей, я был сильно пьян… Рвать при этих условиях отношения, рвать резко и навсегда, мне кажется невозможным, нелепым» [204]204
Там же. С. 177.
[Закрыть], – «кричал» другу Леонид уже из Москвы. Но – отношения были разорваны и возобновились лишь спустя несколько месяцев – в сентябре 1903 года. Андреев принес извинения, которые были, наконец, приняты, он пообещал лечиться от запоев – ему благосклонно поверили. «Был у Л. Андреева – чуть не разревелся. Он страшно похудел, похорошел, серьезно лечится, все время не пил» [205]205
Там же. С. 414.
[Закрыть], – писал Горький жене, после того как друзья окончательно помирились в Москве в доме у Андреева. В факторе примирения немалую роль сыграла «огромная вещь» – именно так после первого прочтения назвал мэтр «Жизнь Василия Фивейского» – новую повесть Леонида.
Вероятно, «милый Максимушка» действительно намного больше любил талант Андреева, чем его самого. Когда-то Владимир Иванович Немирович-Данченко сказал о Чехове: это – талантливый я. И, бросив писать пьесы, стал режиссером. Примерно те же слова Горький иногда – и как будто в шутку – говорил об Андрееве. Но в этой шутке была доля истины: в 1903–1905 годах, по остроумному замечанию критика Антона Крайнего [206]206
См.: Антон Крайний.Литературный дневник: 1903 год.
[Закрыть](одна из литературных масок Зинаиды Гиппиус), писателя Горького уже активно заслонял «деятель Горький». И этому прогрессивному «деятелю», без пяти минут активному члену РСДРП(б), душа друга Леонида казалась, вероятно, чересчур экзальтированной и даже фальшивой… Однако как деятель в те годы Горький ощущал себя кем-то вроде литературного тренера для целой плеяды молодых писателей. И ехидная Зинаида Гиппиус частенько отмечала, что «Г. Андреев, московский беллетрист, несомненно, самое яркое дарование в созвездии „Большого Максима“», и даже в каком-то отношении она ставила Андреева как писателя «выше самого Горького». Само же «созвездие» «прогорьковских» литераторов она окрестила «подмаксимовиками», а опубликованный в феврале 1903 года в газете «Искра» известный шарж Н. И. Фидели и вовсе обессмертил придуманный ею образ. Стоящий на толстой ножке-шее крепкий гриб с головой Максима Горького прикрывал своей огромной черной шляпой растущие у его подножия «грибки»: Андреева, Скитальца и Бунина. Интересно, что Ивана Бунина карикатурист посчитал самым мелким из «грибков», и тот как-то неестественно и грустно выглядывал из-за толстой ножки «Большого Максима». Согласно Гиппиус, все прочие грибки: «Серафимовичи, Юшкевичи, Вересаевы, Чириковы…» – еще не выросли до заметных человеческому глазу размеров. Кстати, позже станет популярна еще одна – опубликованная в «Стрекозе» – карикатура Ре-Ми (Н. В. Ремизова), на которой силуэт Горького отбрасывает – как тень – силуэт Леонида Андреева со сложенными в молитве ладонями.
Эстетическое кредо «созвездия Большого Максима» Гиппиус определять не считала нужным и утверждала, что единственно важен для этой группы лишь круг идей, который вызывает тот общественный резонанс, который получают «Большой Максим» и его «грибки» от пропаганды этих идей. Как же случилось, что такой индивидуалист, как Леонид Андреев, пусть на время, но все-таки стал первым в ряду «подмаксимовиков»? Этот интересный вопрос нередко вставал и перед самим Андреевым. «Это верно, что под твоим знаменем я работаю, – писал он другу в одном из „исповедальных посланий“. – Оно и просто: ты для меня дух свободы, а этому святому духу я так или иначе хочу служить» [207]207
Переписка. С. 173.
[Закрыть]. Честная служба «под знаменами свободы» – что ж, такая формулировка удовлетворила бы и самого Антона Крайнего и вот почему. Под «горьковской свободой» Гиппиус понимала свободу от всех прежних символических ценностей, и главное – от христианских. В произведениях горьковской «плеяды» она вычитывала поругание всех прежних ценностей: религии, любви, общепринятой морали, соседствующее с проповедью «общественного прогресса», созданного руками «гордого человека». Мир, созданный по такой схеме, казался ей «миром зверя», то есть человека, лишенного всех качеств, кроме агрессивного животного начала. Но был ли такой подход «ко всему сущему» органичен для Андреева-писателя?
Что ж, для «раннего Андреева» прежний мир нес еще остатки теплоты, исходившей от символов прошлого: прозрачное небо, полный таинственности ночной сад, коньки, замерзшая река, восковая фигурка ангела, материнская ласка, отцовская любовь, да мало ли еще теплоты хранила его память… Но, другой, рождающийся в его рассказах «новый человек» уже отказывался от всяких компромиссов с уютным мирком, его интересовали «вечность и бесконечность», те «пограничные ситуации», где на свои яростные вопросы к прежним пророкам его герои бескомпромиссно требовали ясных ответов и не получали их. Так, Андреев безоговорочно принял Горького в его отрицании прошлых символов и праве человека на подобное отрицание, однако созидающий пафос Буревестника оказался ему бесконечно чужд. Но оба заметили это не сразу.
Как ни странно, многие современники прочли новую повесть Андреева «Жизнь Василия Фивейского» как антирелигиозное произведение, текст этот приветствовала даже марксистская критика. Вероятно, поэтому напечатанную впервые в первом сборнике «Знания» 1904 года повесть охотно публиковали в советских изданиях. На самом же деле эта история человека, «над всей жизнью которого тяготел суровый и загадочный рок», гораздо более уважительно относится к существованию и личности Всевышнего, чем, допустим, запрещенный в советское время «Дневник Сатаны». На библейские параллели есть указания прямо в тексте, а серьезность и даже неистовство, с которыми представляет автор богоискательство отца Василия, по-моему, должны вызвать у читателя глубокое уважение к такого рода исканиям да и вообще – к личности отца Фивейского. Подобно богобоязненному и богатому Иову, которого Господь отдал на испытания к Сатане, деревенский священник отец Василий последовательно лишается всего, что любил. Ярким солнечным днем тонет «черненький и тихонький» сынок Василия – Василий, от горя – тихо и страшно спивается красавица-жена – попадья Настасья, зачатый в горе, рождается безумным уродом их Василий-второй: это – полуребенок-полузверь. Горит дом, и в том огне погибает любимая жена; отправив дочь на воспитание в город, Фивейский ухаживает за уродом, читая ему Евангелие, и едва ли не каждый день истово служит в деревенской церкви. Внешняя фабула все увеличивающихся бедствий монтируется Андреевым с плотной и вязкой внутренней жизнью Фивейского: он впадает в неверие, а после открывает для себя любовь к ближнему, хочет бороться против судьбы, но вскоре познает истину в смирении. И далее является восторг перед верой, он готовит себя к избранничеству и обретает пугающие всех прочих «бездонно-глубокие глаза, черные и страшные, как вода болота». И всякий, поймавший взгляд отца Василия, чувствует, что «…чья-то грозная воля выходила оттуда, как заостренный меч». И, наконец, абсолютно убежденный в данном ему Богом могуществе, прямо в церкви он произносит над гробом погибшего накануне крестьянина: «Тебе говорю, встань!» Ужас охватывает всех, бывших в тот момент в церкви: «Было смятение, и шум, и вопли, и крики смертельного испуга. В паническом страхе люди бросились к дверям и превратились в стадо: они цеплялись друг за друга, угрожали оскаленными зубами, душили и рычали. И выливались в дверь так медленно, как вода из опрокинутой бутылки».
Как известно, библейский Иов, потеряв всё, ни словом, ни делом не оскорбил Господа и тот – еще на земле отметил страдальца – вернул ему богатство, семью и славу. Не таков андреевский отец Василий: после несостоявшегося воскресения священник гневно вопрошает Бога: «Так зачем же я верил? Так зачем же ты дал мне любовь к людям и жалость – чтобы посмеяться надо мною? Так зачем же всю жизнь мою ты держал меня в плену, в рабстве, в оковах? Ни мысли свободной! Ни чувства! Ни вздоха! Все одним тобою, все для тебя. Один ты!» Василий просит и даже требует у Бога чуда воскрешения, и так и не дождавшись ответа, «с диким ревом он бежит к дверям». Гибель отца Василия происходит в апокалипсических обстоятельствах: «Небо охвачено огнем. В нем клубятся и дико мечутся разорванные тучи и всею гигантскою массою своею падают на потрясенную землю». Последний образ – бездыханный Василий Фивейский, который и мертвый «…в своей позе сохранил… стремительность бега; бледные мертвые руки тянулись вперед… как будто и мертвый продолжал он бежать». Образ этот едва ли ставит точку в диалоге доброго христианина и отъявленного атеиста, утверждая победу последнего. Финал рассказа вполне возможно прочесть и наоборот: «бегущий мертвец» непременно отыщет истину в другом измерении.
Изысканный сюжет «…Фивейского», как и образ отца Василия, вне сомнения, привлекали и читателя, и критику, но было в этой прозе растворено нечто такое, что не связывалось с «идеями»: ощущение постоянной тревоги, рвущейся из другого, параллельного мира, который вдруг обнаруживает свое существование и прячется, застигнутый врасплох человеком: «Дверь хлопает, впуская звуки. Они жмутся у дверей, – но там нет никого. Светло и пусто. Один за другим они крадутся… по полу, по потолку, по стенам… шепчутся, смеются и начинают играть. Все веселее, все резвее. Они гоняются, прыгают и падают; что-то делают в соседней темной комнате, дерутся и плачут. Нет никого. Светло и пусто. Нет никого». Но чаще, тот – иной мир – проявляет себя в молчании, и люди – как дети – пытаются убежать от него, – они шумят, смеются, играют в карты, – чтобы не чуять, не слышать, спастись.
То есть, как будто решая все вопросы «на земле» и сюжетом утверждая отсутствие другого мира, автор – одновременно – давал нам ясное ощущение, что тот, иной, сеющий тревогу потусторонний мир – есть. А это уже был очевидный крен в сторону символизма. «Большой Максим», как, впрочем, и символисты, постарался ничего не заметить. Заметил и оценил – Александр Блок. Позже он признался, что именно после «Жизни Василия Фивейского» с Леонидом Андреевым установилась у него внутренняя связь: «После чтения Фивейского у меня появилось чувство, что везде неблагополучно, что катастрофа близка» [208]208
Блок А. А.Памяти Леонида Андреева // Блок А. А.Собрание сочинений: В 8 т. Т. 6. М.; Л., 1962. С. 131.
[Закрыть]. Опять-таки – бессознательно Андреев выстраивал свою громкую славу по всем правилам современных пиар-технологий, после скандальных «Бездны», «Мысли», «В тумане» – «Василий Фивейский» утвердил его статус как серьезного писателя – в повести не было ни одного «скользкого» момента, который мог бы позволить рецензентам упрекнуть Андреева в «бульварщине», не было и физиологических, медицинских подробностей, по всем своим свойствам этот строгий текст принадлежал мейнстриму «большой русской литературы».
Была в «Жизни…» и еще одна пронзительная тема – любовь. В середине бедствий между отцом Василием и его женой родилась не плотская, а воистину христианская любовь: «…в его голосе, когда он говорил с попадьею, в его взгляде, обращенном на нее, была тихая нежность, которую одна только она могла уловить своим измученным сердцем». Незримые нити связывали Фивейского с попадьей, и где бы он ни был – чувствовал ее рядом: «Они мало говорили между собой, и просты и обыкновенны были скупые речи; они редко бывали вместе, разрозненные жизнью, – но полным страдания сердцем они непрестанно искали друг друга; и никто из людей, ни сама жестокая судьба не могла, казалось, догадаться, с какой безнадежной тоскою и нежностью любят они». Однако «жестокая судьба» догадалась – и отняла у попа и эту любовь. Зимой 1902/03 года та самая, крепкая и не слишком заметная для окружающих любовь все больше связывала Леонида и Шурочку, жена присутствует в письмах Андреева Горькому, ее здоровье теперь волнует Леонида Николаевича не меньше своего собственного.
Тот самый брак, о котором Розанов говорил, что он как сумка «защелкнулась» или «не защелкнулась», – раскрывал для них обоих все новые и новые грани «общего счастья»: 25 декабря 1902 года на свет появился младенец: «…ростом он был чрезвычайно мал, весил семь с половиной фунтов и лицо имел красное с очень большим распухшим носом». Роды принимала старшая сестра Шурочки – уже знакомая нам Елизавета Доброва. По современным стандартам будущий Вадим Леонидович Андреев имел абсолютно нормальный вес – 3 килограмма 400 граммов, а послеродовая краснота – обычное состояние всех новорожденных, однако в ставшем впоследствии семейной реликвией «Дневнике Димискина» Андреев отметил, что «первоначальный вид Димискина был неказист». Димискин – а также Дим Дим, Диди, Димок и Вадечка – семейные прозвища, которые немедленно получил первенец, официально названный Вадимом. «Первые недели существования Димискина омрачались неудачами: мать его была больна, молока было мало, и он голодал. Кричал, однако, мало и так упорно спал, что крайне мнительный родитель его часто выражал недоумение и даже страх» [209]209
Цит. по: «Жизнь…». С. 122.
[Закрыть]. «Крайне мнительный родитель» просил своего друга – воинствующего атеиста Максимушку – стать крестным отцом младенца. «Шура очень ухватилась за мысль, что ты будешь крестить мальчишку. Для этого тебе приезжать не потребуется, – писал он Горькому в Нижний, – а тебя запишут где-то в книгу» [210]210
Переписка. С. 163.
[Закрыть]. Крестной матерью Вадима стала мать Шурочки – Ефросинья Варфоломеевна.
«Дневник Димискина» вели оба родителя, этот документ всю жизнь хранил его герой – Вадим Андреев, хранил как семейную реликвию и свидетельство подлинного счастья, в атмосфере которого рос и развивался малыш. Раннего счастья, о котором у Вадима сохранились лишь смутные воспоминания, как и о своей матери – Александре Велигорской. «Он очень нежен и чувствителен, с большим воображением и интеллектуальностью. Странное чувство бывает при взгляде на него иногда: как будто кто-то старый, старый вошел на время в ребенка, стал ребенком и понимает комичность и странность своего положения – так хитро, умно и старо улыбается он» [211]211
Цит. по: Материалы и исследования. С. 170–171.
[Закрыть], – наблюдала Шурочка за Вадимом. Улыбка старичка, набегающая порой на безмятежное чело младенца, – несомненно – тень будущего, где ко всем бедствиям, которые предстоит пережить ровесникам XX века, прибавятся и раннее сиротство, и мучительная любовь к отцу, ненависть к мачехе, трудное становление собственного поэтического голоса. Но, вероятно, та огромная порция любви, которую получил Димискин в первые четыре года своего существования, создала этому человеку «запас прочности», этот ресурс и помог ему в годы юношеских скитаний в Грузии и Турции: бессмысленных, но весьма опасных попыток «спасти Россию» на исходе Гражданской войны. Этот запас помог ему и в зрелые годы – в борьбе против оккупации Франции, в нищете эмиграции, в его – всегда рискованных – порывах любви к родине и в скитаниях по Европе в поисках себя.
Вадим Леонидович вырос весьма отважным человеком: дважды он воевал, был в фашистском концлагере, он действительно стал поэтом, поэт-эмигрант, он органично вошел в литературу русского зарубежья, часть которой составляли давние коллеги его отца. Вадим написал о своей жизни и о своих скитаниях две интереснейшие книги: «Детство» и «История одного путешествия»…








