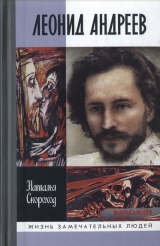
Текст книги "Леонид Андреев"
Автор книги: Наталья Скороход
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
В конце апреля Горький уехал в Лондон на съезд РСДРП, а вернувшись на остров – уже не застал там Андреева. «…Андреев напился и наскандалил здесь на всю Италию, черт его дери! – досадливо, едва ли не опускаясь до сплетни, трактует он отъезд друга в письме их общему издателю Ладыжникову. – Оттого он и сбежал столь скоропалительно. Кого-то столкнул в воду, и вообще – поддержал честь культурного человека и русского писателя. Ах, дьяволы…» [300]300
Переписка. С. 433.
[Закрыть]
Но – согласимся – едва ли пьяное буйство Андреева кого-нибудь удивило и вряд ли такого рода скандал заставил его поспешно удрать из Италии. События – как это обыкновенно бывало у Леонида Николаевича – накапливались медленно, а происходили молниеносно. Потребность обновления зрела уже давно, зрела – мучительно, неосознанно, неотвратимо. Поступки, а уж тем более разговоры, ночные бдения, пьянство, скандалы – фиксировали слабые отголоски, толчки мощных глубинных взрывов.
Тоска по Шуре никуда не ушла, но полугодовой траур если не примирил его с тем, что жены уже нет, то все же вернул способность ощущать себя не только вдовцом, но и великим русским талантом, деятелем, мужчиной, отцом, строителем. Он вновь почувствовал вкус к жизни, его тянуло к иным ролям, тем, что предстояло сыграть ему на сцене российской действительности при полных аншлагах, при взвинченном экстазе публики, восторженно-негодующем вое газет, в свете софитов, в шуме балтийского ветра, в огромных черных пространствах родины. Внезапно осознав исчерпанность изгнания, Андреев в несколько часов уложил необходимые рукописи, сгреб в охапку Анастасию Николаевну с ее «куфней» и «колдовой» и, покрикивая на гувернантку, подхватив на плечи пятилетнего Вадима, навсегда покинул темную и холодную виллу со стеклянной террасой и пальмами в саду.
Еще в начале января он писал своему «литературному сыну», любимому Зайчику: «Для меня жизнь так: несколько людей, которых я люблю, а за ними города, народы, поля, моря, наконец, звезды, и все это чужое». Теперь же, в конце мая, жарким флорентийским вечером Зайцев встречал его на платформе «скромного вокзала», куда «в грохоте, с пылью» влетел несущийся на север международный экспресс. Борис и его жена с удивлением наблюдали, как на платформу «из первого класса выскочил тот же Андреев, в широкополой шляпе, с летящим галстуком, в артистической бархатной куртке, каким и был он когда-то в Бутове, в Москве. Как и тогда, он ни слова не знал „по-заграничному“; в купе оказалась матушка его, – ни себе, ни ей за весь день он не мог достать стакана чая. Матушка охала. Сам он задыхался от жары в бархате своем, но глаза его так же блестели, как и в былые годы. Он нюхал наши розы; говорили мы быстро, бестолково, ибо некогда было, и через несколько минут он махал нам букетом из окна поезда уходящего» [301]301
Зайцев Б. К.Леонид Андреев // Зайцев Б. К.Голубая звезда: Повести и рассказы. Из воспоминаний. М.: Московский рабочий, 1989. http://terijoki.spb.ru/history/tpl2.php?page=andreev3&lang=ru. Дата обращения 30.10.2011.
[Закрыть]. Вот так, с букетом роз, в бархатной куртке и с горящими глазами, Леонид Андреев мчался к России – ее «городам, народам, полям, морям, наконец, звездам». Этим летом ему исполнится 37 лет.
В том роковом для русского писателя возрасте он, как сам признается позже Сергею Глаголю, «достигнет вершины»: «когда мною написаны: в 1906 – Елеазар, Жизнь Человека, Савва, 1907 – Иуда и Тьма и в одном 1908 – Семь повешенных, Дни нашей жизни, Мои записки, Черные маски и Анатэма» [302]302
S.O.S. C. 233.
[Закрыть]. Здесь, «на вершине», – в жизни и творчестве Андреева произойдет решительный перелом.
В мае 1907 года он перевозит свое осиротевшее семейство с острова Капри сначала в Москву, где впервые приходит на могилу Шуры и безуспешно пытается уговорить Добровых отдать ему младшего сына. Вопреки страхам и нервному ожиданию, что Андреева арестуют на границе – в Вержболове русская полиция – невзирая на старые «революционные» грешки – ничуть не интересуется его приездом. И далее – как и предполагал – Андреев проводит лето в Финляндии: в Куоккале на берегу Финского залива.
И вот с этих-то пор одна за другой, точно змеиная чешуя, отпадают от человека и писателя Андреева его старые привязанности, увлечения и роли. Не пройдет и трех месяцев – перемены коснутся не только видимости, но и сути жизненного строя писателя. Причем, согласно сценической логике, которой уже неотвратимо подчиняются дни его жизни, почти все старые сущности переменятся на противоположные.
Он сменит место жительства: вместо простодушной и «слишком густой по запаху» Москвы поселится в столичном и чопорном Петербурге, где так хорошо ощущается им «близость целого символического арсенала». Он переменит место работы – вместо горьковского «Знания» его начнет печатать символистский «Шиповник». Он изменит газетный имидж – из «бытописателя» и «первого подмаксимовика» обратится в «факел» и «корифея русского модернизма», из «тени Горького» – в его заклятого врага. Скитальца, Бунина, Зайцева вытеснят в его сердце Блок, Сологуб и Чулков. Вечный странник – станет владельцем огромной виллы. Вдовец обернется женихом, а вскоре – молодым мужем. Сомнительного новичка-драматурга, путь которого в театр наглухо перекрыт цензурой, заменит модный властитель сцены, за его пьесы вскоре будут сражаться лучшие театры империи.
Странно, но все или почти все эти перемены были так или иначе связаны, предугаданы, пророчески заложены в пьесе, разломившей жизнь и судьбу Андреева на две равные доли. Это – «Жизнь человека». «Не берусь судить, насколько эта пьеса изображает жизнь человека вообще, но для жизни самого Андреева она оказалась жутко пророческой – над ним самим сбылась вся жуть этой кошмарной фантазии, – и тогда и потом никто из пишущих об Андрееве не мог обойти этой ключевой драмы, – была „любовь и бедность“, потом „слава и богатство“, фантастический дом „в пятнадцать комнат“, смерть жены, гибель покинутого дома, в котором „мыши скребутся“, и внезапная страшная „смерть человека“. Все сбылось» [303]303
Телешов.
[Закрыть]. Николай Дмитриевич Телешов выразил то общее место о роли «Жизни человека» в судьбе ее автора, эту мысль разделял и сам Андреев. Никому никогда не простил он отрицательного отношения к пьесе, что была для него, – как с яростью и грустью объяснял он одному из «хулителей», – «не литературой, а мною самим, моей душой…».
«Представление в пяти действиях с прологом», законченное еще до «новой эры» – еще до рождения Даниила и смерти Александры Михайловны – в октябре 1906 года – и ей же посвященное, получает широчайшую, поистине триумфальную известность как раз во время возвращения Леонида Николаевича в Россию. Слава автора нашумевшей пьесы «накрыла» его разом, ибо, по ехидному замечанию О. Мандельштама, «не было тогда дома, где бы не бренчали одним пальцем тупую польку из „Жизни человека“» [304]304
Мандельштам О. Э.Шум времени. Л., 1925. С. 70.
[Закрыть].
Между тем жизнь «Жизни…» начиналась непросто. Как мы помним, едва закончив работу, Андреев отправляет драму в МХТ, где (о чудо!) ее судьба оказывается удачливее участи младших сестер – ранних реалистических пьес «Савва» и «К звездам» – уже 19 октября В. И. Немирович-Данченко читает пьесу на труппе, читка имеет успех, пьеса без заминок проходит Цензурный комитет и принимается к постановке. Андреев не может скрыть радости: «Придумал новую драматическую форму, такую, что декаденты рот разинут!» – и было отчего: само строение пьесы перечеркивало элементарные понятия о драме – в ней не было ни характеров, ни интриги. Даже смелые искания символистов были не столь радикальны.
«Жизнь человека» не давала зрителю ни малейшего шанса увлечься сюжетом. Уже в Прологе Некто в сером,именуемый Он, сообщал: «Смотрите и слушайте, пришедшие сюда для забавы и смеха. Вот пройдет перед вами вся жизнь Человека, с ее темным началом и темным концом». Тот, кто назвал себя «верным спутником Человека», кратко излагал основные вехи жизни героя: «Вот он – счастливый юноша… Вот – счастливый муж и отец. <…> Вот он – старик, больной и слабый. <…> Так умрет Человек». Самое интересное, что дойдя до конца, читатель убеждался, что именно так все и случилось. В пяти коротких картинах пьеса, по меткому определению Зайцева, «в чертах схематически условных обнимала жизненный путь и судьбу „человека вообще“».
Мать родила ребенка, он вырос, женился по любви, он был беден и хотел богатства и славы. По воле случая талант его оценили важные люди, он стал богат, знаменит. Прошли годы – талант погас и Человек обеднел опять. Сын его умер, умерла и жена. Умер и сам герой, одинокий, не любимый никем среди равнодушно галдящих пьяниц. И только Некто в сером – тем же холодным, равнодушным голосом выкрикнул «из глубокой дали, как эхо: – Тише! Человек умер!».
Необычность пьесы поначалу озадачила и самого автора. Отправляя рукопись Горькому, от которого зависела публикация драмы, он предупреждал издателя и друга: «На первый взгляд, – это ерунда; на второй взгляд – это возмутительная нелепость; и только на тридцатый взгляд становится очевидным, что написано это не идиотом, а просто человеком, ищущим для пьесы удобных и свободных форм» [305]305
Переписка. С. 274.
[Закрыть]. Знаньевцы да и сам Горький, как и предчувствовал автор, ограничились лишь первым и вторым взглядами: трудно сказать, что вызвало наибольшую ярость «горьковского круга» – мрачность и пессимизм содержания пьесы, воспевающей обреченность человека перед лицом рока и смерти, или же возмутительная ее форма.
Наглядно, образно и грубо автор показывал бессмысленность всех человеческих чувств, метаний, устремлений и знаний перед лицом равнодушного Некоего в сером – даже не Бога, не рока, а мелкого чиновника, клерка, нанятого Судьбой. Возмущали и лишенный индивидуальных черт «человек вообще», и безымянные Жена Человека, его Друзья и Враги, вызывали недоумение сознательное огрубление, опрощение ситуаций, отказ от жизненных деталей, действие пьесы казалось «горьковцам» голой и грубой схемой. Отсутствие социальных и психологических мотивов воспринималось апологетами реалистической школы надругательством и насмешкой над всеми сокровенными «идеалами». Вопиющие черты «Человека…», его бессилие перед лицом рока и смерти почти уравнивали андреевскую драму с «плоскими писаниями педерастов», как интимно именовали всех модернистов в горьковском кругу. Такого удара – и от кого? – от наместника и «тени» Горького – не ожидал никто. Андреев поступил как Иуда.
Его пытались образумить: «ты – поторопился. В жизни твоего человека нет человеческой жизни, а то, что есть – слишком условно, не реально». Радикальная критика Горького предварялась добрым десятком комплиментов, тонкий ценитель, он все же не мог не отметить брутальную образность пьесы, хвалил и язык, и форму «древней мистерии», и «простоту и злую наивность лубка»… Однако окончательный вердикт: «ты слишком оголил своего человека, отдалив его от действительности, и этим лишил трагизма, плоти, крови» [306]306
Там же. С.275.
[Закрыть]– не оставлял надежды: в ласково-отеческом «поторопился» можно угадать и отказ в публикации пьесы в сборнике «Знания», и строгий совет не разрешать театрам ее постановку. Андреев, как мы помним, не внял совету и отправил драму Комиссаржевской и Немировичу-Данченко.
Над ним потешались: «Горький, смеясь, рассказывал, как они вышучивали стремления Андреева отдаваться черным переживаниям.
– Смотрим в окно, – идет Леонид, угрюмый, мрачный, видно, все время с покойниками беседовал. Инкубы, суккубы… Мы все делаем мрачные рожи. Он входит. Повесив носы, заговариваем о похоронах, о мертвецах, о том, как факельщики шли вокруг гроба покойного Ивана Иваныча… Леонид взглянет: „А сейчас был на Монте Тиберио, как там великолепно!“ Мы, мрачно хмуря брови, – свое…» [307]307
Вересаев.
[Закрыть]
Всегда болезненно воспринимающий критику, чуткий и к замечаниям Горького, и к его юмору, – Андреев упорно и угрюмо стоял на своем. Судя по шуткам над андреевскими «новыми настроениями», друг Максимушка поначалу решил, что Леонид просто разозлился и как только обида отойдет, – он вернется в уютный, веселый, почти уж семейный круг Максима и его «подмаксимовиков». Тот не вернулся. Внешние отношения были как будто прежними, но в самом здании их многолетней крепкой, едва ли не нежной дружбы возникла роковая трещина.
Трещина эта освещается в горьковском очерке «Леонид Андреев» скупо, да это и понятно: в своих оценках пьесы, пророчествах о ее дальнейшей судьбе Алексей Максимович, мягко говоря, угодил пальцем в небо. Но главный пункт обнажившихся вдруг противоречий между Буревестником и будущим «факелом модернизма» описывается (хотя, вероятно, не осознается) Горьким с величайшей прозорливостью. Когда-то давно, споря об отношениях человека и смерти, тот признался Андрееву, что и ему «довелось пережить тяжкое время „мечтаний узника о бытии за пределами его тюрьмы“, о „каменной тьме“ и „неподвижности, уравновешенной навеки“», и, что «переварив» сей «арзамасский ужас», он и вовсе выкинул из головы факт, что когда-нибудь умрет. Реакция Леонида оказалась бурной: «Он вскочил с дивана и, бегая по комнате, дирижируя искалеченной ладонью, торопливо, возмущенно, задыхаясь, говорил:
– Это, брат, трусость, – закрыть книгу, не дочитав ее до конца! Ведь в книге – твой обвинительный акт, в ней ты отрицаешься – понимаешь? Тебя отрицают со всем, что в тебе есть, – с гуманизмом, социализмом, эстетикой, любовью, – все это – чепуха по книге? Это смешно и жалко: тебя приговорили к смертной казни – за что? А ты, притворяясь, что не знаешь этого, не оскорблен этим, – цветочками любуешься, обманывая себя и других, – глупенькие цветочки!..
Я указывал ему на некоторую бесполезность протестов против землетрясения, убеждал, что протесты никак не могут повлиять на судороги земной коры, – все это только сердило его» [308]308
Горький.
[Закрыть].
Смерть – вот камень, о который разбилась, казалось бы, нерушимая дружба; проблема в том, что Алексей Максимович жил в отсутствие смерти, а Леонид Николаевич каждую секунду ощущал ее дыхание за своим плечом. «Он мог говорить какие угодно хорошие слова о свободе или о социальной справедливости, но все это для него было чужое, не волнующее кровно, не первое. Первое – только одно: смерть, „жизнь человека“ частного, одинокого, обреченного. „Умрем! Умрем! Все умрем!“ – вот его крик, его вопль» [309]309
Чулков Г. И.Леонид Андреев, http://chulkov.ouc.ru/leonid-andreev.html. Дата обращения 30.10.2011.
[Закрыть]– согласившись с мнением Чулкова, вынуждена признать, что никакие финансовые, стилистические, человеческие или бытовые коллизии не могли серьезно влиять на разрыв Горького и Андреева. Их дружба была обречена с самого начала, противоречие оказалось сущностным. Как только вопль Андреева: «Умрем! Умрем! Все умрем!» нашел себе адекватную форму и зазвучал в полную силу в пьесе «Жизнь человека», оба они почувствовали взаимную неловкость и взаимное отчуждение.
Дальнейший разрыв, которого Горький пережить так и не смог, заставлял его снова и снова искать причины, мучительно перебирая все значимые разговоры с Леонидом во времена ничем еще не замутненной их дружбы. Когда-то в пьяном угаре тот говорил Горькому: «Ты мешаешь мне быть самим собою. Оставь меня – я буду шире. Ты, может быть, обруч на бочке, уйдешь и – бочка рассыплется, но – пускай рассыплется, – понимаешь? Ничего не надо сдерживать, пусть все разрушается» [310]310
Горький.
[Закрыть]. До «Жизни человека» обруч надежно сдерживал неукротимую бочку, но теперь держать Леонида стало не так-то легко. «Ты мешаешь мне быть собою» – интуитивно автор чувствовал, что путь, на который он вступил в «Жизни человека», ведет в неизвестность, за пределы апробированного и театром, и драмой, и здесь рецепты Горького абсолютно бессмысленны.
Мучительно и сбивчиво формулируя пожелания для Станиславского, который намеревался ставить «Жизнь…», в МХТ, он называет новую пьесу то «неореалистической», то «стилизованной» драмой: «нет положительной спокойной степени, а только превосходная, если добр – то как ангел; если глуп – то как министр; если безобразен, то чтобы дети боялись», а то вдруг говорит о театре «интеллектуальных переживаний». В одном он был абсолютно уверен: «Если в Чехове и даже в Метерлинке сцена должна дать жизнь, то здесь – в этом представлении сцена должна дать только отражение жизни. Ни на одну минуту зритель не должен забывать, что он находится в театре и перед ним актеры, изображающие то-то и то-то» [311]311
Цит. по: Андреев Л. Н.Пьесы. М.: Искусство, 1959. С. 566.
[Закрыть], – настаивал Андреев в письме режиссеру, мучительно надеясь, что его несомненный авторитет и высокое мастерство актеров МХТ сделают очевидным новаторство драматурга и достоинства пьесы. «Жизнь человека» – это не жизнь, не жизнь и не жизнь, – бунтует он против иллюзорного театра и в строках писем и между строк, словно уже предвидя, что его одинокий голос обретет силу и мощь не теперь, отнюдь не при его жизни, на другой территории.
Мысль Леонида Андреева о неиллюзорном, неаристотелевском театре, мысль – как всегда страстная, пророческая и рваная – окрепнет, обретет мощное продолжение и строгое логическое завершение лишь в театральной революции Бертольда Брехта. Это случится через полвека: режиссерский театр должен «переварить» Мейерхольда и Рейнхарда, а драма пройти долгий путь через «дискуссию», «экспрессионизм» и другие «измы». Но увлечение, а точнее сказать, порабощенность этой идеей – создать принципиально новый, не жизненный, однако и не символистский, но какой-то иной, неведомый театр не отпускали Андреева ни в дни горя и траура, ни тогда, когда Горький и его «подмаксимовики» предсказывали «Жизни человека» полный провал.
Мысль его уже вращается вокруг продолжения «Жизни…», в воображении строится целый цикл условных предельно обобщенных пьес, сталкивающий его «вообще Человека» с «вообще Революцией», «вообще Любовью», Богом, Дьяволом, Смертью. В январе, на Капри, он яростно доказывал Вересаеву правильность выбранного пути: «Однажды вечером сидели мы с ним в его кабинете. Разговорились особенно как-то хорошо и задушевно. Андреев излагал проекты новых задуманных им пьес в стиле „Жизнь человека“, подробно рассказал содержание впоследствии написанной им пьесы „Царь-Голод“. В его тогдашней, первоначальной передаче она мне показалась ярче и грандиознее, чем в осуществленной форме.
Леонид Николаевич говорил:
– „Революция“ – это будет отдельная пьеса. Веселая, вся полная борьбы, энергии. Главное действующее лицо – Смерть. Будет умирать революционер, – и сама Смерть будет рукоплескать тому, как он умирает. Будет еще пьеса „Бог, человек и дьявол“. Человек – воплощение мысли. Дьявол – представитель покоя, тишины, порядка и закономерности. Бог – представитель движения, разрушения, борьбы. Веселый будет Бог. Он будет говорить, потирая руки: „Сегодня я устроил хорошенькое изверженьице!“
Я слушал с увлечением.
– Ну, теперь я готов принять и вашу „Жизнь человека“ с ее плоским содержанием.
Леонид Николаевич обрадованно подхватил:
– Ну да же! Ведь это было только искание формы, – возможна ли такая форма или нет.
– Тогда и спорить не о чем, тогда и я ее целиком принимаю.
Я подошел и крепко его поцеловал. Он долго молчал, опустив голову, потом вдруг сказал взволнованно:
– Голубчик, вот – что вы меня сейчас поцеловали, – вы не знаете, что вы мне этим сделали. Спасибо вам!» [312]312
Вересаев.
[Закрыть]
Из этой сцены можно вычитать отчаяние и неуверенность Андреева в успехе любимого детища – недоброжелательство и жесткая критика «знаньевцев» все же делали свое дело. Не радовал и театр. Приняв пьесу к постановке, МХТ медлил, постоянно откладывая начало репетиций, надежда на премьеру в сезоне 1906/07 года становилась все призрачнее. Но жизнь Андреева уже как будто подчинялась логике его драмы, где герой и его жена страдали от голода, не зная, «что уже сегодня утром в богатом доме два человека, согнувшись, жадно рассматривали чертеж Человекаи восторгались им… И завтра утром, когда соседи уйдут на работу, к их дому подъедет автомобиль, и два господина, низко кланяясь, войдут в бедную комнату и принесут богатство и славу. Но не знают об этом ни он, ни она. Так приходит к человеку счастье – и так же уходит оно».
Осенняя читка «Жизни…» в Художественном театре произвела впечатление не только на его труппу, слухи о необычной форме и скандальном содержании пьесы заинтриговали многие театры. Репертуарный голод – постоянное состояние российской сцены начала XX века, режиссура как профессия не вышла тогда из подросткового возраста, зритель предпочитал «ходить на пьесу», и доход театров целиком и полностью зависел от удачных новинок репертуара. Даже не прочитав, а только прослышав о «Жизни человека» в конце 1906 года, Всеволод Мейерхольд загорелся желанием немедленно поставить ее. Конечно, это был еще не тот всемирно прославленный гений, руководитель Государственного театра им. Вс. Мейерхольда, автор шумных «Леса» и «Ревизора», а бывший актер МХТ, 33-летний начинающий свое поприще режиссер, спектакли он ставил по большей части в провинции, а в начале сезона 1906/07 года В. Ф. Комиссаржевская пригласила его «на службу» в свой петербургский Театр на Офицерской. Комиссаржевская разделяла интерес Мейерхольда к никому не известной, ни на что не похожей новой пьесе Леонида Андреева.
Зная о трудностях постановки в МХТ, Мейерхольд подговорил Веру Федоровну просить драматурга разрешить ему ставить пьесу в Театре на Офицерской параллельно со Станиславским. Положение Андреева оказалось двусмысленным: весовые категории и театров, и режиссеров были неравны. О том, чтобы забрать текст у Станиславского – всемирно признанного мэтра, основателя горячо любимого Андреевым театра и передать ее режиссеру-полупрофессионалу со скандальной репутацией «ниспровергателя основ», – не могло быть и речи. Мейерхольд работал в столице первый сезон, его положение в театре Комиссаржевской было весьма шатким, стремясь создать для великой актрисы «новый репертуар», объявляя войну «быту, натурализму и вообще всякой рутине», он с огромными сложностями «внедрял» на петербургской сцене драмы символистов. Да, недавние постановки «Сестры Беатрисы» Метерлинка, «Балаганчика» Блока имели шумный успех, но были и зияющие провалы. С другой стороны, просто отказать великой актрисе начинающий драматург не мог.
Андреев написал Немировичу-Данченко, прося совета, и тут уж «сработала» судьба – его письмо оказалось как нельзя кстати. Уже понимая, что Станиславский не может да и не хочет начать репетиции «Жизни…» в нынешнем сезоне, испытывая неловкость перед автором, Владимир Иванович с легкостью согласился на соревнование МХТ с Мейерхольдом. Вопрос был как будто решен, однако переписка Петербурга, Москвы и Капри «съела» драгоценное время – театральные сезоны заканчивались тогда рано – с началом Великого поста.
Театр Комиссаржевской получил разрешение и пьесу за три недели до конца сезона, но Мейерхольд не привык отступать. Начав репетиции 10-го, Театр на Офицерской объявил премьеру «Жизни человека» 22 февраля. Разумеется, пошить костюмы за 12 дней было немыслимо – их попросту подобрали в обширной костюмерной театра. Об изготовлении декораций пришлось забыть: художественное оформление спектакля осуществил сам режиссер. И тем не менее эта последняя премьера театра в сезоне оказалась фантастической удачей. Участвовавшая в спектакле актриса Валентина Веригина вспоминает, что «публика принимала пьесу горячо не только во время первого представления… все спектакли „Жизни человека“ проходили с огромным успехом, несмотря на то, что Комиссаржевская в них не была занята» [313]313
Веригина В. П.Воспоминания. Л.: Искусство, 1974. С. 116.
[Закрыть]. При полных сборах пьесу сыграли десять раз подряд, театральный сезон закрылся, а бурное обсуждение «Жизни человека», которая наконец-то дошла до российской публики, только началось.
Живший тогда на Капри Вересаев свидетельствует, что «к первым телеграммам В. Ф. Комиссаржевской об успехе пьесы Леонид Николаевич отнесся с недоверием, думая, что его обманывают. Потом, когда успех выяснился с несомненностью, его охватила восторженная, чисто истерическая радость» [314]314
Вересаев.
[Закрыть]. В марте Андреев получил письмо Мейерхольда – молодой режиссер как будто подслушал самые сокровенные мысли и мечтания Андреева: «Я ставил новаторов, как-никак Ибсена, Метерлинка, Пшибышевского. Приемы постановочные были новые, но нового театране было. Явились Вы, и отныне на прошлом крест! День первого представления Вашей пьесы на сцене – исторический день. Это день создания Нового Театра. Какой это театр – писать не буду… но в другом письме напишу Вам, какой Вы дерзкий зачинатель». Тщательно собирая и наклеивая в альбом решительно все, что печаталось о пьесе в доходивших до Капри русских журналах и газетах, Андреев с нетерпением ждал встречи со спектаклем – его душа ликовала – в поединке с Максимом и «подмаксимовиками» «Жизнь человека» одерживала решительную победу.
Произведение и автор повстречались лишь в новом сезоне, 18 сентября 1907 года Андреев присутствует на премьере в театре Комиссаржевской. Как следует из дежурной записи в журнале, «после третьего и последнего актов публика дружно вызывала Андреева, от театра ему поднесли венок». 21 сентября он вновь пришел на «Жизнь человека».
Никто никогда не пытался реконструировать впечатление Андреева от спектакля, конечно, это – дело неблагодарное, история оставила нам слишком мало свидетельств. Но все-таки мы попробуем представить, как дождливым сентябрьским вечером вошел он в здание Неметти на Офицерской улице, которое несколько лет назад сняла Комиссаржевская для своего театра, сел в уютное кресло небольшого белого зала с колоннами и куполом, выходящим в небо. Представим, какая мутная смесь из счастья и ужаса поднималась в его душе, когда медленно полз наверх расписанный Бакстом модернистский занавес и переполненный столичной публикой зал погружался во тьму.
«Вот, – в темноте на авансцене появлялся справа едва заметный сноп света, а когда он достигал известной, но небольшой силы, в этом луче виден был старый человек, говорящий пролог» – так описывал первые секунды спектакля тогдашний завпост театра В. К. Коленда. «Этот человек, – вторил ему Блок, – некто в сером – из столба матового света, бросал в театр свои слова: „В ночи небытия вспыхнет светильник, зажженный неведомой рукою, – это жизнь Человека. Смотрите на пламень его – это жизнь Человека“» [315]315
Блок А. А.Памяти Леонида Андреева // Блок А. А.Собрание сочинений: В 8 т. Т. 6. М.; Л., 1962. С. 129–135.
[Закрыть]. Кончен Пролог – и также незаметно и беззвучно пропадали и человек, и луч. «Слова Пролога казались и кажутся многим пошлостью», – писал Блок. – «Я помню, что они смертельно надоели и великолепно произносившему их актеру – К. В. Бравичу». Столичная знаменитость – Казимир Викентьевич Бравич – был членом дирекции и пайщиком театра Комиссаржевской, Андрееву, как и многим другим, его исполнение могло показаться суховатым, а сама фигура актера – малозначительной для Рока или Судьбы, однако все тот же Блок признавал, что никогда не мог без волнения вспомнить суховатый особенный голос Бравича: «Посмотрите, как тускло и странно мерцает свеча: точно морщится желтеющее пламя. <…> Ибо тает воск, съедаемый огнем. – Ибо тает воск». Впрочем, Андреев видел «не совсем» Бравича, в новом сезоне режиссер внес поправки в партитуру спектакля, и в «живом плане» актер появлялся только в Прологе, а далее его заменяла деревянная кукла. «Некто в сером – деревянный, Бравич говорит за сценой, кроме пролога» [316]316
Там же. Т. 8. С. 207.
[Закрыть], – с детским любопытством отмечал новые штрихи спектакля один из его «фанатов» – Александр Блок. Скорее всего, Пролог Андреев-зритель выслушал с напряженным вниманием, главные сюрпризы ожидали его впереди.
«Вы еще не знаете, – писал Мейерхольд Андрееву после зимней премьеры, – что я для вашей пьесы разбил вдребезги декорации, уничтожил рампу, софиты, разбил все то, с чем тщетно боролся всю зиму, и что пало так легко, как только родилось на свет ваше произведение». Теперь же автор с изумлением обнаруживал, что перед ним и вправду нет декораций, что голая сцена лишь затянута серыми сукнами, а в каждой картине сноп света выхватывал из серой мглы лишь детали тщательно прописанной им обстановки: диван, стол, стулья или кровать. Отнюдь не сразу Андрееву удалось примириться с тем, что казалось Г. Чулкову главным режиссерским открытием Мейерхольда, – «давать на сцене одно освященное пятно, где происходит действие, в то время, когда вокруг „нет стен и царствует тьма“». Смелое утверждение режиссера о том, что замысел спектакля слился с авторским, представлялось Андрееву по ходу действия все более сомнительным: «Этот мрак… Мейерхольд злоупотребляет им. Всю пьесу он пронизал мраком, нарушил целость впечатления. В ней должны быть и свет и тьма» [317]317
Андреев о Мейерхольде // Сегодня. 1907. 20 сентября. С. 3.
[Закрыть]. Нет, «Жизнь человека» оказалась вовсе не такой, как представлял он в мечтах. Мейерхольд повсеместно отступал от ремарок, в некоторых сценах лиц актеров невозможно было различить, написанные автором гротескные персонажи превращались режиссером в однородные тени, – на миг выскальзывая из тьмы, они вновь ускользали в серую мглу.
Из интервью, которое дал Леонид Николаевич корреспонденту газеты «Русь» через пару дней, следует, что в начале действия два замысла спорили между собой и лишь после третьего акта спектакль сломал сопротивление драматурга и режиссерский текст проник в его сердце. Задумавший ни больше ни меньше – театральную революцию, сметающую со сцены всякое правдоподобие, зритель Андреев вдруг испугался, встретив новый театр лицом к лицу. Увы, где-то в глубине прочно сидел у него «идеал театра», несмотря на все новаторство драматургических исканий, этот зрительский идеал был традиционен – вскормлен ранними постановками Чехова и Горького в МХТ.
Надо отдать должное режиссеру – его «идеал театра» и ви́дение пьесы оказались более радикальны. Здесь Мейерхольд впервые в истории русской сцены, как считают исследователи театра, – «создал развитую световую целостную форму спектакля». Впоследствии некоторые искусствоведы справедливо назовут этот опыт экспрессионистским: «мрак то расступался, то сгущался, контуры комнат расплывались во тьме». Этот прием позволил Мейерхольду практически без декораций построить абсолютно разные пространства для пяти картин – пяти этапов жизни андреевского человека. Такое решение к тому же позволяло смотреть спектакль из-за кулис. Андреев и не подозревал, что в тот вечер, невидимые для зрителей, в сценической мгле за квадратной спиной Некого в сером стояли Александр Блок, Вячеслав Иванов, Михаил Кузмин – как будто сами присутствовали «в сферах» при таинстве рождения человека. «Мне привелось смотреть ее (пьесу) со сцены, – вспоминал Блок, – чем я обязан режиссерским трюкам Мейерхольда. Никогда не забуду впечатления от первой картины. <…> В глубине стоял диванчик со старухами и ширма, а впереди – круглый стол со стульями кругом. Сцена освещалась только лампой на столе и узким круглым пятном верхнего света. Таким образом, я стоял в темноте, почти рядом с актерами, я смотрел на зал театра, на вспыхивающие там и сям рубины биноклей. Жизнь Человека шла рядом со мной, рядом пронзительно кричала в родах мать, рядом бегал нервно по диагонали доктор с папироской; и главное, рядом стояла четырехугольная спина „Некто в сером“» [318]318
Блок А. А.Цит. изд. Т. 6. С. 133.
[Закрыть].








