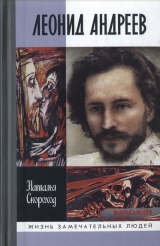
Текст книги "Леонид Андреев"
Автор книги: Наталья Скороход
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 34 страниц)
«Беспорядки и хаос в России» – начавшееся в Москве в декабре 1905 года вооруженное восстание, баррикады на Красной Пресне заставляют Андреева отчасти испытывать стыд беглеца, перемешанный с искренним беспокойством за оставленную мать и близких. «Трудно думать и говорить о чем-нибудь другом, кроме героической и несчастной Москвы. <…> Ведь у нас там полтора десятка одних родственников, и все – в районе артиллерийского огня, – пишет он Пятницкому, – знал бы – сил не хватило уехать» [255]255
Архив издательства «Знание».
[Закрыть]. В конце концов, он добивается, что бедная, не знающая ни единого слова ни на одном из европейских языков Анастасия Николаевна весной 1906 года все же направляется к сыну, захватив с собой в Швейцарию непременный атрибут андреевского быта – московский медный самовар. Она будет выходить не на тех станциях, стремительно убегать от заботящихся о ней русских попутчиках и вопрошать перепуганных швейцарцев о том, не видели ли они ее сына-писателя – Леонида Андреева. Но, несмотря на все нелепости и перипетии, Анастасия Николаевна встретилась-таки с Колочкой, Шурочкой и Диди, и беспокойство Андреева о событиях на родине несколько поостыло.
Но и до приезда матери наш герой так или иначе отдаляется от бурлящей российской реальности: здесь, в Германии он оказывается, наконец, один на один с великим зданием европейской культуры и этот мир вовсю колдует над его душой. «Живем мы в Мюнхене хорошо – насколько возможно жить хорошо сейчас, – пишет Андреев в Россию после того, как в середине января 1906 года семья переехала из Берлина в столицу Баварии. – Нет ни одного знакомого – и жизнь моя проходит между посещением галерей и музеев (удивительных!) и усиленной работой. Своей поездкой я вообще очень доволен: заграница раздвинула мне голову и дала новые мотивы для работы. Есть вещи – задуманные, – которые могли родиться только здесь» [256]256
Там же.
[Закрыть]. Закончив «Савву», он признается, что вещь эту «можно было написать только при двух противуположных влияниях: заграницы и российских зверств». А уже через несколько месяцев, изрядно поправев, Андреев будет настойчиво звать в Германию друга-подмаксимовика – писателя и драматурга Евгения Чирикова: «И вот что я тебе скажу, по-дружески… в России… ни тебе, ни мне, ни даже Горькому работать невозможно. Даже на революционные темы, сидя в России, писать невозможно: чтобы описывать шторм, нужно по меньшей мере находиться на берегу, а не на корабле, где, кроме морской болезни, ничего другого в момент бури не испытаешь». Окончательно приняв решение провести за границей не три месяца, а более года, Андреев как будто и вовсе перестал скучать по родине: «В России нашему брату можно подохнуть от тоски, от злости, от галлюцинаций – но не работать» [257]257
Материалы и исследования. С. 42–43.
[Закрыть].
Его впечатляют собрания берлинских и мюнхенских галерей, его поражает живопись швейцарского символиста Арнольда Бёклина, автор «Острова мертвых» близок Андрееву и по стилистике, и по сути: застывшие пейзажи и бледные, безжизненные, как будто окаменевшие люди, с кожей, напоминающей о мраморе или анатомическом театре, живописные руины на фоне многозначительно-черных небес, – что ж, за каменной кулисой на каком-нибудь полотне Бёклина вполне мог прятаться Некто в сером – персонаж будущей пьесы Андреева. Здесь, в тишине мюнхенской пинакотеки, впервые возникнут тревожные и неясные мысли о странной по форме драме, ирреальной, но не символистской… Леонид Николаевич чувствует, что шедевры прошлого будоражат его воображение, и – как всегда – увлекается: он жаждет ехать дальше на юг – в Италию, туда – к античным обломкам, к детству христианства… Но, очевидно, не получив на это ни благословения, ни кредита от Пятницкого, вместе с семейством перебирается в маленький швейцарский Глион.
Глион – небольшой городок, недалеко от Женевского озера на Швейцарской Ривьере; от знаменитого Монтрё в начале века к нему поднимались на фуникулере, среди благоухания розовых кустов, над водами одного из самых нежных озер на свете… Само название отеля – «Монт-Флери», стоящий в дверях швейцар в позументах, длинные тягучие коридоры, в которых таяли звуки даже самых решительных шагов, – все это, несомненно, располагало к жизни респектабельной, буржуазной, уютной и далекой от каких-либо, а уж тем более российских проблем.
В марте нарочно, чтобы повидаться с Андреевыми, сюда из Франции приезжают Горький и Мария Федоровна: как ни парадоксально, Буревестник также удирает из России в разгар московских событий: через несколько дней этой паре предстоит сесть на океанский лайнер и отбыть в Соединенные Штаты, где писатель-общественник будет «собирать средства» для русской революции, а бывшая примадонна МХТ – станет его секретаршей и переводчиком. Теперь же Горький остановился в том же «Монт-Флери», и гуляя по горным дорожкам, обедая в небольшой красивой столовой на белоснежных крахмальных скатертях, друзья успели переговорить о партиях в политике и в литературе, о Германии и Франции, запивая фондю дорогим белым вином, они подписали воззвание «К рабочим Швейцарии», призывая тех оказать материальную помощь бастующим рабочим России… Сидя на мягком диване в салоне отеля, Андреев прочел вслух «Савву», которого Горький не только расхвалил, но даже – что, впрочем, случалось с Буревестником частенько – восхитился, прослезился и забрал с собой рукопись пьесы о русском Антихристе, дабы «продавать театрам Америки». Как воды Женевского озера, их отношения были в ту пору спокойными и мирными… «Горький, кстати, третьего дня уехал с Марией Федоровной в Америку. Пробыл здесь, в нашем пансионе, две недели и был мил, как только может быть мил, когда захочет» [258]258
Вересаев.
[Закрыть], – отчитался Андреев Вересаеву вскоре после отъезда друга. Впрочем, друг Горький запомнил эту встречу несколько иначе, впоследствии он писал, что ему «показалось, что он (Андреев. – Н. С.)несколько поблек, потускнел, в глазах его остеклело выражение усталости и тревожной печали. О Швейцарии он говорил так же плоско, поверхностно и то же самое, что издавна привыкли говорить об этой стране свободолюбивые люди из Чухломы, Конотопа и Тетюш» [259]259
Горький.
[Закрыть]. Судя по письмам и воспоминаниям, не в восторге остался Максимушка и от «Саввы». Хотя… после разрыва с другом Леонидом тот на многое посмотрел иначе, его очерк об Андрееве полон язвительности, порою переходящей в ядовитый сарказм. Причины две: пришедшая вскоре к Андрееву невероятная слава – слава первого беллетриста и драматурга России и бунт Леонида против опеки «Большого Максима».
Конечно же одним из главных интересов Андреева за границей становится европейский театр. В глубине души понимая, что обе его первые пьесы грешат болтливостью и что, по меткому кугелевскому определению, сценам недостает действия, то есть «кризиса души и столкновения страстей» [260]260
Кугель. С. 151.
[Закрыть], наш начинающий драматург пытается сопоставить собственный опыт с немецкими образцами. Берлинский театр «нулевых» годов XX века был едва ли не более интересен, чем русский: работали там Макс Рейнхард и Отто Брам, именно в режиссуре последнего Андреев видел спектакль «Ткачи» по пьесе Герхарда Гауптмана в знаменитом «Лессинг-театре». «„Ткачи“ хороши до того, что можно на сцену полезть… <…> Дивные актеры; художественное, тонкое, осмысленное исполнение, – делится он с лучшим другом, пьесы которого уже несколько лет идут в Берлине. – Kleines theater, судя по тому, как играют „На дне“, – плохо. Говорят; при Рейнгарте играли „Дно“ лучше, но сейчас отвратительно <…> …весь художественно-философский смысл пьесы – утрачен» [261]261
Переписка. С. 262.
[Закрыть]. Действительно, как раз в 1905 году один из ярчайших режиссеров и реформаторов немецкой сцены Макс Рейнхард перешел из Kleines theater в Deutsches theater, и вполне возможно, что поставленный им в начале 1903 года по горьковскому «На дне» знаменитый спектакль «Ночлежка» несколько выдохся и потерял первоначальных исполнителей…
Андреев и сам вынашивает честолюбивые планы воплощения собственных пьес на берлинских подмостках: «Мою пиесу Шольц кончает (речь идет о переводе „К звездам“ на немецкий язык. – Н. С.).Kleines Theater уже заходил ко мне, но я уклоняюсь: очень хочется попасть в Lessing-T[heater], несомненно, здесь лучший!» Уверенности и оптимизма начинающему драматургу добавляет тот факт, что горячо им любимый МХТ вскоре должен приехать на гастроли в Берлин и вместе со знаменитыми спектаклями: «Царь Федор», «На дне», «Три сестры» – гастролеры планируют показать публике «К звездам» начинающего драматурга Леонида Андреева. Еще зимой он предоставил МХТ исключительное право на постановку «К звездам», но, увы, мечта увидеть собственное имя на афише МХТ рядом с Чеховым пока не осуществилась. Немирович-Данченко не успел «приготовить» к гастролям эту, запрещенную к постановке в России, пьесу. Интерес к драматургии Андреева активно проявляли и другие российские труппы и, кстати, петербургский театр В. Ф. Комиссаржевской, но… непреодолимый цензурный запрет привел к тому, что первая пьеса Андреева увидела свет рампы не на родине, а в Европе.
В октябре 1906 года в только что созданном Свободном народном театре Вены актер и режиссер Рихард Валлентин выпустил «К звездам», спектакль имел оглушительный успех у тамошней публики. Впрочем, о художественных достоинствах постановки известно немного, все российские рецензенты пересказывали отзывы немецких изданий, те же – наперебой твердили, что на премьере пьесы «искусство впервые встретилось с народом». «К звездам» – с неизменным аншлагом – выдержала 30 представлений, что по коммерческим меркам совсем неплохо. Конечно же венская демократическая публика с жадностью ловила слова рабочего Трейча в исполнении самого Рихарда Валлентина: «Надо идти вперед. Если встретится стена – ее надо разрушить. Если встретится гора – ее надо срыть. Если встретится пропасть – ее надо перелететь. Если нет крыльев – их надо сделать!» – и тут-то, задыхаясь от социального пафоса, переполненный зал всякий раз устраивал актеру овацию.
После венской премьеры Андреев снова полон радужных надежд относительно будущего своих драматических опусов: «„К звездам“ в Вене имели огромный успех – даже удивительно. И приятно то, что ставились они в народном с[оциал]-демократическом театре, и публика – рабочие – лезла на сцену и вообще впала в раж. И все газеты очень похвалили, даже буржуазные… „К звездам“ пойдет в Берлине и Гамбурге, а в будущем пойдет „Савва“ в Берлине и Вене» [262]262
Архив издательства «Знание».
[Закрыть]. Эти радужные прогнозы сбылись не в полной мере, успех пьесы «К звездам» оказался кратковременным, но настолько ярким, что умиравший в 1908 году Рихард Валлентин просил вместо псалмов читать над его могилой монолог астронома Терновского.
Что ж… Если бы первой русской революции не было вовсе, ее, ей-богу, стоило бы придумать! Да и не соорудил ли ее, эту русскую революцию тот, кто, затаившись в углу, держал в руке горящую – и уже таким ярким пламенем – свечу? Если так, то Некто в сером постарался на славу: Андреев-драматург появился на свет в эпоху революционных потрясений и его первые – любопытные, но еще несовершенные опыты театрального письма стали громкими событиями именно в силу своей революционности. «Все связывали Леонида Андреева с „Мыслью“, с „Василием Фивейским“, – вспоминал Евгений Замятин, – но Леонид Андреев и революция… это был совсем новый андреевский лик…» [263]263
Замятин Е. И.Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1990. С. 267.
[Закрыть]«Новый андреевский лик», как и цензурное запрещение его первых драм на родине сделали славу Андреева не просто грандиозной, публика стала относиться к писателю истерически-восторженно, в общественном мнении его фигура прочно связалась с тем, что Александр Рафаилович Кугель спустя годы с иронией назовет «профетизмом»: «Это значит, что надо сказать вещее слово … необходимо сказать… Не просто сказать… а как-то особенно, так чтобы хор там какой-нибудь, как в древнегреческой трагедии, проскандировал:
– Смотрите, вот Леонид Андреев разомкнул уста и сейчас на небе будет затмение» [264]264
Кугель. С. 148.
[Закрыть].
Именно таким впервые увидел Андреева будущий автор романа «Мы» Евгений Замятин на митинге в Гельсингфорсе в начале июля 1906 года. Протестное собрание революционно настроенной интеллигенции, рабочих, матросов было назначено в связи с роспуском в России Первой Государственной думы. Именно в это время Андреевы нанимали дачу в шхерах под Гельсингфорсом, короче говоря, случилось так, что организаторам митинга в парке Кайсаниэмэ посчастливилось «заполучить» Андреева в качестве оратора. Выступал он сразу вслед за одним из депутатов разогнанной Думы. Стоявший рядом Замятин заметил, что «он сосредоточенно рассеян, покусывает усы и видимо волнуется. Потом он выступает:
– Падают, как капли, секунды. И с каждой секундой – голова в короне приближается к плахе. Через день, через три дня, через неделю – капнет последняя и, громыхая, покатится по ступеням корона и за ней – голова…»
Такая, согласимся, несколько наивная и крайне искусственная речь ничуть не смутила слушателей: «Помню одно: тогда это казалось очень значительным, заражало. После каждых двух-трех фраз Андреев останавливался, переводчик, подражая в интонациях Андрееву, переводил его речь по-фински. И это торжественное, медленное, медленное чередование медленных слов напоминало пасхальную обедню: священник и дьякон читают Евангелие стих за стихом, один по-гречески, другой – по-славянски…
Кончил. Долгая овация. Жадной, тесной кучкой осадили его внизу, у эстрады» [265]265
Замятин Е. И.Избранные произведения. Т. 2. Цит. изд. С. 268.
[Закрыть].
Маску «писателя-революционера», впрочем, пришлось немедленно снять: Андрееву совершенно не хотелось разделить судьбу своего героя Дмитрия Терновского: «Этот красногвардейский митинг, на к[отор]ом я действительно закатил сногсшибательную речь, сделал меня для местного населения притчей во языцех, и несомненно, что хозяева, напр[имер], нашей дачи, сгорали от желания предать меня в руки правосудия. И если я стал у финнов бельмом на глазу, то и во мне „прекрасная Финляндия“ вызывала постоянную и энергичную тошноту…» [266]266
Архив издательства «Знание».
[Закрыть]Увы, лето 1906 года и, как оказалось впоследствии, – последнее лето семейного счастья Леонида Николаевича с Шурочкой и Диди – вышло скомканным. Они решили провести его в Финляндии по нескольким причинам: во-первых, и Андреев, и уж тем более – его жена соскучились по родным, и во-вторых, Финская губерния Российской империи была, казалось бы, самым удобным местом для встречи. Нанятая огромная дача – Villa Holm– оказалась не очень-то удобной: от Гельсингфорса – два часа езды на катере до местечка Фрисанс, а оттуда до самого дома еще полчаса пешком. А родные так и не собрались – брат Андрей в Москве заболел дифтеритом, к счастью, вскоре поправившись, Шурочка же сама поехала в Москву – повидать мать, братьев и сестру, да и, кроме того, Андреевы решали вопрос, где провести следующий сезон: через несколько месяцев Александра Михайловна должна была произвести на свет «нового Андреева». Они подумывали о возвращении в Москву, чтобы роды, как и в прошлый раз, принимала старшая сестра – Елизавета Доброва, однако выступление писателя на митинге в Гельсингфорсе существенно изменило планы. И более того, это выступление вынудило Андреева, бросив семейство, 23 июля бежать «на Запад».
Дело в том, что на острове Свеаборг, где находилась база Балтийского флота, произошло восстание матросов и части присоединившихся позже рабочих, решительно подавленное военными. Этот финский «Броненосец Потемкин» спровоцировал в Гельсингфорсе целый ряд арестов. Шурочка, да и все вокруг полагали, что Андреев «вовремя убрался» из Финляндии, где вполне вероятно угодил бы в тюрьму. Да и сам писатель беспокоился: «…неизвестно, посадили бы мою персону в узилище или нет, скорее даже не посадили бы, – но во всяком случае, держали бы ее в постоянном напряжении» [267]267
Там же.
[Закрыть]. Путешествуя по Швеции и Норвегии, беглец ожидал, пока беременная Шурочка и трехлетний Диди, собрав пожитки, морем доберутся до Стокгольма.
«Итак – мы в Берлине, – сообщает Андреев Пятницкому в начале октября. – Это совсем не хорошо, но, во всяком случае, неизмеримо лучше, чем в Гельсингфорсе. Первое – Шура, для которой удобнее здесь производить на свет нового Андреева, чем в милом, но бестолковом Гельсинки. И в случае каких-нибудь осложнений здесь скорее найдется надлежащая помощь врачей, и знаменитых здесь достаточно». Увы, злокозненная судьба очень скоро напомнит ему, что все человеческие расчеты – тщетны: немецкая медицина так и не смогла спасти Шурочку.
На этот раз Андреевы поселились в Грюневальде – название этому району Берлина дал огромный лесной массив, излюбленное место отдыха местных жителей во все времена. «Я не хочу бранить прекрасный город, который делает все, чтобы притвориться немного лесом, немного садом. Я видел внутри его огромный тенистый парк, в котором на озерцах плавают даже в лодках; и эти газоны, и эти бульвары, и цветники…» – в посвященном уже мертвой Александре Михайловне рассказе «Проклятие зверя», где в некой сновидческой форме отражаются блуждания Его и Ее в огромном – как сказали бы теперь – мегаполисе, роль грюневальдского леса огромна: именно там герой и его Возлюбленная объясняются друг другу в любви, а их подслушивает некий господин с тростью.
«Самый Грюневальд – очень хороший лес, занимающий огромную площадь в несколько десятков верст, с огромным озером-рекою; на опушке весь лес покрыт, как снегом, бумажками от бутербродов, но в глубине тихо и пустынно и совсем хорошо. По воскресеньям и праздникам весь день берлинцы одним сплошным потоком приливают сюда – точно великое переселение народов, но в будни народу мало, а осенью и совсем убавится» – всегда придавая важность пространственному фактору, Андреев был особенно внимателен к жилищу, где Шурочка должна вскоре произвести на свет нового члена семейства: «…занимаем здесь очень хорошую, в 6 комнат, квартиру. Место опять-таки великолепное: вместо улиц – аллеи и вдоль их очень красивые виллы – особняки, летние дачи для берлинских богачей».
Несмотря на постоянные недомогания, общее состояние будущей роженицы ни у кого не вызывало особых тревог, положение плода врачи находили вполне обычным, после всех летних приключений и внезапных разлук Андреевы вдруг почувствовали желанный комфорт и покой: «Наша вилла – Villa Clara – принадлежит бургомистру, и мы занимаем его квартиру. Обстановка очень хорошая, богатая, чистая и красивая; садик – и стоит относительно недорого: 300 марок в месяц. Тут и посуда, и кухня, и все. С приращением семейства будет несколько тесновато, но ничего не поделаешь. Зато – тишина, безлюдье, воздух, будем сидеть точно на пустынном острову. И работать!» [268]268
Архив издательства «Знание».
[Закрыть]
Работал же Андреев над пьесой, которая в будущем сделает его имя нарицательным, принесет славу первого драматурга России, будет зачитана до дыр, поставлена двумя лучшими режиссерами и, триумфально войдя в историю театра, будет забыта им на целых 100 лет, чтобы воскреснуть вновь уже в XXI веке. В 1907 году Андреев сделал на рукописи «Жизни человека» следующую надпись: «Эту рукопись я завещаю после моей смерти Вадиму. Эта последняя, над работой в которой принимала участие его мать. В Берлине, по ночам… когда ты спал, я будил, окончив работу, мать, читал ей, и вместе обсуждали. По ее настоянию и при ее непосредственной помощи я столько раз переделывал „Бал“. Когда ночью, ей сонной я читал молитвы отца и матери, она так плакала, что мне стало больно…» [269]269
Детство. С.13
[Закрыть]Пьеса была закончена как раз перед родами Шурочки, Андреев отправил ее экземпляры Немировичу-Данченко, Комиссаржевской, Горькому и Телешову, последнему – с просьбой прочесть на одной из московских «Сред»: «…вещь по форме новая, – опыт в некотором роде нового строительства пьесы. Поэтому, я очень прошу тебя, сообщи, как отзовется „Среда“. Ее советы и мнения всегда были мне важны, а в новом деле, в котором я еще сам иду ощупью, – наипаче. И прошу тебя особенно: да не узнают репортеры про „Жизнь человека“. Предупреди товарищей, чтобы никому не передавали содержания, а рукопись храни у себя и выдавай только под расписку» [270]270
Телешов.
[Закрыть]. Так, отпустив свое новое детище в мир, Андреев совершенно погрузился в семейные заботы.
Второе «детище» не заставило себя ждать: мальчик весом девять фунтов или – по нынешним меркам – около трех с половиной килограммов родился под вечер 20 октября. Александра Михайловна родила на удивление быстро, внешний вид младенца, его голос и поведение необычайно радовали уже «опытного» отца. Описывая родным и друзьям «большие как у франта» ногти младенца, его не жалобный и писклявый, но сердитый и громкий плач, «понимающие» глаза, Андреев не мог скрыть гордости и ликования: «А младенец хороший. Заграничная, брат, работа, это не то, что где-нибудь в Чухломе, или Хамовниках. Как бы еще пошлину не заплатить при выезде» [271]271
Цит. по: «Жизнь…». С. 175.
[Закрыть]. «Произведенный» и рожденный в Европе, Даниил Андреев всю свою не слишком длинную жизнь проведет именно в Хамовниках и Чухломе, если понимать эти географические зоны обобщенно, однако «заграничная работа» самым непосредственным образом скажется на его судьбе. А судьба – отчаянно похожая на Пандору, поджидала мальчика буквально от самого начала его удивительного жизненного пути: свой месячный день рождения он встретит уже сиротой.
Болезнь, отобравшая жену у Андреева и мать у Вадима и Даниила, была того самого свойства, что та, что едва не унесла жизнь Анны Карениной – родовая горячка или, как теперь принято говорить, послеродовой сепсис. В начале XX века медики уже имели представление об инфекционной природе этого заболевания, когда занесенные при родовспоможении микробы проникают в кровь, у больной развивается «гнилокровие», чаще всего приводящее к летальному исходу, но тем не менее только с открытием антибиотиков появились реальные методы эффективной борьбы. А в прежние времена все зависело от самого больного – женщинам лишь давали немного коньяка, чтобы поддержать силы, да клали на голову лед, чтобы облегчить жар; и вот – сильная и полнотелая Анна поборола недуг, субтильная и болезненная Шурочка – оказалась побеждена. Смерть ее не была внезапной: в течение двух недель надежда то теплилась, то исчезала совсем. «… на четвертый день явилась было у врачей надежда, но не успели обрадоваться – как снова жесткий озноб и температура 41,2. Три дня держалась только ежечасными впрыскиваниями кофеина, сердце отказывалось работать, а вчера доктора сказали, что надежды в сущности нет и нужно быть готовым. А сегодня утром неожиданно хороший пульс и так весь день и снова надежда… Но к вечеру температура поднялась и начались сильные боли в боку, от которых она кричит» [272]272
Переписка. С. 283.
[Закрыть], – с каким-то холодным отчаянием описывал Андреев все стадии болезни жены. За эти дни Леонид Николаевич, вероятно, не один раз обдумывал абсурдность ситуации, в которой вдруг очутился. Буквально ту же сцену, героем которой теперь был он сам, молясь и тщетно взывая к Богу за дверью ее спальни, сцену, в полной мере выражающую «насмешку Неба над землей», он сочинил всего месяц назад и читал Александре Михайловне, и она плакала, слушая, и ему было больно и радостно от ее слез. Четвертая картина «Жизни человека» представляла несчастье главного героя: у Человека умирал сын и Человек – сначала молился, а затем проклинал того, кто прятался в углу, держа в руках свечу его жизни: «Только одно я понимаю, только одно могу я сказать, только одно: Боже, оставь жизнь моему сыну. Нет у меня других слов, все темно вокруг меня, все падает, я ничего не понимаю, и такой ужас у меня в душе, Господи, что только одно могу я сказать: Боже, оставь жизнь моему сыну!.. Быть может, когда-нибудь я оскорбил тебя, так ты прости меня, прости. Правда, я был дерзок, заносчив, требовал, а не просил, часто осуждал. Ты прости меня. А если хочешь, если такая твоя воля, накажи, – но только сына моего оставь». И глядя на Шурочку, и говоря с ней, он вдруг отыскал реплику Человека для финала пьесы: «Где мой оруженосец? Где мой меч? Где мой щит? Я обезоружен. Будь проклят». «И я помню, навсегда, – запишет Андреев, – ее глаза, как она на меня смотрела. И почему-то была бледна».
Теперь, когда он сам терял «верного оруженосца», сочиненные слова казались картонными, грубыми, неточными, ненаполненными живым человеческим отчаянием, но в том-то и сила придуманного слова, что его невозможно поверить повседневной реальностью, какой бы трагической она ни была. Трехлетний брак с Шурочкой, вероятно, представлялся вечностью – так много было пережито вместе, так органичны и просты были отношения с этой женщиной, те отношения, что еще недавно представляли для Андреева неразрешимую задачу. Тут нечего было придумывать, не с чем бороться, не с чего рыдать и пить запоем, недаром Александра Михайловна не стала прототипом ни для одной из андреевских героинь. В том-то и штука, что она не былаего героиней. Их переписка летом 1906 года также не дает ответа на вопрос, что же такое был их брак. Первый беллетрист России, обращаясь к жене, как будто переставал быть литератором, он, ничуть не стесняясь пошловатости сочетаний, называл Александру Михайловну то «птичка моя», то «цветочек мой» и даже – «милая моя девочка», он считал ее «единственным домом и единственной родиной», он признавался, что «дохнет от тоски», словно мальчишка-гимназист сообщал: «…я влюблен в тебя, Шурочка!» И в то же время он никогда не упоминал о своей любви к жене в письмах друзьям, лишь только: «Шурка кланяется», «здоровье Шуры нормальное», «Шура уехала нанимать дачу», «мы с Шурой решили». Но та атмосфера полного и безусловного согласия, тот юмор, что оба они проявляли, будто соревнуясь, тот интеллектуальный потенциал, что, вне сомнения, в полной мере открылся у Шурочки за годы их любви, то относительное спокойствие, что снизошло на Андреева со дня женитьбы – делали их брак не просто счастливым, это были годы ежедневной радости оттого, что они – вдвоем.
Шурочка понимала, что умирает, понимала она и то, чем ее смерть может обернуться для мужа. Она велела ему жить дальше, и даже больше: выражая предсмертную волю, она приказала ему жить и писать. И она очень хорошо знала, о чем говорит, знала своего мужа, который даже спустя полгода после ее ухода все еще решал для себя вопрос, «переживу я смерть Шуры или нет, – конечно, не в смысле самоубийства, а глубже. Есть связи, которых нельзя уничтожить без непоправимого ущерба для души» [273]273
Вересаев.
[Закрыть]. Беспокоило Шурочку и то, что с ее смертью исчезнет тот «винт», которого так не хватало Андрееву до свадьбы, она обдумала и этот вопрос, наказав своей матери через некоторое время передать Леониду ее последнюю волю: чтобы он женился опять, но оберегал их детей от возможных обид в новой семье. Сделав для него всё, что еще могла сделать, Шурочка умерла. Это случилось утром 15 ноября, когда в Грюневальде еще стояла золотая осень. Пробыв некоторое время у ее тела, Леонид Николаевич не проронил ни слова, так же молча он вышел из комнаты. И не поехал на похороны.
«У странных писателей часто бывают странные сыновья, у них обычно нет зоологически цепкого дара отца, но на мир они смотрят шире, умнее и терпимее, и обычно у них у всех страшные судьбы, переломанные, как кухонная мебель в неблагополучной семье… И самое страшное – они выпадают из своего времени и своей судьбы» [274]274
Смирнов А.Вокруг «Розы мира» // Зеркало. 2007. № 29–30. С. 36.
[Закрыть]– младенцу, которого увозила с собой в Москву безутешная, но, как всегда, деловитая и решительная мать Шурочки Ефросинья Варфоломеевна – суждено будет стать одной из самых интересных фигур в истории русского богоискательства. Даниил Андреев – как считают многие – проложил свой путь из метафизической тьмы, которую навел и среди которой блуждал его отец, – к свету. Сохраняется стойкий миф о том, что Даниил был проклят отцом как виновник смерти матери, эта версия конечно же не выдерживает критики и, более того, представляет Леонида Николаевича человеком недалеким. Доподлинно известно, что в смерти Шуры винил он немецких врачей, но, как мы знаем теперь, винил-то совершенно напрасно. Прямым виновником смерти была судьба: причудливая, изобретательно жестокая, беспощадная. Жесткий характер андреевской судьбы с лихвой унаследовал и Даниил – верный сын своего отца.
Бусенька увезла Даниила в Москву, куда отправили и тело Шурочки, вдовец пожелал, чтобы ее схоронили на Новодевичьем, рядом с могилой его сестры – Зинаиды. Ефросинья Варфоломеевна никогда уже не отдаст ребенка отцу, а новым отцом Даниилу станет уже знакомый нам доктор Добров, матерью – его жена, сестра Шурочки и когда-то – возлюбленная Андреева – Елизавета Михайловна. Судьба Даниила – лакомый предмет для биографа: тут есть и ранняя попытка самоубийства: впечатлительный малыш рос в православной, воцерковленной семье и ему говорили, что его мама на небесах. И вот однажды шестилетний Даня тяжело заболел дифтеритом, от него болезнь перешла ухаживающей за ребенком Бусеньке и та умерла. Мальчику сказали, что его бабушка соединилась на небесах с его мамой. Обдумав ситуацию, маленький Даня решил утопиться, чтобы встретиться с мамой и бабушкой, его случайно спасли в тот момент, когда он уже был готов прыгнуть в речку с моста.
Очень рано мальчик начал писать стихи, потом и прозу. После октябрьского переворота Добровы, увы, остались в Москве, юность Даниила пришлась на советские годы, однако новые времена не только не поколебали веры мальчика в Бога, но и закалили юношу, он тесно общался с прячущимися в катакомбах православными сектантами и сам был членом одного из братств – Непоминающей антисергианской церкви.
Ранняя юность, пятнадцать лет,
Лето московское, тишь, прохлада,
В душу стремится нездешний свет
Первопрестольного града…
Бросив Высшие литературные курсы, Даниил Андреев навсегда отказался от всякой репрезентативности; занимая скромную должность художника-шрифтовика, он превратился в «катакомбного человека»: работал над антисоветским по содержанию романом «Странники ночи», где размышлял над судьбами своего поколения в бурные для России годы. Даниил и вправду был очень странным, он как будто оказался невидим для эпохи, в которой жил, и она – эпоха – так и не смогла оставить на нем ни малейшего отпечатка. Дважды был женат, и оба брака казались современникам и потомкам чрезвычайно загадочными, в годы войны его призвали на самый страшный – Ленинградский фронт, где в похоронной бригаде он читал упокойные псалмы над телами убитых коммунистов… Неоднократно он чудом избегал смерти, в том числе и в тот раз, когда будучи арестован в 1947 году по обвинению в создании антисоветской группы и подготовке покушения на Сталина, он не был расстрелян, поскольку приговор ему выносился в тот коротенький промежуток, когда в СССР отменили смертную казнь.








