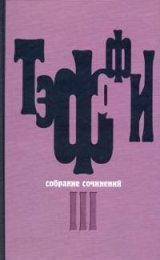
Текст книги "Том 3. Все о любви. Городок. Рысь"
Автор книги: Надежда Тэффи
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
Психологический факт
Мне кажется, что я – конченый человек.
Я уверен, что ничто мне не поможет, никакие капли, ни даже кратковременный отпуск и поездка на юг.
Я соскочил с зарубки. Я четыре дня пью, а ведь я непьющий. Я, положим, держу себя как джентльмен и даже не скандалю, но недалеко и до этого.
И как все это случилось, и почему? Я словно потерял себя.
Что же я за человек?
Вот брошу сам на себя посторонний взгляд.
Нормальный я? Конечно, нормальный. Даже более чем нормальный. Я даже чересчур хорошо владел собою. Если случалось, что меня оскорбят, я не только не скандалил, но даже, как чистейший джентльмен, в ответ только улыбался.
Я добр. Я, например, дал Пенину пятнадцать франков, зная, что тот не отдаст, и даже не попрекаю его.
Я не завистлив. Если кто-нибудь счастлив, – черт с ним, пусть счастлив, мне наплевать.
Я люблю чтение. Я развитой: я достал «Ниву» за тысяча восемьсот девяносто второй год и читал ее с увлечением.
Внешность у меня приятная. Лицо полное, спокойное.
Имею службу.
Словом, я – человек.
Что же со мной случилось? Почему мне хочется петь петухом, глушить водку? Конечно, это пройдет. И что же, собственно, случилось? Ведь этого даже рассказать никому нельзя. Это такая психология, от которой меня четыре дня трясет, а как подумаешь, особенно если начнешь рассказывать, то не получается ровно никакой трагедии. Так отчего же я пришел в такое вот состояние? Откуда такой психологический факт?
Теперь спокойно поговорим о ней. Именно спокойно. И тоже бросим на нее взгляд постороннего человека.
На взгляд постороннего человека, она прежде всего ужасно высока ростом. Как у нас на Руси говорилось, «на таких коров вешать». Изречение народной мудрости, хотя где бывал такой случай, чтобы коров надо было вешать? Когда их вешают? Но довольно. Не хочется тратить время на тяжелые и сумбурные размышления.
Итак, она высока и нескладна. Руки болтаются. Ноги разъезжаются. Удивительные ноги – чем выше, тем тоньше.
Она никогда не смеется. Странное дело, но этот факт я установил только теперь, к финалу нашего бытия, а прежде не то что не замечал (как этого не заметишь?), а как бы не понимал.
Затем нужно отметить, что она некрасива. Не то что на чей вкус. На всякий вкус. И лицо обиженное, недовольное.
А главное дело – она дура. Тут уж не поспоришь. Тут все явно и определенно.
И представьте себе – ведь и это открылось мне не сразу. Уж, кажется, бьет в глаза – а вот почему-то не поддалось мгновенному определению, и баста. Может быть, оттого, что, не предвидя дальнейшего, не останавливался мыслью на ее личности.
Теперь приступим к повествованию.
Познакомился я с ней у Ефимовых (от них всегда шли на меня всякие пакости). Она пришла и сразу спросила, который час. Ей ответили, что десять. Тогда она сказала:
– Ну, так я у вас могу просидеть ровно полчаса, потому что мне ровно в половине девятого нужно быть в одном месте.
На это Ефимов, засмеявшись, сказал, что уж торопиться нечего, все равно половина девятого прошла уже полтора часа тому назад.
Тогда она обиженным тоном сказала, что будет большая разница, опоздает ли она на два часа или на три.
А Ефимов опять посмеивается.
– Значит, – говорит, – по-вашему выходит, что, например, к поезду опоздать на пять минут гораздо удобнее, чем на полчаса.
Она даже удивилась.
– Ну конечно.
Я тогда еще не знал, что она дура, и думал, что это она шутит.
Потом вышло так, что мне пришлось проводить ее домой.
По дороге выяснилось, что зовут ее Раиса Константиновна, что муж у нее шофер, а сама она служит в ресторане.
– Семейная жизнь у меня идеальная, – говорила она. – Муж у меня ночной шофер. Я прихожу – его уже нет, а когда он возвращается, меня уже нет. Никогда никаких ссор. Душа в душу.
Я думал, она острит. Нет, лицо серьезное. Говорит, как думает.
Чтобы что-нибудь сказать, спросил, любит ли она синема. А она в ответ:
– Хорошо. Зайдите, пожалуй, за мной в четверг.
Ну что мне делать? Не могу же я ей сказать, что я ее не звал. Невежливо. Ну и зашел. С этого и началось.
Ведь какие странные дела бывают на свете! Веду ее, поддерживаю под ручку.
– Вы, – говорю, – такая очаровательная.
Но ведь надо же что-нибудь говорить. А она в ответ:
– Я об этом давно догадалась.
– О чем? – удивляюсь я.
– О том, что ты меня любишь.
Так и брякнула. Я даже остановился.
– Кто? – говорю. – То есть кого? – говорю. – Одним словом, что?
А она эдак свысока:
– Не надо так волноваться. Не вы первый, не вы последний, и любовь вообще вполне естественное явление.
Я глаза выпучил, молчу. И, заметьте, все еще не понимаю, что она дура.
А она между тем развивает дальше свою мысль, и развивает ее в самом неожиданном уклоне, но чрезвычайно серьезно:
– Мы, – говорит, – мужу ничего не скажем. Может быть, потом, когда твое роковое чувство примет определенную форму. Согласись, что это важно.
Я ухватился обеими руками:
– Вот, вот. Ни за что не надо говорить,
– А я буду для тебя недосягаемой мечтой. Я буду чинить твое белье, читать с тобой стихи. Ты любишь творожники? Я тебе когда-нибудь приготовлю творожники. Наша близость должна быть как сон золотой.
А я все:
– Вот именно, вот именно.
И, откровенно говоря, эта ее идея насчет штопки мне даже, так сказать, сверкнула своей улыбкой. Я – человек одинокий, безалаберный, а такая дамочка, которая сразу проявила женскую заботливость, это в наше время большая редкость. Конечно, она несколько экзальтированно поняла мой комплимент, но раз это вызвало такие замечательные результаты, как приведение в порядок моего гардероба, то можно только радоваться и благодарить судьбу. Конечно, она мне не нравится, но (опять-таки народная мудрость!) – с лица не воду пить, а с фигуры и подавно.
Я ей на прощанье обе ручки поцеловал. И потом, ночью, обдумав все это приключение, даже сам себе улыбнулся. В моей одинокой жизни можно только приветствовать появление такой чудесной женщины. Вспомнил и о творожниках. И это ведь недурно. Очень даже недурно.
Решил, значит, что все недурно, и успокоился. А на другой день прихожу со службы, открываю дверь – а она сидит у меня в номере и сухари принесла.
– Я, – говорит, – обдумала и решилась. Говори мне «ты».
– Помилуйте! Да я недостоин.
– Я, – говорит, – разрешаю.
Вот черт! Да мне вовсе не хочется. Я и уперся.
– Недостоин, и баста.
А она все говорит и говорит. И на самые различные темы. И все такие странные веши.
– Я, – говорит, – знаю, что ты страдаешь. Но страдания – облагораживают. И смотри на меня как на высшее существо, на твой недосягаемый идеал. Не надо грубых страстей, мы не каннибалы. Поэт сказал: «Только утро любви хорошо». Вот я принесла сухари. Конечно, у них нет таких сухарей, как у нас, чуевские. У них дрянь. Они даже не понимают. Знаешь, я в тебе больше всего ценю, что ты русский. Французы ведь совершенно не способны на возвышенное чувство. Француз, если женится, так только на два года, а потом измена и развод.
– Ну что вы! С чего вы это взяли? Да я сам знаю много почтенных супругов среди французов.
– Ну, это исключение. Если не разошлись, значит, просто им нравится вместе деньги копить. Разве у них есть какие-нибудь запросы? Все у них ненатуральное. Цветы не натуральные, огурцы с полено величиной, а укропу и совсем не понимают. А вино! Да вы у них натурального вина ни за какие деньги не достанете. Все подделка.
– Да что вы говорите! – завопил я. – Да Франция на весь мир славится вином! Да во Франции лучшее вино в мире!
– Ах, какой вы наивный! Это все подделка.
– Да с чего вы взяли?
– Мне один человек все это объяснил.
– Француз?
– Ничего не француз. Русский.
– Откуда же он знает?
– Да уж знает.
– Что же он, служит у виноделов, что ли?
– Ничего не у виноделов. Живет у нас на Вожираре.
– Так как же он может судить?
– А почему же не судить? Четыре года в Париже. Наблюдает. Не всем так легко глаза отвести, как, например, вам.
Тут я почувствовал, что меня трясти начинает.
Однако сдерживаюсь и говорю самым светским тоном:
– Да он просто болван, этот ваш русский.
– Что ж, если вам приятно унижать свою кровь…
– Его и унижать не надо. Болван он.
– Ну что ж – целуйтесь с вашими французами. Вам, может быть, и говядина ихняя нравится. А где у них филей? Где огузок? Разве у них наша говядина? Да у ихних быков даже и частей таких нет, как у наших. У нас были черкасские быки. А они о черкасском мясе и понятия не имеют.
Не знаю, в чем тут дело, но меня это почему-то ужасно рассердило. Я не француз, и обижаться мне нечего, а тем более за говядину, но как-то расстроило это меня чрезвычайно.
– Простите, – говорю, – Раиса Константиновна, но я так выражаться о стране, приютившей нас, не позволю. Я считаю, что это с вашей стороны некрасиво и даже неблагодарно.
А она свое:
– Заступайтесь, заступайтесь! Может быть, вам даже нравится, что у них сметаны нет? Не стесняйтесь, пожалуйста, говорите прямо. Нравится? Вы готовы преклоняться? Вы рады топтать Россию.
И такая она стала омерзительная, длинная, рот перекошенный, лицо бледное.
– Топчите, топчите Россию!
И что тут со мной произошло – сам не знаю. Только схватил я ее за плечи и заорал козлиным голосом:
– Пошла вон, ду-ура!
Я так орал, что соседи в стенку стукнули. Всего меня трясло.
Она еще на лестнице визжала что-то про Россию. Я не слушал. Я топтал ногами ее сухари. И хорошо сделал, потому что, если бы выбежал за ней, я бы ее прикончил. Потому что во мне в этот миг сидел убийца.
Я был на волосок от гильотины. Потому что как объяснишь французским присяжным русскую дуру?
Этого они понять не смогут. Вот этого французы действительно не могут.
Это им не дано.
Джентльмен
В этот замечательный день они встретились совершенно случайно на пересадке в метро Трокадеро. Она пересаживалась на Пасси, а он, как говорится, «брал дирексьон [5]5
от фр. prendre la direction – направляться (дословно брать направление)
[Закрыть]на Сен-Клу». И как раз в коридоре, у откидного железного барьерчика, бьющего зазевавшихся по животу, они и встретились.
От неожиданности она уронила сумку, а он крикнул: «Варя!» и, сам испугавшись своего крика, схватился обеими руками за голову. Потом они кинулись друг к другу.
Она (чтобы было ясно, почему он так взволновался) была очень миленькая, курносенькая и смотрела на мир Божий веселыми, слегка припухшими глазками через белокурые колечки волос, наползавшие на брови. И одета была кокетливо, старательно, вся обшитая какими-то гребешками и петушками.
Он (чтобы было понятно, почему она уронила сумку) был высокий элегантный господин с пробором, начинающимся от самой переносицы. Так что даже под шляпу этот исток пробора спрятать было трудно. Галстучек, пошетка, носочки – все в тон. Немножко портило дело выражение лица – оно было какое-то не то растерянное, не то испуганное. Впрочем, это уж пустяки и мелочи.
Итак, они кинулись и схватили друг друга за руки.
– Значит, вы рады, что встретили меня? – залепетала дама. – Правда? Правда рады?
– Безумно! Безумно! Я… я люблю вас! – воскликнул он и снова схватился за голову. – Боже мой, что я делаю! Ради Бога, простите меня! Неожиданная встреча… я потерял голову! Я никогда бы не посмел! Забудьте! Простите! Варвара Петровна!
– Нет, нет! Вы же назвали меня Варей! Зовите меня всегда Варей… Я люблю вас.
– О-о-о! – застонал он. – Вы любите меня? Значит, мы погибли.
От волнения он шепелявил. Он снял шляпу и вытер лоб.
– Все погибло! – продолжал он. – Теперь мы больше не должны встречаться.
– Но почему же? – удивилась Варя.
– Я джентльмен, и я должен заботиться о вашей репутации и о вашей безопасности. Вдруг ваш муж что-нибудь заметит? Вдруг он оскорбит вас подозрением? Что же мне тогда – пулю в лоб? Как все это ужасно!
– Подождите, – сказала Варя. – Сядем на скамейку и потолкуем.
Он пошел за ней с жестами безграничного отчаяния и сел рядом.
– А если нас здесь увидят?
– Ну, что за беда! – удивилась Варя. – Я вот вчера встретила на Пастере Лукина, и мы с ним полтора часа проболтали. Кому какое дело.
– Так-то так! – трагически согласился он. – Но вы забываете, что ни он в вас, ни вы в него не влюблены. Тогда как мы… Ведь вся тайна наших отношений всплывает наружу. Ведь что же тогда – пулю в лоб!
– Ах, что за пустяки! Василий Дмитрич! Голубчик! Мы только время теряем на ерунду. Скажите еще раз, что вы любите меня. Когда вы полюбили меня?
Он оглянулся по сторонам.
– В четверг. В четверг полюбил. Месяц тому назад, на обеде у мадам Компот. Вы протянули руку за булкой, и это меня словно кольнуло. Я так взволновался, что схватил солонку и насыпал себе соли в вино. Все ахнули: «Что вы делаете?» А я не растерялся. Это я, говорю, всегда так пью. Ловко вывернулся? Но зато теперь, если где-нибудь у общих знакомых обедаю или завтракаю, всегда приходится сыпать соль в вино. Нельзя иначе. Могут догадаться.
– Какой вы удивительный! – ахала Варя. – Вася, милый!
– Подождите! – перебил ее Вася. – Как вы называете вашего мужа?
– Как? Мишей, конечно.
– Ну так вот, я вас очень попрошу: зовите меня тоже Мишей. Так вы никогда не проговоритесь. Столько несчастий бывает именно из-за имени. Представьте себе – муж вас целует, а вы в это время мечтаете обо мне. Конечно, невольно вы шепчете мое имя. «Вася, Вася, еще!» Или что-нибудь в этом роде. А он и стоп: «Что за Вася? Почему Вася? Кто из наших знакомых Вася? Ага! Куриков! Давно подозревал!» – и пошло, и пошло. И что же нам делать – пулю в лоб? А если вы привыкнете звать меня Мишей (ведь я же и в самом деле мог бы быть Мишей – все зависит от фантазии родителей), привыкнете звать Мишей, вам и черт не брат. Он вас целует, а вы мечтаете обо мне и шепчете про меня – понимаете – про меня: «Миша, Миша». А тот дурак радуется и спокоен. Или, например, во сне. Во сне я всегда могу вам присниться, и вы можете пролепетать мое имя. А муж тут как тут. Проснулся, чтоб взглянуть на часы, да и слушает, да и слушает. «Вася? Что за Вася?» Ну и пошло. Я джентльмен. Я что же – я должен себе пулю в лоб?
– Как у вас все серьезно! – недовольно пробормотала Варя. – Почему же у других этого не бывает? Все влюбленные зовут друг друга по именам, и никаких бед от этого не бывает, наоборот– одно удовольствие.
– Боже мой, как вы неопытны. Да половина разводов основывается на этих Васеньках и Петеньках. Зачем? К чему? Раз этого так легко избежать.
– А вы не боитесь проговориться? Ведь назвали же вы меня сегодня Варей, вдруг и опять назовете?
– Нет, уж теперь не назову. Это случилось потому, что наши отношения были неясны и нам самим неизвестны. А теперь, когда я как джентльмен должен быть начеку и думать о вас, только о вас, дорогая (простите, что я вас называю дорогой, это тоже глупая неосторожность), теперь я вас не подведу.
– А как же вы меня будете называть? Это любопытно. Вы ведь не женаты. Ну-с?
– Гм… Я живу один, то есть с мамашей. Я мог бы называть вас мамашей, понимаете? Привычка, человек живет с мамашей, ну ясно, что и обмолвится. Понимаете? Я ничем не рискую, если в разговоре с вами назову вас «мамаша, дорогая». Если кто услышит, подумает: «Вот, вспомнил человек свою маму», – и все будет вполне естественно.
– Ну, это, знаете ли, прямо уж черт знает что такое! Какая я вам мама! Вы меня еще бабусей величать начнете. Глупо и грубо.
– Ах, дорогая, то есть Варвара Петровна. Ведь это же я исключительно из джентльменства.
– Вы будете завтра на юбилее доктора Фогельблата? Знаете, я по секрету попросила распорядителя посадить нас рядом. Муж будет сидеть с комитетом, а мы поболтаем. Я ужасно рада, что догадал…
– Что вы наделали! – воскликнул Вася. – Теперь мне уж абсолютно нельзя будет пойти на банкет. Конечно, если бы у нас были прежние, чисто дружеские отношения, это было бы даже очень мило. Но теперь – это немыслимо. Какая обида! Деньги я уже внес, а пойти не могу. Разве вот что: позвоню-ка я сам к распорядителю и, будто ничего не знаю, попрошу его посадить меня непременно, скажем, с докторшей Сициной. А? Идея?
– А если он скажет, что я просила посадить вас со мной?
– Гм… А я притворюсь, что даже забыл, кто вы такая. Это, скажу, какая такая Варвара Петровна? Это та жирная, которая ко всем лезет? Понимаете? Нарочно отнесусь отрицательно. То есть даже не к вам, а как будто все перепутал. Такая, скажу, грязная и прыщавая. Понимаете? Чтобы было ясно, что я даже не знаю, о ком речь идет.
– Ну, это уж, простите, совсем глупо, – вспыхнула Варя. – Распорядитель Пенкин сколько раз видел вас у меня, как может он поверить, что вы вдруг меня не знаете?
– Ну, я, знаете, так о вас отзовусь, что он поверит. Что-нибудь исключительно грубое. Уж я сумею, я найдусь, не бойтесь.
– Да я вовсе не желаю, чтобы вы обо мне говорили всякие гадости.
– Дорогая! То есть Варвара Петровна, то есть бабуся – ф-фу! Запутался. Хотел начать привыкать и запутался. Дорогая мама! Ведь это же для вас, для вас. Неужели вы думаете, что мне приятно, что мне не больно сочетать ваше имя с разными скверными прилагательными? Ничего не поделаешь – надо. Значит, я сяду рядом с докторшей. Мало того – я окину присутствующих небрежным взглядом, кивну вам свысока головой и пророню. Понимаете? Именно пророню, процежу свысока сквозь зубы. Все свысока – и кивну, и процежу: «Ах, и эта дура здесь». Вот уж тогда эта самая докторша не только никогда не поверит в нашу близость, да и других-то всех разуверит, если кто-нибудь начнет подозревать. Конечно, мне это очень тяжело, но чего не сделаешь для своей дамы! Я рыцарь. Я джентльмен. Я вас в обиду не дам. И вообще, если в обществе начнется о вас разговор – можете быть спокойны – я вас так распишу, что уж никому в голову не придет, что вы мне нравитесь. Я вас высмею: вашу внешность – ха-ха, скажу, эта Варька – задранный нос! Конечно, мне будет больно. Ваш туалет, ваши манеры. «Туда же, скажу, пыжится, журфиксы устраивает. Ей бы коров доить с ее манерами, а не гостей принимать». Ну, словом, я уж там придумаю. «И еще, скажу, воображает, что может нравиться. Ха-ха!» Словом, мамаша, можете быть спокойны. Вашу честь я защищу. Бывать у вас я, конечно, лучше не буду. «Вот еще, скажу, не видал я ее завалящего печенья из Uniprix по полтиннику фунт».
«Вообще, скажу, эти ее курносые журфиксы». Словом, что-нибудь придумаю. Боже, как все это тяжело и больно. Что? Что? Я не понимаю, что вы говорите? М-ма-ма-ша?
– К черту! Вот что я говорю! – крикнула Варя и вскочила со скамейки. – Убирайтесь к черту, идиот шепелявый! Не смейте идти за мной, гадина!
Она быстро повернулась и побежала по лестнице.
– Ва… то есть ма… – лопотал Вася в ужасе. – Что же это такое? Почему так вдруг, в самый разгар моей жертвенной любви? Или, может быть, она увидела кого-нибудь из знакомых и разыграла сцену? Это умно, если так. Очень умно. Прямо даже замечательно умно. Если кто видел – сразу подумает: «Эге, этот господин ей не нравится». А потом, если и увидит нас вместе в обществе, он уже не будет нам опасен. Это, с ее стороны, очень умно. Хотя, наверное, ей было больно так грубо говорить с любимым существом. Но что поделаешь? Надо.
Он сунул руки в карманы и, беспечно посвистывая, чтобы никто ничего не подумал, стал спускаться с лестницы.
«Я люблю и любим, – думал он. – Вот это и есть счастье. Только нужно быть осторожным. Иначе что же? Пулю в лоб?»
Чудо весны
Светлый праздник в санатории доктора Лувье был отмечен жареной курицей и волованами с ветчиной.
После завтрака больные прифрантились и стали ждать гостей.
К вечеру от пережитых волнений и непривычных запрещенных угощений, принесенных потихоньку посетителями, больные разнервничались. Сердито затрещали звонки, выкидывая номера комнат, забегали сиделки с горячей ромашкой и грелками, и заворчал успокоительный басок доктора.
– Зачем все они терзают меня своей любовью! – томной курицей кудахтала в номере пятом испанка с воображаемой болезнью печени. – Зачем мне эти букеты, эти конфеты? Ведь они же знают, что я умираю. Позовите доктора, пусть он даст мне яду и прекратит мои мучения.
В номере десятом рантьерша мадам Калю запустила стаканом в кроткую и бестолковую свою сиделку Мари. Ее, мадам Калю, никто не известил, да она и не разрешила ни мужу, ни детям показываться ей на глаза. А злилась она оттого, что вопли испанки ее раздражали.
Она, собственно говоря, не была больна. Она спаслась в санаторию от домашнего хаоса.
– Не надо сердиться! – кротко уговаривала ее Мари. – Надо быть паинькой, надо кушать суп, чтобы скорее поправиться и ехать домой, где бедный маленький муж скучает о своей маленькой женке и детки плачут о своей мамочке.
Мадам Калю вспомнила о своем муже, плешивом подлеце, содержавшем на ее счет актрисенку из «Ревю», вспомнила сына, подделавшего под векселями ее подпись, дочь, сбежавшую к пузатому банкиру, и бросилась с кулаками на кроткую Мари.
Но больше всего досталось в этот вечер русской сиделке, безответной и робкой Лизе. Вверенный ей здоровенный больной, греческий генерал, во-первых, объелся страсбургским паштетом, а во-вторых, поругался с женой. Вручая этот самый паштет, жена сказала ему, что он вислоухий дурак и притворщик и что на те деньги, которые он тратит на лечение, она могла бы поехать в Монте-Карло.
Генерал вопил, что он умирает, и требовал морфия.
Лиза успокаивала его как могла, но он стучал на нее кулаком.
– Вы старая дева! Безнадежная старая дева и, конечно, в ваших глазах спокойствие важнее всего. А я полон сил и обречен на гибель!
Почему он обречен на гибель, он и сам не знал. Не знала и Лиза и, отвернувшись, заплакала.
И слезы ее подействовали на него магически. Он сразу развеселился, забыл о морфии и попросил касторки.
У него была особого рода неврастения: при виде какой-нибудь неприятности, приключавшейся с другими, меланхолия его мгновенно сменялась отличнейшим настроением. Когда однажды в его присутствии горничная свалилась с лестницы и сломала себе ногу, он весь день весело посвистывал и даже собирался организовать домашний спектакль.
Да. Странные болезни бывают на белом свете…
Ночью Лиза долго не ложилась, вздыхала, разбирала старые открытки с болгарскими видами, исписанные русскими буквами. Потом сняла со стены фотографию лысого бородатого господина и долго вопросительно на нее смотрела.
* * *
На другое утро, прибрав своих больных, она спустилась вниз.
Толстая кроткая Мари спешно допивала свой кофе.
– Я сейчас иду на станцию, – сказала она. – Нужно получить пакет.
Лиза вышла за ней на крыльцо.
– Я, пожалуй, сбегаю с вами, – сказала она, слегка ежась от свежего, сильного весеннего воздуха.
– Вы простудитесь, – сказала Мари. – Накиньте что-нибудь.
– Нет, так отлично!
Пасха была ранняя.
Деревья в ясном холодном небе купали тонкие свои, чуть розовеющие, наливающиеся соками прутики.
Длинная, сухая прошлогодняя трава порошила сквозной щетинкой плотный, ядовито-зеленый газон.
Облака кудрявились, как на наивной картинке в детской книжке. И все было такое новое, непрочное, и неизвестно было, останется ли, окрепнет ли в настоящую весну или только мелькнет обещанием и снова уйдет в отходящую зиму.
И это ярко раскрашенное небо, и обещающие жизнь розовеющие цветочки, и то, что она так по-молодому, легкомысленно, выбежала в одном платье, – все это вдруг ударило Лизу весенним вином прямо в сердце. Желтое лицо ее порозовело, страдальческие морщинки около рта разгладились, и вялые губы улыбнулись бессмысленно-счастливо.
– Я всегда такая! Мне все все равно! – звонко сказала она и удало тряхнула головой.
Мари с удивлением поглядела на нее. Она служила в санатории всего второй месяц и мало встречалась с Лизой.
– Да, вы, русские, совсем особенные, – сказала она. – Оттого все в вас и влюбляются.
Лиза засмеялась задорно и весело.
– Ну, знаете ли, влюбляются действительно, но далеко не во всех.
Было в ее тоне что-то многозначительное. Так как-то вышло, без всякого умысла, потому что она вовсе не на себя намекала.
Весенний воздух пьянил, веселил. Проходя мимо сложенных вдоль дороги бревен, Лиза вскочила на поваленную толстую липу и, балансируя руками, пробежала и спрыгнула.
– Какая вы ловкая! – ахнула Мари. – Как молоденькая!
Лиза обернулась. Ее лицо раскраснелось, волосы выбились из-под косынки.
Проходивший мимо почтальон закричал:
– Браво! Браво!
Лиза бросила ему лукавый взгляд.
– Ах, какая же вы шалунья! – восторженно удивлялась Мари. – Я всегда думала, что вы такая тихонькая, а вы такой чертенок. Наверное, все больные от вас без ума!
– Ну уж и все! – кокетливо улыбалась Лиза. – Далеко не все. Почтальон! Постойте. Нет ли у вас письма на имя мадемуазель Лиз Корнофф?
Почтальон, посматривая на нее блестящим глазком и пошевеливая усами, стал рыться в сумке.
– А уж он и рад, что вы с ним болтаете! – шептала Мари, радостно волнуясь.
– Мадемуазель Кор-нофф. Так? – спросил почтальон и подал Лизе открытку.
Лиза взглянула на розового зайца, несущего в лапках синее яйцо с золотыми буквами «Х. В.». Марка была болгарская, но письма она без очков прочесть не могла. Да это и не было важно. Важно было, что после почти трехмесячного перерыва она получила поздравление, что она не забыта и что все то, что она начинала считать умершим, потерянным навсегда, еще жило, и обещало, и звало.
Она сунула открытку в карман передника и весело засмеялась. А когда подняла глаза, увидела прямо перед собой молодое вишневое деревцо, словно в каком-то буйствующем восторге всего себя излившее в целый гимн белых цветов. Маленькое, хрупкое, и выбрызнуло столько красивой радости прямо к небу, к солнцу, к сердцу.
– От «него»? – спросила Мари, указывая глазами на торчащую из кармана открытку.
Лиза засмеялась и пренебрежительно махнула рукой.
– Старая история! Не хочет понять, что мне моя свобода дороже всего. Мы вместе служили в госпитале. Он – врач. Должен был тоже приехать во Францию, но задержался и, конечно, в отчаянии.
– А вы? – спросила Мари, сделав заранее сочувствующее лицо.
– Я? – Лиза передернула плечами и засмеялась: – Я, дорогая моя, люблю свободу.
И, обнажив широкой улыбкой свои длинные желтые зубы, пропела фальшивым голоском:
– Это из «Кармен»!
– Какая вы удивительная! А скажите, этот ваш греческий генерал, наверное, тоже к вам неравнодушен?
Лиза презрительно пожала плечами.
– Неужели вы думаете, что я стану обращать внимание на чувства такого ничтожного человека?
«Удивительная женщина! – думала добродушная Мари. – И некрасива, и немолода, а вот умеет же сводить с ума! Ах, мужчины, мужчины, кто поймет, что вам нужно?»
А Лиза бежала походкой смелой и быстрой, какой никогда у себя не знала, и смеялась, удивляясь, как она до сих пор не видела, что жизнь так легка и чудесна.
Вернулись в санаторию немножко усталые, и горничная сразу крикнула Лизе:
– Бегите скорее к вашему генералу. Он так ругается, что с ним сладу нет.
Лизе очень хотелось сбегать к себе за очками, чтобы узнать наконец, о чем чудесном сообщает ей розовый заяц. Но медлить она не посмела и пошла в комнату номер девятый, затхлую, прокуренную, где злой человек с одутлым лицом долго ругал ее старой ведьмой, жабой и дармоедкой.
Шторы в комнате были опущены, и небо за ними умерло.
Потом привезли новую больную, потом приехал профессор…
Лиза уже не улыбалась. Она только тихонько дотрагивалась до кармана, где лежала открытка, и тихо сладостно вздыхала. Все небо, все чудо весны было теперь здесь, в этом маленьком кусочке тонкого картона.
И только вечером, после обеда, быстро взбежав по лесенке в свою комнату и закрыв дверь на задвижку, она блаженно вздохнула:
– Ну вот! Наконец-то!
Надела очки, села в кресло, чтобы можно было потом долго-долго думать…
Милый знакомый почерк… И как много написано! Ого! Не так-то, видно, скоро можно меня забыть!
«Дорогая Лизавета Петровна, – писал знакомый почерк, – простите за долгое молчание. Причины к тому были важные. Не удивляйтесь новости: я на старости лет женился, да еще на молоденькой. Но когда познакомитесь с моей женой, то поймете меня и не осудите, такая она прелестная. Она вас знает по моим рассказам и уже полюбила.
Искренне преданный Вам
Н. Облуков.
P. S. Ее зовут Любовь Александровна.
Н. О.»








