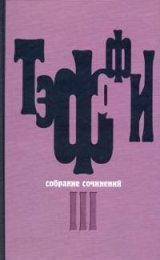
Текст книги "Том 3. Все о любви. Городок. Рысь"
Автор книги: Надежда Тэффи
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц)
Два романа с иностранцами
Были тихие сумерки.
По стене бегали огни автомобилей, вскрикивали их гудки, звякал трамвай. Острым буравчиком сверлил ухо призывный звонок соседнего кино.
И все-таки для тех двух женщин, которые сидели, поджав ноги, на колченогом диванчике, сумерки эти были тихими, потому что день со всеми его тревогами и заботами кончился и в эти два-три часа перед сном можно позволить себе ни о чем не думать и не беспокоиться.
В такие тихие сумерки разговор ведется душевный. Шагать по полутемной комнате неудобно, надо сидеть спокойно. От спокойной позы и мысли делаются сосредоточеннее, не скачут с предмета на предмет. Самые привычные врали теряют свое вдохновение, становятся проще и искреннее.
Молодежь в такие минуты охотно говорит о смерти. Люди постарше – о любви. Старики – о разных приятных надеждах.
Те две дамы, которые поджали ноги на колченогом диванчике, были уже не первой молодости и поэтому говорили о любви.
– Нет, теперь все для меня кончено, – сказала одна.
Если бы в комнате было светлее, мы увидели бы, что у нее очень усталое лицо, погасшие глаза и плечи ее закутаны в серый пуховый платок, всегда чуть-чуть разодранный на плече, уютный, пахнущий духами и папиросами, словом – традиционный платок русской скорбящей женщины!
– Не преувеличивай, Наташа, – ответила другая. – Ты еще молода. Кто знает?!
– Молода? – с горьким смешком сказала Наташа. – Нет, милая моя, после того, что я пережила, я себя чувствую семидесятилетней. Сама виновата. Не надо было изменять памяти Гриши.
– А сколько же лет ты была за Гришей?
– Лет? Лет! Пять недель. Познакомились перед самой эвакуацией. Сразу и повенчались. А через пять недель он выступил в поход. Больше мы и не встретились. Он был очень мил.
– Ну, на пять-то недель всякого бы хватило.
– Н-не знаю. Н-не думаю, – обиженным тоном сказала Наташа.
– А что, собственно говоря, у тебя вышло с этим твоим женихом-французом? Я ведь толком ничего не знаю. Мы тогда встречались редко, когда он за тобой ухаживал. А потом слышу – свадьба расстроилась. Что он, разлюбил тебя, что ли?
– Нет-нет. Он говорит, что не разлюбил. Родители не позволили. Впрочем, это очень сложная история, – вздохнула Наташа.
– Моя история была тоже очень сложная, однако я не вздыхаю, а хохочу. Ты стрелялась? Отравлялась?
– Нет, что ты, грех какой!
– Вот видишь! А еще вздыхаешь. А я вот даже отравлялась, а как вспомню, так от смеха не удержаться. Ну до того хорошо, до того хорошо!
– Чего же тут хорошего, если отравилась?
– В этом-то, конечно, хорошего мало. Очень тошнило. Но именно оттого, что отравлялась, все так смешно получилось. Ну, да я потом расскажу. Сначала ты.
– Ладно. Только с чего начать… Ну вот, как ты уже знаешь, работала я у модистки и познакомилась с мадам Ружо, с Мари. Очень она была милая. Мы подружились и затеяли открыть вместе магазин. Муж у нее тоже был славный, инженер. Дело у нас пошло довольно недурно. Мы с этой Мари были прямо неразлучны. Днем в мастерской и в магазинчике, вечером в синема или играем в карты. Я у них и обедала, чтобы не вести своего хозяйства. И вот бывал у них довольно часто сослуживец самого Ружо, мосье Эмиль. И вот, короче говоря, влюбился в меня этот Эмиль до зарезу. Он мне сначала не особенно нравился, так, казался пустеньким, банальным типом. Но потом, понемножку, начал он меня интересовать. Виделись чуть не каждый день, и он так настойчиво, так пламенно и так восторженно выражал всячески свою любовь, что я невольно стала относиться к нему внимательнее.
– Вот, вот, вот! Именно! Именно! – перебила слушательница.
– Что «именно»? – удивилась рассказчица.
– Нет, ничего, это я так.
– Ну так вот, стала я относиться к нему внимательнее. А тут Мари подливает масла в огонь: «Повр Эмиль! Умирает, мол, повр Эмиль. И такой чудный человек, и состоятельный, а ты одинокая, кто о тебе позаботится, выходи за повр Эмиля». А Эмиль каждый вечер после обеда настоятельно требует брака. И эта настоятельность стала меня трогать. Он начал мне нравиться.
– Вот, вот! – перебила слушательница.
– Что такое «вот»? Чего ты все пищишь?
– Ничего, ничего, это я так.
– Муж Мари тоже очень меня уговаривает. И, представь себе, стала я замечать, что этот самый Эмиль начинает мне очень даже нравиться. Но все-таки на брак решиться еще не могла. Хотелось проверить и себя, и его. Вернее только себя, потому что в нем сомневаться было бы прямо смешно. И страдает, и блаженствует, и черт его знает что – прямо какая-то смесь Ромео с Джульеттой. Долго я его томила, наконец, сказала: «Мне кажется, что я смогу вас полюбить». Так он – ты представить себе не можешь! – прямо плакал. Он от восторга кинулся целовать Мари. Меня не смел, так ее. И смешно, и трогательно. И тут же решил выписать в Париж родителей, чтобы познакомить меня. Муж Мари объяснил мне, что родители у него состоятельные и он хотел непременно жениться с их одобрения.
– И вечно они с этими родителями! – перебила слушательница и тут же прибавила: – Ничего, это я так.
– Родители у Эмиля оказались премилые, такие какие-то старинные, трогательные, особенно мать. Она меня сразу заобожала. Целые дни были мы вместе. То она у нас в магазинчике сидит, то я у нее. Такая душевная была, такая чуткая, так все понимала. И ей понравилось, что я не сразу дала Эмилю согласие, что хотела сначала проверить и себя, и его. Словом, такая была милочка, что я прямо в нее влюбилась и даже прослезилась, когда она уехала. Расставались ненадолго, потому что через месяц она обещала приехать на свадьбу. Мой Эмиль ликовал, сиял и прямо исходил восторгом. Мои милые Ружо не нарадовались на нас. Мари помогала мне в свадебных хлопотах, делала подарки и была счастлива моим счастьем.
И вот однажды, в один проклятый прекрасный день, сидели мы вдвоем с мосье Ружо, ждали Мари к завтраку. Я зашла к ней в спальню попудриться и вижу – на столе шкатулочка. Шкатулочка приоткрыта, и торчит из нее письмо. Бумажка синяя, такая, как у Эмиля. Почерк тоже как будто Эмиля. Невольно взглянула и вижу – действительно его почерк. Конечно, это меня ничуть не удивило, потому что они старые знакомые, почему бы ему и не написать ей. Но, как на грех, в той строчке, которая была мне отчетливо видна, стояло мое имя. «Бедненькая Наташа» – прочла я и заинтересовалась. Почему я вдруг «бедненькая»? Любопытство погубило Еву. Я потянула письмо за уголок, вытянула и прочла. Сначала одну эту фразу про «бедненькую Наташу», потом все письмо. Письмо было такого содержания, что сомнений никаких оставить не могло. Этот самый «повр Эмиль», безумно и счастливо влюбленный жених, с этой самой милой моей подругой Мари только что развели самый определенный романчик под самым моим носом. Романчик был совсем свеженький, длился всего дней десять.
«Будь осторожна, – просил мой нежный жених, – чтобы бедненькая Наташа, которую я так люблю, не огорчалась нашей связью».
Все это было так неожиданно, так дико, что я… Я не знаю, что со мной сделалось. Я лишилась сознания. Долго ли я пролежала – не знаю, но когда открыла глаза, вижу – стоит около меня мосье Ружо и с большим интересом читает это самое проклятое письмо. А я хочу встать – и не могу. У меня отнялись ноги.
Он прочел, покрутил головой.
– Милочка, – говорит, – как вы меня испугали. Это с вами часто так бывает, что вы в обморок падаете?
А я кричу: «Отдайте, отдайте мне это письмо! Не смейте его читать!»
А он брови поднял, удивляется:
– Так это, – говорит, – вы из-за такого пустяка в обморок падаете?
Обнял меня, поднял, усадил на диван, гладит по голове, целует. А я разливаюсь, плачу. Как теперь жить? Все рухнуло.
А он смеется.
– Пустяки, – говорит. – Посердитесь немножко, это полезно, а потом забудьте.
А я возмущаюсь:
– И это говорите вы. Ведь он же с вашей, с вашей женой мне изменил!
А он машет рукой.
– Ну и тем лучше. Он вам изменил с моей женой, а вы ему измените со мной. Вот всем и будет хорошо.
Я тут как заору, в полной истерике. И бежать.
Дома заперлась, целую неделю не выходила. Письмо всем написала. Эмилю отказ. Мари упрек, Ружо проклятие. Но главное письмо – старухе, Эмилевой матери. Все ей объяснила и сердечно и трогательно с ней попрощалась. Ответа от нее не получила.
Через неделю пришлось все-таки пойти в магазин. Нельзя. Дела. Встретились мы с Мари странно. Она с легкой насмешечкой, точно я зря надурила. Понемножку разговорила меня. Бросила вскользь, что Эмиль стреляться хотел, что вообще так разумные женщины не поступают, что нельзя падать в обморок с компрометирующим письмом в руках, что это даже непорядочно, но что она меня любит и поэтому прощает причиненные ей неприятности, но что, конечно, после моего (моего!) ужасного поступка прежней дружбы между нами быть не может. Потом появился Эмиль. Он рыдал, бился об стенку головой, сначала затылком, потом лбом. Я была неумолима. Но, увы, недолго! Он как-то сумел меня убедить. Я простила. Все как будто снова наладилось, но тут пришло письмо от его матери. Письмо было адресовано ему, потому что с такой женщиной, как я, ей не о чем и разговаривать.
В письме к сыну она категорически запрещала ему на мне жениться, потому что если я способна поднять такую историю из-за пустяков, то что же будет дальше? Что это будет за жизнь? «Она вечно будет валяться в обмороках и компрометировать своих приятельниц – всеми уважаемых женщин».
Эмиль был очень грустен. Говорил, что он рассчитывает на смягчающее влияние времени. Мать передумает. Но пока мать передумывала, он женился на другой.
– Вот и все? – спросила слушательница. – Ну, мой роман был гораздо забавнее. Вот я его тебе расскажу. Я расскажу, только очень уж все это глупо. Если бы в комнате было светло, так мне на тебя и взглянуть было бы стыдно.
– Ничего. Мы с тобой старые приятельницы. Лампы я не зажгу. Посумерничаем еще немножко. Н-с? С кем же у тебя был роман? Тоже с французом?
– Нет. Ни за что не угадаешь. С румыном!
– Ну и угораздило же тебя! Неужели влюбилась?
– Еще как! Прямо трагедия. Ха-ха-ха!
– Трагедия, а хохочешь, – удивлялась приятельница. – Или это у тебя истерика?
– Ах, милочка, если бы ты знала, до чего смешно! Ведь я отравлялась.
– Чего же тут смешного?
Если бы в комнате было светло, мы увидели бы, что та, которая отравлялась, была толстенькая брюнетка с живыми черными выпуклыми глазами, в аккуратных завитушечках, в дешевом, но модном платьице, подмазанная, подщипанная, подглаженная, спокойная и довольная. Увидели бы и подумали бы: «Врет! Такие не травятся».
– Чего же тут смешного? – удивлялась приятельница. – Если отравлялась, очевидно, страдала.
– Еще как! Ха-ха-ха! Тем-то и смешно, что страдала.
– Ну так расскажи. Вместе посмеемся, – иронически сказала приятельница.
– Ну-с, так вот, милая моя. Работала я тогда в институте де ботэ1 у мадам Ферфлюх. Работали мы хорошо. А дело это, знаете ли вы, очень психологическое. Вы думаете, так просто помазала, потерла, да и готово. Нет, милая моя, этого далеко недостаточно. Особенно если клиентка пожилая, с разными сердечными разочарованиями. Тут необходим душевный разговор. Еще пока ей брови щиплешь, тут можно и молчать, потому что ей больно, она кряхтит. Когда поры чистишь, тоже момент к разговору не располагающий. Дело, так сказать, почти что медицинское. Ну а когда до самой ботэ дойдешь, крем, лосьон, краски, пудры – тут у каждой женщины душа открывается. И почему это так – откровенно говоря, не могу себе объяснить, но только это факт, и можете справиться у любой массажистки по части лица. Прямо иногда диву даешься, что они, эти клиентки, рассказывают! Казалось бы, под пыткой такого не расскажешь. Если бы я все записывала, так прямо романов на несколько томов хватило бы. Да еще каких!
И вот, была у меня одна клиентка, довольно молчаливая. Я, грешным делом, думала, что она просто от старости молчит.
Маленькая была старушонка, щупленькая, носик востренький, щечки подтянуты и к вискам пришиты, а из-под подбородка кожица за ушами пришпилена. Хорошая была клиентка, на чаевые не скупилась. Платила, впрочем, не сама – за нее лакей расплачивался. Как сеанс кончен, лакей подходил, заворачивал ее в шубу и относил в автомобиль. Прямо на руках. Уж очень она уставала. Лежит, бывало, я ей ресницы подклеиваю, а она рот приоткроет – черный рот, страшный, щеки обтянутые – и захрапит. Засыпала от усталости. Очень утомительную жизнь вела. Визиты, примерки, чаи, обеды, концерты, спорт. Да, да – спорт. Ездила в гольф играть. Подумать только! В такие годы и такую муку на себя брала.
И вот как-то явилась она в совсем особом настроении. Подвинченная какая-то, улыбается, жантильничает. Заказала всяких кремов и красок – едет в Америку. И вдруг, совершенно неожиданно, хватает меня за руку.
– Милочка! – говорит. – Если бы вы знали, как мне не хочется уезжать! Именно теперь. Но муж требует, чтобы я сейчас же приехала. Какие-то дела. Наверное, все пустяки. А мне сейчас хочется остаться здесь. Вы меня понимаете?
Ну, конечно, такую клиентку всегда полагается понимать.
Я вздохнула и говорю:
– О, как я понимаю!
А что такое надо понимать, хоть убейте, не знаю.
А она прямо затрепетала.
– Я, – говорит, – познакомилась с ним два дня тому назад и решила – пригласить его вести мои здешние дела. Ах, если бы вы знали! Если бы вы только знали! Это не какой-нибудь мальчишка из дансинга. Это само благородство. Это ум! Это сердце! Это брюнет. И я не успела даже сговориться с ним насчет его обязанностей – как вот приходится бросать все и спешно ехать. Но я вернусь, я скоро вернусь.
И не успела она излить мне свою душу, как в нашу кабинку постучали и сказали, что клиентку мою хочет видеть какой-то мосье Пьер.
Она даже задохнулась.
– Это он! – шепчет. – Это он!
И вошел в комнату молодой человек, довольно красивый, только какой-то весь чересчур. Понимаете? Чересчур бел, чересчур румян, малиновые губки, волосы черные аж досиня, брови круглые – прямо какая-то малороссийская писанка. Но все-таки красивый. Страшно любезный. Привез старухе какие-то билеты от какой-то дамы. Был на дому, узнал, что она здесь, а так как дело спешное, то разрешил себе и так далее.
Старуха моя так и завибрировала.
Он ее под ручку ухватил и умчал.
Ну, умчал и умчал – мне-то что.
Но вот дня через два является этот самый Пьер и прямо ко мне. Извиняется очень почтительно и спрашивает, не забыла ли здесь мадам Вуд свои перчатки.
– Разве, – спрашиваю, – она не уехала?
– Нет, – говорит, – она на другое же утро уехала и вот поручила узнать насчет перчаток.
Я велела шассеру1 поискать, спросить в кассе.
А мосье Пьер смотрит на меня и так странно улыбается.
– Вам, – говорит, – наверное, ужасно здесь скучно при вашей исключительной внешности.
Я приняла достойный вид.
– Ничуть, – говорю. – Я очень люблю работать.
А он опять:
– При такой постоянной усталости необходимо развлекаться, иначе можно совершенно перегрузить нервы. Может быть, – говорит, – разрешите зайти за вами насчет кинематографа.
Я согласилась, но, однако, с большим достоинством.
Он страшно обрадовался и кричит шассеру:
– Перчаток не ищите, я их уже нашел.
Тут я поняла, что он все это выдумал, чтобы меня повидать.
Признаюсь – очень меня это зацепило. «Вот, думаю, вращается человек в таком пышном американском кругу – и вдруг так на мою внешность реагировал».
Ну и пошло и пошло.
Стал у меня бывать. И все, как говорится, «любите ли вы меня да любите ли вы меня».
Я, по нашей русской манере, ни да, ни нет, полна загадочности, хоть ты издыхай.
Он совсем истомился.
– Елена, – говорит, – вы святая. Вы святая Елена, и я погибну, как Бонапарт.
Месяца два проманежила я его, наконец, говорю:
– Скорее да, чем нет.
Он, конечно, совсем обезумел.
– В таком случае, – говорит, – разрешите принести пирожных.
Принес, да по рассеянности сам все и съел.
И, между прочим, выяснилось, что фамилия его – трудно поверить! – Курицу. Может быть, по-румынски это и очень шикарно. Может быть, по-румынски это Мусин-Пушкин-Шаховской и Гагарин. Почем мы знаем. Конечно, ужасно, но я так влюбилась, что и Курицу проглотила.
А он стал напирать на брак. Вот тут мне мысль о Курицу показалась невеселой, ну да уж не до того было.
Занимался он комиссионными делами. Зарабатывал, кажется, недурно. Впрочем, относительно этого ничего толком не знаю.
А он уж приходит настоящим женихом, и даже сделал мне подарочек самого семейного духа. Подарил мне электрический утюжок. Очень мило. Мы его всегда вместе в передней в шкапчик прятали.
Так все, значит, идет к своему блаженному концу. И вот как-то, вспоминая нашу первую встречу, говорю я ему:
– А по-моему, Пьеруша, эта старая ведьма была в вас влюблена и были у нее на вас особые цели.
Он от негодования даже покраснел.
– С чего вы это взяли? Вы все это выдумали.
Я ему рассказала, как она мне о ком-то намекала, с кем только что познакомилась.
Он очень подробно расспрашивал, видимо, очень был возмущен моим предположением. Я старалась шуткой загладить неприятное впечатление, но он стал какой-то рассеянный, задумчивый, очевидно, сильно на меня обиделся. И представь себе, с того самого случая словно что-то надломилось. Стал реже бывать, о свадьбе молчит. А я, как часто в таких случаях бывает, тут-то и уцепилась. Словно он мне проволокой зуб зацепил – чем дальше тянет, тем мне больнее. Чего я только не делала – и равнодушие на себя напускала, и плакала, и цыганские романсы пела. Нет. Ничего не берет. Отходит от меня мой Курицу. Извелась я вконец.
Вернулась моя американка, пришла красоту наводить. Веселая. Подарила сто франков.
Я говорю нашим:
– Старуха-то наша что-то распрыгалась.
А хозяйка смеется.
– У нее, – говорит, – жиголо. Тот румяный, что к ней сюда перед отъездом прибегал. Я их в автомобиле постоянно встречаю и два раза в ресторане видела.
Я еле часы свои досидела, еле домой приплелась. Написала ему: «Когда прочтете эти строки, приходите, и я сама молча скажу вам „прощай“».
Послала пневматичкой, а сама достала баночку крысиного яду, накатала пилюлек и проглотила. Реву и глотаю! И жизни не жалко. Придет – думаю – и поймет, что значит «молча» скажу прощай.
И дрянь же этот крысиный яд. Целые сутки наизнанку меня выворачивало. А он, подлец, пришел только через несколько дней. Сидел в профиль, плел какую-то ерунду, что его родители не любят женатых детей. Я разливалась – плакала.
Потом встал, сказал, что мой образ всегда будет перед его духовными очами, но что слишком благороден, чтобы сделать меня несчастной, подвергнув мести его родителей.
Ушел, эффектно закрыв глаза рукой.
Я распахнула окно и стала ждать. Как только выйдет из подъезда – выброшусь на мостовую. Вот. Пусть.
А он что-то замешкался в передней. Слышу – скрипнул шкапчик. Что бы это могло значить? Входная дверь щелкнула. Ушел! Но что же он такое делал? Почему открывал шкапчик?
Я бросаюсь в переднюю. Открываю шкапчик… Милые мои! Ведь это… ведь это повторить невозможно! Он свой утюжок унес! утю-жо-ок!
Веришь ли, я прямо на пол села. До того хохотала, до того хохотала, и так мне легко стало, и так хорошо.
– Господи! – говорю. – До чего же чудесно на твоем свете жить! Вот и теперь, как вспомнила, ха-ха-ха, как вспомнила, то, наверное, до утра прохохочу. Утюжок! Утю-жо-ок! Я бы бахнула на мостовую, череп вдребезги, а у него в руках утюжо-ок!
Картина!
Эх, милая моя, такое в жизни бывает, что и нарочно не выдумаешь.
Выбор креста
Есть такая новелла: «Выбор креста».
Человек изнемог под тяжестью своего креста, возроптал и начал искать другой крест. Но какой бы он ни взваливал на свои плечи – каждый оказывался еще хуже. То слишком длинный, то слишком широкий, то остро резал плечо. Наконец, остановил он свой выбор на самом удобном. Это и оказался его собственный, им отвергнутый.
А вспомнилась нам эта новелла вот по какому случаю.
* * *
Ермилов очень уважал свою жену, свою Анну. Это была удобная жена, в меру заботливая, неглупая. Но когда он встретил Зою Эрбель, он даже удивился, как мог прожить столько лет с этой прозаической Анной.
Анна была недурна собою, крупная, ширококостная, с большими руками и ногами, свежим лицом. Одевалась просто, любила английские блузки, башмаки на плоских каблуках, мужские перчатки, не красилась, не душилась. Все на свете для нее было ясно и просто.
Мистики были для нее неуравновешенными субъектами.
Влюбленность – естественным влечением полов.
Поэзия – «ничего, если носит в себе содержание».
С мужем своим она никогда не нежничала, не называла его разными ласковыми или шутливыми именами, но зато очень внимательно следила, чтобы у него было все, что ему нужно, интересовалась его пищеварением, аппетитом, заставляла делать гимнастику и заниматься спортом.
Ермилов спорта не любил, гимнастика ему надоела, надоела за четыре года жизни и сама Анна.
Скучно было с ней.
Скучно было даже то, что в доме всегда был порядок, все вымыто, вычищено, ничего лишнего.
– Точно в солдатском госпитале, – ворчал он.
Первый раз в дом к Эрбелям он попал случайно, по делу. Его сначала поразила, потом умилила обстановка той комнаты, где ему пришлось ожидать хозяина.
На столе, заваленном ворохом газет и журналов в таком беспорядке, словно кто-то нарочно рыл их, стояла открытая коробка с огрызками конфет, из-под газет выглядывало что-то розовое и свисала вниз резиночка с пряжкой и бантиком. Тут же на газетах валялся раскрытый кошелек.
Мебель в комнате расставлена была как-то нелепо, как попало. Кресло было повернуто спинкой к столу. Один из стульев вплотную лицом к стене.
Из соседней комнаты доносился звонкий женский голосок, который сначала все напевал странную песенку, грустную по содержанию и веселую по мотиву:
Денег нет, денег нет,
Абсолютно денег нет.
Потом такой же голос в отчаянии воскликнул:
– Шурка! Квик опять утащил мой чулок! Шурка! Посмотри за дверью. Я не могу – там чужой дядя сидит.
В ответ послышалась недовольная басовая воркотня вполголоса. Потом снова женский голосок сказал решительно:
– Ну, что ж делать. Я пойду сама, ты пойми, что это единственные мои чулки. Все остальные собака растащила и разодрала. Что? Ну так что же? Не съест он меня, твой деловой человек.
Дверь осторожно открылась, и молоденькая женщина в розовой пижаме, всклокоченная и смущенная, вошла в комнату.
– Простите, – сказала она. – Муж сейчас выйдет. Он пишет… Я здесь забыла…
Она проворно бегала глазами по полу, взглянула на стол и, увидев розовую резиночку, искренне обрадовалась:
– Ах, и это здесь? Хорошо, что я увидела.
И, повернувшись в сторону двери, из которой вышла, закричала:
– Шурка! Не ищи корсета, я его нашла. И чулок на нем.
Она улыбнулась Ермилову самой светской улыбкой, вытащила из-под журнала свой корсет, на котором действительно висел чулок, помахала приветливо рукой, словно из окна уходящего поезда, и захлопнула за собой дверь. Через несколько минут вошел Эрбель, длинный, растерянный. Одной рукой он придерживал ворот своей рубашки и беспомощно искал что-то глазами – очевидно, потерянный галстук.
– Простите, ради Бога! – смущенно сказал он.
– Здесь такой хаос. Я сейчас буду готов, и мы можем пойти тут рядом в кафе, там будет удобнее поговорить.
Он развел руками, заглянул за диван и вышел.
Через минуту за дверью раздался его отчаянный вопль:
– Так зачем же ты завязала собаке мой галстук! Это же идиотство, какому имени нет.
А в ответ раздалась декламация:
Оттого, что душе моей имени нет
И что губы мои нецелованы!
Наконец, Эрбель вышел вполне готовый, потыкался по передней, ища шляпу, но очень быстро сам заметил ее под стулом, тряхнул, дунул и открыл дверь на лестницу.
Они уже шагали по тротуару, когда звонкий голосок пропел над ними:
Ты глаза на небо ласково прищурь,
На пьянящую, звенящую лазурь…
Эрбель сердито прибавил шагу, а Ермилов поднял голову и увидел на балкончике второго этажа розовую фигурку, и в ту же минуту что-то мокрое больно щелкнуло его по носу. Это был брошенный розовой фигуркой цветок, очевидно, вытащенный из вазы, где давно сгнил, потому что весь ослиз, раскис и скверно пахнул. Ермилов тем не менее его поднял.
– Это не вам! – кричал сверху звонкий голосок. – Это злому Шурке, любимому моему ангелу.
«Любимый ангел» обернулся и прошипел Ермилову с самой звериной рожей:
– Да бросьте вы эту мерзость! Вы себе весь пиджак испачкали.
Ермилов шел и улыбался.
«Какая удивительная женщина, – думал он. – С такой не соскучишься. Все в ней поет, все в ней звенит…»
* * *
Эрбель отдавал должное своей жене. Она была молода, весела, беззаботна. Как бы скверны ни были их дела, она никогда не ныла и не попрекала его неудачами.
Но зато и поддержки или помощи ждать от нее было нечего. В доме был беспорядок, в котором пропадали бесследно деловые письма, деньги, вещи. Ни для сна, ни для еды определенного времени не было.
Намерения у нее были самые лучшие, и, видя, что мужа мучает ее безалаберность, она даже завела приходо-расходную книгу, на первой же странице которой Эрбель с интересом прочел: «Выдано на расходы 600 франков. Истрачено 585. Осталось 100, но их нету. Есть только 15».
– Зоечка, – позвал он жену, – что это значит?
– Это? – деловито спросила Зоя. – Это вычитание.
– Какое вычитание?
– Ты такой придирчивый! Так вот, чтобы ты не придирался, я сделала для тебя специально вот здесь, на полях, вычитание. Видишь? Из шестисот вычла пятьсот восемьдесят пять, получилось сто. Но их нету.
– Постой, почему же сто? – удивился Эрбель.
– Как почему? Смотри сам: пять из ноля ноль.
– Почему ноль?
– Да что ты все – «почему» да «почему»? Ясно почему. Ноль означает цифру, у которой ровно ничего нет. Так как же ты будешь от нее что-то отнимать? Откуда же она тебе возьмет?
– Так ведь надо же занять.
– Это ноль полезет занимать? У кого?
– Да у соседней цифры.
– Чудак! Да ведь там тоже ноль. У него у самого ничего нет.
– Так он займет у соседней цифры, – убеждал ее муж.
– И ты воображаешь, что она ему даст. Да и вообще – полезет он занимать специально для того, чтобы отдать тому первому голодранцу. Ну где такие вещи бывают? Даже смешно слушать.
– Одним словом, я вижу, что ты просто-напросто не умеешь делать вычитания.
– Если делать просто механически, конечно, и я смогу. Но если серьезно вдуматься, то все эти займы у каких-то нулей для меня органически противны. Если хочешь, занимайся этим сам, а меня уволь. Теперь вот дал мне тысячу франков. Три нуля. Веселенькая компания. И все полезут к этой несчастной единице. Ну… одним словом, как хочешь, с меня довольно.
Эрбель вздыхал, брал шляпу, уныло счищал с нее рукавом пыль и уходил из дома.
Когда он в первый раз увидал Анну – жену Ермилова, он был поражен.
– Какая спокойная, милая женщина! Как все с ней ясно, чисто, просто. Отдыхаешь душой.
Он долго сидел у Ермиловых, и ему не хотелось идти домой. Но идти все-таки пришлось, и когда он, войдя в свою переднюю, споткнулся о какой-то развороченный чемодан и услышал из спальной громовую декламацию, он чуть не заплакал.
Дня через два, ожидая к себе Ермилова ровно в три часа, он, вернувшись к двум, застал уже своего нового приятеля. Ермилов сидел верхом на стуле и с упоением кормил собаку шоколадом, а Зоя, подкатав выше колен штаны своей пижамы, плясала пред ним матросский танец.
При виде Эрбеля Ермилов ужасно смутился и, путаясь, стал объяснять, что пришел раньше, потому что надеялся застать Эрбеля дома и, таким образом, больше очистилось бы времени для деловой беседы.
Эрбель совершенно не понял его конфуза.
Зато, когда он на другой день пошел к Ермилову «узнать адрес хорошей переписчицы» именно в тот час, когда хозяин обыкновенно дома не бывает, и на этот раз, в виде исключения, он как раз дома оказался, то Ермилов тоже ничуть этому не удивился.
– Как вы так почувствовали, что я сегодня на службу не пошел? – совершенно искренне спросил он.
Эрбель что-то промямлил, и, когда Анна предложила ему пойти вместе поплавать в бассейне, он согласился так быстро и с таким восторгом, что Ермилов посмотрел на него с презрением.
– Вот никогда бы не мог подумать, что вы любите эту ерунду!
Анна в воде была еще очаровательнее, чем в обычной обстановке. Свежая, сильная, быстрая, спокойно-веселая, она учила Эрбеля нырять и прыгать с доски, держала его уверенной рукой так властно и вместе с тем приветливо.
Они решили плавать каждый день. Иногда ходили к пруду кататься на лодке. И все это было чудесно, и чем дальше, тем чудеснее.
Эрбель всегда провожал Анну домой, они вместе обедали, и часто он оставался у нее весь вечер.
Ермилова почти никогда не было дома.
Но вот как-то случилось так, что Эрбелю должен был кто-то позвонить по делу, и он ушел домой раньше обыкновенного. Открыл дверь своим ключом, заглянул в гостиную и не сразу понял, в чем дело.
В комнате было полутемно, и у раскрытого окна сидела Зоя. Сидела она на чем-то высоком, странно подняв согнутую в локте руку и, покачиваясь, декламировала:
Так люби меня без размышленья,
Без тоски, без думы роковой…
Эрбель с интересом вгляделся и увидел, что то высокое, на чем Зоя сидела, были чьи-то колени, и что согнутая Зоина рука обнимала чьи-то плечи.
Желая точнее узнать, в чем дело, он повернул выключатель, Зоя вскочила и обнаружила растерянного и растрепанного Ермилова, который встал и схватился за голову.
Эрбель сделал успокоительный жест и сказал тоном джентльмена:
– Пожалуйста, не стесняйтесь! Простите, что помешал.
Повернулся и вышел. Он был очень доволен собою и ничуть не чувствовал себя оскорбленный. Разве только слегка удивленным.
– Изменять мне с таким болваном!
– Изменять «ей» с таким ничтожеством! Пожав плечами и забыв о деловом телефоне – до того ли тут, – полетел он к Анне.
Анна отнеслась к новости довольно безразлично.
– Да они оба исключительно неуравновешенные типы, – сказала она. – Граничащие с дефективностью. Надо, чтобы все прошло бы без эксцессов. Я не люблю ничего вредного. А вы должны уйти, потому что Николай может вернуться и ваша встреча с ним легко вызовет эксцессы.
Несмотря на неприятное впечатление, произведенное дважды повторенным словом «эксцессы», Эрбель нашел в себе силы взять Анну за руку и сказать:
– Анна! Я рад, что так случилось. Я рад, что вы и я теперь свободны. Понимаете ли вы меня?
Анна поняла.
– Да, – деловито сказала она. – Разумеется, в этом есть своего рода удобство. Я имею в виду ваше влечение ко мне. Но, с другой стороны, все это нарушает спокойный ход жизни.
– Анна, я люблю вас! – сказал он. – Я хочу соединить наши ходы, то есть жизни, то есть ход жизни. Одним словом – вот.
* * *
Все наладилось.
Эрбель с восторгом переехал в квартиру Ермилова. Ермилов покорно перебрался к Зое. И время пошло.








