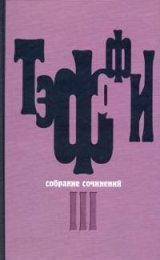
Текст книги "Том 3. Все о любви. Городок. Рысь"
Автор книги: Надежда Тэффи
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)
Летчик
Вчера в кинематографе показывали какой-то аэроплан, и я вспомнила…
Гриша Петров был славный мальчишка. Здоровенный, коренастый и вечно смеялся.
– Рот до ушей – хоть лягушке пришей, – дразнили его младшие сестры.
Не кончив университета, женился, потом попал на войну.
Боялся он войны ужасно. Всего боялся – ружей, пушек, лошадей, солдат.
– Ну чего ты, Гриша! – успокаивали сестры. – Уж будто так все в тебя непременно стрелять будут.
– Да я не того боюсь!
– А чего же?
– Да я сам стрелять боюсь!
Стали обучать Гришу военному ремеслу. После первого урока верховой езды вернулся он домой такой перепуганный, что даже обедать не мог.
– Все равно, – говорит, – какой тут обед! Все равно придется застрелиться.
– Что же случилось?
– Господи, страсти какие! Взвалили меня на лошадь – ни седла, ни стремян – ничего! Хвоста у нее не поймать – держись за одну гриву. Пока еще на месте стояла – ничего, сидел. А офицер вдруг как щелкнет бичом, да как все заскачут! Рожи бледные, глаза выпучены; зубы лязгают – последний час пришел! А моя кобыла хуже всех. Прыгает козлом, головой машет – кидает меня то на шею, то на зад. Я ей «тпру! тпру!» – не тут-то было. Ну, думаю, все равно пропадать: выбрал минутку, когда она поближе к стенке скакала, ноги подобрал да кубарем с нее на землю. Офицер подскочил, бичом щелкает:
– На лошадь!
Я поднялся.
– Не могу, – говорю.
А он орет:
– Не сметь в строю разговаривать!
А мне уж даже все равно – пусть орет. Так и ему говорю:
– Чего уж тут – я ведь все равно умираю!
Он немножко удивился, посмотрел на меня внимательно.
– А и правда, – говорит, – вы что-то того… Идите в лазарет.
Загрустил Гриша.
– Теперь сами видите, какой я вояка. Я им так и скажу, что лучше вы меня на войну не берите. У вас вон все герои – сам в газетах читал. А я не гожусь – я очень боюсь. Ну куда вам такого – срам один.
Однако ничего. Дал себя разговорить, успокоить. Одолел военную науку и пошел воевать.
На побывку приехал домой очень довольный – опять «рот до ушей – хоть лягушке пришей».
– Слушайте! А ведь я-то, оказывается, храбрый! Ей-Богу, честное слово. Спросите у кого хотите. И пушки палят, и лошади скачут, а мне чего-то не страшно. Сам не понимаю – глупый я, что ли? Другие пугаются, а мне хоть бы что!
Приехал второй раз и объявил, что подал прошение – хочет в летчики.
– Раз я, оказывается, храбрый – так чего ж мне не идти в летчики? Храброму-то это даже интересно.
И пошел. Летал, наблюдал, бомбы бросал, два раза сам валился, второй раз – вместе с простреленным аппаратом, и так сильно контужен, что почти оглох. Отправили прямо в санаторию.
* * *
В Москве, уже при большевиках, в хвосте на селедочные хвосты, кто-то окликнул меня. Узнала не сразу. Ну да мы тогда все друг друга не сразу узнавали.
– Гриша Петров?
Почернел как-то, и скулы торчат. Но это не главное. Главное – изменило его выражение глаз: какое-то виноватое и точно просящее, беспокойное.
– Как вы, – говорю, – загорели!
– Нет, я не загорел. Здесь другое. Я к вам приду и расскажу, а то со мной на улице говорить нельзя – очень уж кричать надо.
Вечером и пришел.
Рассказал, что в Москве проездом – завтра уезжает. Будет летать.
– Ведь вы же не можете – вы в отставке, вы инвалид.
– Большевики не верят. Буду летать. Ничего. Дело не в этом.
И узнала я, в чем дело.
– Отряд наш – шестнадцать офицеров. Сидели в глуши, думали – о нас и забыли. Лес у нас там, хорошо, грибы собирали. Вдруг приказ – немедленно одному явиться с аппаратом в Москву, пошлют его куда-то над Уфой летать. Мы бросили жребий. Вытащил товарищ и говорит: «Я повешусь, у меня мать в Уфе, я над Уфой летать не стану». Ну, я и вызвался заменить, думал, словчусь, полечу к чехословакам – я ведь, сами знаете, храбрый. Приезжаю сюда, а здесь говорят: не над Уфой летать, а над Казанью. А у меня в Казани старуха мать, и жена, и мальчишки мои – как же я стану в них бомбы бросать? Решил сказать начистоту. Заявил начальству, а оно – так любезно:
– Так, значит, в Казани ваша семья?
– В Казани, – говорю, – все.
– А как их адресочек?
Я и адрес сказал. Они записали.
– Ну-с, теперь, говорят, завтра же отправляйтесь на Казань. А в случае, если затеете перелететь к чехословакам или вообще недобросовестно отнесетесь к возложенному на вас поручению (это, то есть, бомбы бросать не буду), то семья ваша будет при взятии города расстреляна. Поняли?
Ну еще бы, как не понять!
Призадумался Гриша – черный такой стал, скуластый, и вдруг спросил:
– Как вы думаете – должен я сейчас застрелиться или посмотреть – может, как-нибудь… А? Что? Что?
Он очень плохо слышал.
* * *
Несколько месяцев тому назад совершенно неожиданно встречаю в Болгарии старушку Петрову.
– Да, да, слава Богу, выбрались. Мы давно уже здесь. Маруся, Гришенькина жена, в школе устроилась учительницей. Мальчики здоровы, все хорошо. А сколько перестрадали! Как они на Казань-то шли! Есть было нечего, воды и той не было. Сами на Волгу с кувшинами бегали. Мальчики тоже чайники брали – пять верст почти. Бежим, бывало, а над нами аэроплан ихний гудит. Господи, думаю, хоть бы детей-то пощадили. Летчик свалился у нас за лесом, недалеко. Все бегали смотреть. Обгорел так, что лица не различить. А мне и не жалко. Собаке собачья смерть!
– А скажите, вы о Грише ничего не знаете?
– Нет, ничего. Так ничего и не знаем. С самого начала отрезаны были. Ну да ведь его большевики на службу призвать не могли, он, слава Богу, инвалид, контуженый, никуда не годный – где-нибудь отсиделся. Все ждали весточки. Обещали нам тут…
– Значит, ничего не знаете?
Она вдруг всполохнулась.
– А что? Может быть, вы что-нибудь?.. А? Может, слышали?
– Нет, нет… Я так… ничего не знаю.
Ностальгия
Пыль Москвы на ленте старой шляпы
Я как символ свято берегу…
Лоло.
Вчера друг мой был какой-то тихий, все думал о чем-то, а потом усмехнулся и сказал:
– Боюсь, что к довершению всего у меня еще начнется ностальгия.
Я знаю, что значит, когда люди, смеясь, говорят о большом горе. Это значит, что они плачут.
Не надо бояться. То, чего вы боитесь, уже прошло.
Я видела признаки этой болезни и вижу их все чаще и чаще.
Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, объедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь и вдруг гаснут.
Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет душа, душа, обращенная на восток.
Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли. Боялись смерти большевистской и умерли – смертью здесь. Вот мы – смертию смерть поправшие!
Думаем только о том, что теперь там. Интересуемся только тем, что приходит оттуда. А ведь здесь столько дела. Спасаться нужно и спасать других. Но так мало осталось и воли и силы…
– Скажите, ведь леса-то все-таки остались? Ведь не могли же они леса вырубить: и некому и нечем.
Остались леса. И трава зеленая, зеленая русская.
Конечно, и здесь есть трава. И очень даже хорошая. Но ведь это ихняя «L'herbe» [45]45
Трава (фр.)
[Закрыть], а не наша травка-муравка.
И деревья у них может быть очень даже хороши, да чужие, по-русски не понимают.
У нас каждая баба знает, – если горе большое и надо попричитать – иди в лес, обними березыньку крепко двумя руками, грудью прижмись и качайся вместе с нею и голоси голосом, словами, слезами, изойди вся вместе с нею, с белою, с русскою березынькой.
А попробуйте здесь:
– Allons аu Bois de Boulogne embrasser le bouleau! [46]46
Пойдемте в Булонский лес обнять березу! (фр.)
[Закрыть]
Переведите русскую душу на французский язык…
Что? Веселее стало?
Помню, в начале революции, когда стали приезжать наши эмигранты, один из будущих большевиков, давно не бывший в России, долго смотрел на маленькую пригородную реченку, как бежит она, перепрыгивая, с камушка на камушек, струйками играет простая, бедная и веселая. Смотрел он, и вдруг лицо у него стало глупое и счастливое:
– Наша речка русская!
Ффью! Вот тебе и третий интернационал!
Как тепло!
Ведь, пожалуй, скоро и там сирень зацветет…
* * *
У знакомых старая нянька. Из Москвы вывезена.
Плавна, самая настоящая – толстая, сердитая, новых порядков не любит, старые блюдет, умеет ватрушку печь и весь дом в страхе держит.
Вечером, когда дети улягутся и уснут, идет нянька на кухню. Там французская кухарка готовит поздний французский обед.
– Asseyez-vous! [47]47
Садитесь (фр.)
[Закрыть]– подставляет она табуретку.
Нянька не садится.
– Не к чему, ноги еще, слава Богу, держат.
Стоит у двери, смотрит строго.
– А вот, скажи ты мне, отчего у вас благовесту не слышно. Церкви есть, а благовесту не слышно. Небось, молчишь! Молчать всякий может. Молчать даже очень легко. А за свою веру, милая моя, каждый обязан вину нести и ответ держать. Вот что!
– Я в суп кладу селлери и зеленый горошек! – любезно отвечает кухарка.
– Вот то-то и оно… Как же ты к заутрени попадешь без благовесту? То-то я смотрю у вас и не ходят. Грех осуждать, а не осудить нельзя… А почему у вас собак нет? Эдакий город большой, а собак раз-два, да и обчелся. И то самые мореные, хвосты дрожат.
– Четыре франка кило, – возражает кухарка.
– Теперь, вон у вас землянику продают. Разве можно это в апреле месяце? У нас-то теперь благодать – клюкву бабы на базар вынесли, первую, подснежную. Ее и в чай хорошо. А ты что? Ты, пожалуй, и киселя-то никогда не пробовала!
– Le president de la republique? [48]48
Президент республики? (фр.)
[Закрыть]– удивляется кухарка.
Нянька долго стоит у дверей у притолки. Долго рассказывает о лесах, полях, о монашенках, о соленых груздях, о черных тараканах, о крестном ходе с водосвятием, чтобы дождик был, зерно напоил.
Наговорится, напечалится, съежится, будто меньше станет и пойдет в детскую к ночным думкам, к старушьим снам – все о том же.
* * *
Приехал с юга России аптекарь. Говорит, что ровно через два месяца большевизму конец.
Слушают аптекаря. И бледные обращенные на восток души чуть розовеют.
– Ну, конечно, через два месяца. Неужели же дольше? Ведь этого же не может быть!
Привыкла к «пределам» человеческая душа и верит, что у страдания есть предел.
Раненый умирал в страшных мучениях, все возраставших. И никогда не забуду, как повторял все одно и то же, словно изумляясь:
– Что же это? Ведь этого не можетбыть!
Может.
Вспоминаем
Горевали мы в Совдепии:
– Умер быт – плоть нашей жизни. Остался один хаос, и дух наш витает над бездною.
Как жить так – над бездною, – совершенно ведь невозможно.
Не сорвёшься сегодня – сорвёшься завтра. Ничего не разберёшь в хаосе, не наладишься, не устроишься. Небо не отделено от земли, земля не отделена от воды – ерунда, бестолочь и чёрная смерть.
А теперь собираемся и вспоминаем:
– А помните, как мы жили-были в Совдепии?
«Жили-были» – значит, была жизнь и был быт. Корявый, уродливый, «смертный» быт – а всё-таки был. Была физиономия жизни.
Так про человека, который плохо выглядит, говорят:
– Лица на нём нет.
Лицо-то есть, да только такое скверное, что и признать его за таковое не хочется.
Так и быт совдеповский был.
Теперь собираемся и вспоминаем:
– Какая была жизнь удивительная!
И народ кругом был удивительный.
Особенно хороши были бабы.
Мужчины, угрюмые, нелюдимые, осторожные, были и незанятны, и опасны. Каждому хотелось перед начальством выслужиться, открыть гидру реакции и донести за добавочный паёк. Бабы реальной политикой не занимались, а больше мелкой торговлишкой и политической сплетней с мистическим налётом.
Мужчина если приносил какую-нибудь спекулятивную муку, так и сам не тешился, и других не радовал.
Сидит мрачный, вздыхает, в глаза не смотрит.
– Вы чего же, товарищ, так дорого лупите-то? Вдвое против последнего.
– Расстреляли многих за спекуляцию, – гудит товарищ, – вот мы и надбавляем, потому – риск большой. Поймают, расстреляют обоих – и тебя, и меня. Меня – зачем продаю, тебя – зачем покупаешь.
– Так это, выходит, что ты за мою же погибель с меня же дерёшь?
Товарищ вздыхает и молчит.
Баба – не то. Баба придёт, оглянется и затрещит, зазвенит, словно кто на швейной машинке шьёт:
– И-и, милая, теперь не то что говорить, думать боишься. Вот везу тебе энту крадену картошку, а сама всё про себя повторяю: не крадена, не крадена! – мыслей боюсь.
– У кого же ты картошку-то крадёшь?
– У себя, милая, у себя. На собственном огороде. Ленин-то с пулемётами сторожит – не позволяет. Ну а мы наловчаемся – ночью накопаем и до свету в город бежим. Очень страшно. Ну а Ленин тоже, сама понимаешь, от слова не отступится, ему это надо.
– Что – надо?
Баба оглядывается и начинает шептать, втягивая в себя воздух со свистом и всхлипом:
– Милая! Ему немецкий царь обещал. Изведи ты мне, говорит, весь православный народ, а я тебя за это в золотом гробу похороню. Подумай только – в золотом гробу! Вот он и старается. Всякому лестно. Доведись хушь нам с тобой – разве отказались бы?
– Ну, ещё бы! Только давай.
Привозила баба и баранину. Откуда-то издалека. Сначала всё вести подавала – скоро будет. Девчонка прибегала, глазами крутила, шептала со свистом и с ужасом непередаваемым:
– Тётенька Лукерья поехамши. Наказали ждать.
Потом прибегала:
– Тётенька Лукерья приехамши. Наказали сказать: что мол, сказано, то сделано.
Потом являлась сама баба. Лицо обветренное и бюст неестественный: под кофтой, у самой подложечки, – подвязан тряпицей вялый сизый лоскут баранины.
– Вот, милая, – торжествует баба. – Получай. Твоё.
Бабу разматывают, усаживают.
Баба величается и рассказывает:
– Еду я, кругом ужасти.
Словом, всё как следует.
– И вот баранину я тебе предоставила. А кроме меня, никто не может. А почему? А потому, что я с понятием. Я твою баранину под собой привезла. Я как села на неё, так шесть часов на ней и проехала. Ни на минуточку не слезла, не сворохнулась. Уж потерплю, думаю, зато моя барыня вкусно поест. Кругом солдаты обшаривают, чуть что – живо нанюхают и отберут.
Мы бабе льстили, хвалили её и называли её Ангел-баба.
Поили бабу чаем – впрочем, без чая и без сахара. Просто какой-то морковкой, травой – словом, что сами пили, тем и потчевали.
Баба пила, дула на блюдечко, нос распаривала – издали смотреть, так совсем будто чай пьёт.
Рассказывала впечатления.
– А в деревне в этой слепая есть. Такая это удивительная слепая, что всё она тебе видит, не хуже зрячего. Такая ей, значит, сила дадена. Старуха уже. У дочки на покое живёт. Так эта слепая всю судьбу нашу наперёд знает, такая ей сила дадена. Так прямо народ удивляется.
– Ну и что же она предсказала?
– Ничего. Ничего, милая ты моя, не предсказала, потому, говорит, ей хоша всё показано, но объявлять запрещено. Вот какие чудеса на свете бывают. А мы живём во грехах и ни о чём не подумаем.
– Так ничего ни разу и не предсказала?
– Одному мужику предсказала. Через месяц, сказала, беспременно помрёт. Болен был мужик-то.
– Ну и что же – умер?
– Нет, милая ты моя. Не умер. Так прямо народ даже удивляется.
Впоследствии баба сделала блестящую карьеру. Воруя собственную картошку и торгуя бараниной «из-под себя», баба так округлила свой капитал, что у одного богатого инженера, собиравшегося удрать за границу, купила на сто тысяч ковров.
– Из щелей дует, избу топить нечем – горе мыкаем, – скромно объясняла она.
Вот соберёмся, вспоминаем былое житьё-бытьё. Ангела-бабу. Едим в ресторанах всякие эскалопы и мутон-шопы [49]49
баранина с пивом (от фр. mouton – баран, chope – кружка пива)
[Закрыть].
– А ведь нигде такой баранины нет, как, помните, баба привозила?
– И не достать нигде, и приготовить нельзя, потому что шесть часов на ней сидеть надо, – кто же при здешнем бешенном жизненом темпе согласится…
– А что-то та, слепая, что не хуже зрячего? О чём она теперь помалкивает? И что-то ей теперь дадено?
Дачный сезон
В Париже наблюдается удивительное для нас, иностранцев, явление – в Париже нет природных сезонов.
В России, как известно каждому, существует четыре времени года, или сезона: весна, лето, осень и зима.
Весной носят калоши, драповое пальто, держат экзамены и ищут дачу.
Летом живут на даче, носят соломенные шляпы и батистовые платья, давят мух и купаются.
Осенью носят калоши и драповое пальто, держат переэкзаменовки, ищут квартиры и шьют новые платья.
Зимой носят новые платья, меховые шубы, топят печи, отмораживают носы, катаются на коньках и простуживаются.
В Париже все навыворот.
В феврале носят соломенные шляпы, в июле – бархатные.
В январе – легкие манто, в июне – мех.
В июле дачу ищут и экзамены держат. В декабре ходят голые.
Ничего не разберешь!
Сезонов природных нет.
Есть какие-то странные: сезон тафты, сезон тюля, сезон бархата, сезон тальеров, сезон вышивки, сезон крепа, сезон скачек. Выдумывают эти сезоны портнихи, и длятся они неравно. Иной два месяца, иной три недели – никак его не ухватишь и не подладишься.
По погоде тоже ничего заметить нельзя. В феврале бывают такие дни, которые июньским не уступят.
И приходится жить не своим разумом, а смотреть, что люди делают.
Вот теперь, видим, отправляются люди на дачу. Ну и мы всколыхнулись. Значит, у них весна считается, пора и нам об отдыхе подумать.
Только французы как-то беспечно к этому делу относятся. Просто надумают какое-нибудь место – в горах или у моря, – пошлют открытку в намеченную гостиницу, получат ответ, набьют чемоданы и марш.
Очень уж это все на русский обычай легкомысленно. У нас не так.
У нас начинали искать дачу в марте, когда еще снег лежал и ничего видно не было.
– Здесь у нас чудесный цветник, – поет дачевладелица, указывая на снежную полянку.
– Тут вам все беседки и фонтаны. Сейчас, конечно, ничего не видно – все под снегом, но летом – благодать.
Приезжаете летом с детьми и возами – ни цветника, ни беседки. Один частокол и палка из-под розы. А вместо фонтана собачья будка. И сама хозяйка удивляется:
– С чего вы взяли? Цветы? Ничего подобного. Цветы вы должны сами садить. От хозяйки вам полагается только пространство. А фонтан – так это не дай Бог! Сами знаете.
– А что?
– А то, что если кто из вас, не дай Бог, напьется, да, не дай Бог, ночью домой вернется, да, не дай Бог, упадет, да, не дай Бог, головой в фонтан попадет, так тут с полицией хлопот не оберешься.
Искали дачу с любовью. Ездили во все стороны.
Бывали интересные казусы.
Один отец семейства поехал нанимать дачу по Николаевской дороге, а нанял в Павловске. Три дня пропадал и ничего жене объяснить не мог. Повторял только, что очень трудно было, и двое суток проспал.
А другой отец семейства поехал в Парголово, пропадал две недели, вернулся какой-то весь распаренный и сказал, что из сил выбился – никак не мог подходящей дачи найти. А из кармана у него зубочистка вывалилась, с надписью: «Бристоль. Варшава». И как она к нему попала, так до сих пор – вот уже восемь лет – никто додуматься не может. А в то лето так и на дачу не поехали. Некогда было – все про зубочистку разбирали, и он, и жена.
А третий отец семейства толковый был. Велено ему было найти дачу в Стрельне – ну и нашел. И так скоро, в тот же день. Вернулся веселый.
– Манечка, милая, все, как ты хотела. Дача чудесная, старинная, хозяин ее на слом приговорил, уж еле я его упросил. Такой упрямый: надо, мол, сломать, и баста. Развалится, мол, дача, до осени не достоит. Сунул ему тысячу рублей отступного, чтобы, значит, не ломал. Согласился.
Жена слушает, радуется.
– Какой, – говорит, – у меня Петя толковый! Делец!
Переехали. Живут, удивляются. Все обои, как живые, шевелятся, вечером прямо через стену луна светит. Жутко!
Прожили месяц, а на второй обвалился угол и кота придавил.
Ну, делать нечего, выругали хозяина – как смел дать себя уговорить – и съехали.
Ах, много чудесных историй связано с дачными воспоминаниями… Теперь они кажутся прекрасными легендами.
* * *
Ищут дачи наши парижане:
– Говорят, около моря есть какое-то место, что-то вроде Аршанж, не то Агранж.
– Сырость, наверное. Лучше в горы. Слыхал я тут, есть горы – не то Шанвиль, не то Банвиль… как-то так. Дешево, воздух, публики никакой, уединенно – совсем дыра. Можно отдохнуть.
– Я не хочу дыру. В дыре музыки нет, а я хочу ходить на музыку.
– Около самого Парижа есть хорошие места.
– Ну, там, наверное, много русских будет. Начнут лезть.
– Или куда-нибудь в глушь забраться, в горы.
– В горах моря нет, а в глуши скучно.
* * *
Господи, Господи, пошли Ты нам, беженцам Твоим, дачу. Чтоб была она высоко в горах на самом море, стоила бы дешево в глухой дыре с музыкой, и чтоб была она уединенная, и множество чтобы было там знакомых, и чтоб никто к нам не лез, а чтобы мы сами ко всем лезли, Господи!
Воскресенье
Душно… Душно…
Парижане за неделю точно выдышали весь воздух и на воскресенье его не хватает.
Или так кажется, потому что именно в воскресенье полагается вздохнуть свободно – тут-то и видишь, что воздуха нет.
Магазины заперты. Весь Париж отхлынул куда-то по трамваям, автобусам, по кротовым коридорам метро.
Дышать поехали.
В такси непривычные парочки. Она – в нитяных перчатках и хорошей шляпке или в хороших перчатках и скверной шляпке – в зависимости от магазина, в котором она служит. Он – в щегольском галстуке и помятом котелке, или наоборот в помятом галстуке и щегольском котелке – тоже в зависимости от магазина, где он состоит приказчиком. Оба напряженно улыбаются от удовольствия и конфуза собственным великолепием.
В трамваях более солидная публика, знающая суетность мирских наслаждений и понявшая, что истинное счастье – деньги, не расточаемые, а накопляемые и сберегаемые в банке. В трамваях лавочники с женами и детьми, пузатые старички с толстоносыми старухами.
Все едут. Уехали.
* * *
В маленькой русской церковке идет богослужение.
Седобородый священник умиленно и торжественно говорит прекрасные слова молитвы: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси…»
Господин с тонко-выработанным пробором – сколько лысина позволяет – благоговейно склонил голову и шепчет соседу:
– А я забыл ваш телефон. Мерси. Ваграм или Сакс?
– Онз сис, Ваграм, – истово крестясь, отвечает сосед.
Молится седобородый священник о русских митрополитах, может быть уже убитых, о Православной Церкви оскверненной, с поруганными иконами, с ослепленными ангелами…
– Интересно знать, – молитвенно закатывая глаза, шепчет дама, крашеная в рыжее, даме, крашеной в черное, – настоящие у нее серьги или нет.
– А мне вчера в концерте понравилось платье Натальи Михайловны. Я бы сделала себе точно такое, только другого цвета и другого фасона.
На паперти, щурясь от яркого желтого солнца, толпятся нищие… духом и толкуют про свои дела.
– Сговорились встретиться здесь с Николай Иванычем и вот уже полчаса жду.
– А, может быть, он внутрь прошел?
– Ну! Чего ради!
– О чем это там братья Гвоздиковы с Копошиловым говорят? И Синуп с ними…
– Кабаре открывать собираются.
– Не кабаре, а банк.
– Не банк, а столовую.
– Кооператив с танцами.
* * *
Надо дышать.
Пойдем в «Jardin des Plantes».
Душный ветер гонит сорную пыль.
Треплет праздничные юбки, завивает их о кривые ноги воскресных модниц в нитяных перчатках и пышных шляпках (и наоборот), сбивает с шага ребятишек, подшлепываемых заботливой материнской рукой. Посыпает песком мороженое и вафли у садового ларька.
Деревья качают тяжелыми тусклыми листьями, как непроявленные картинки декалькамани.
Длинное здание с решетками. Это клетки.
В одной клетке спит большая серая птица. В другой спит-дышит чья-то бурошерстая спина. Гиена, что ли.
В третьей – лев. Маленький, желтый, аккуратный, весь вылизанный с расчесанной дьяконской гривой.
Сидит в профиль и зевает, защурив глаза.
Перед клеткой толпа в пять рядов. Напирают, давят, лезут, поднимают детей на плечи, чтобы лучше видели, как лев зевает.
Нежная мать с перьями дикобраза на шляпе высоко подняла крошечную голубоглазую девочку.
– Regarde la grosse bébête! Vois-tu la grosse bébête?
Девочка таращит глаза, но между нею и «grosse bébête» поместилась толстая курносая дама с сиренево-розовыми щеками.
Девочка видит только ее и все с большим ужасом таращит на нее голубые глазенки.
– La grosse bébête!
Вырастет девочка большая и будет говорить:
– Какие у меня странные воспоминания детства. Будто показывали мне какого-то льва с сиреневыми щеками в полосатой кофте, толстого, толстого с бюстом и в корсете… Что это за львы были в те времена? Чудеса! А так ясно помню, словно вчера видела.
* * *
В ресторанчике услужающая мамзель заботливо вычеркивает перед вашим носом каждое выбранное вами в меню блюдо и, глядя в ваши, полные кроткого упрека, глаза, посоветует есть морковь.
– Des carottes.
Но ведь есть ресторанчики с определенным обедом. Это спасение для человека с дурно направленной фантазией, выбирающего то, чего нет. В ресторане с определенным обедом вам дадут две редиски, потом пустую тарелку, сбоку которой, по самому бордюру, ползет подсаленный (для того, чтобы полз) огрызок говядины. Подается он под различными псевдонимами – côtelette d'agneau, boeuf frit, chateaubriant, lapin, gigot, poulet. Отвечает за быка, зайца, курицу и голубя. Не пахнет ни тем, ни другим, ни третьим. Пахнет теплой мочалой.
Потом подадут пустую тарелку.
– Отчего она рыбой пахнет?
– Saumon suprême.
– Ага!
Но ее совсем не видно этой saumon suprême. Верно кто-нибудь раньше вас съел.
Потом вам дают облизать тарелку из-под шпината (в ресторанах получше музыка при этом играет что-нибудь из «Тоски»).
Потом вы облизываете невымытое блюдечко из-под варенья и торопитесь на улицу, чтобы успеть, пока не закрылись магазины, купить чего-нибудь съедобного.
* * *
Театров много. Французы играют чудесно.
В одном театре идет Ки-Ки, и другом Фи-Фи, в третьем Си-Си.
Потом вы можете увидеть:
«Le danseur de Madame», «Le bonheur de ma femme», «Le papa de maman», «La maman de papa», «La maman de maman», «Le mari de mon mari», «Le mari de ma femme».
Можете посмотреть любую; это то же самое, что увидеть все. Некоторые из них очень серьезны и значительны. Это те, в которых актер в седом парике подходит к самой рампе и говорит проникновенно:
– Faut être fidèle à son mari.
Растроганная публика рукоплещет и сидящий в десятом ряду русский тихо поникает головой:
– Как у них прочны семейные устои. Счастливые!
– Fidèle à son mari! – рычит актер и прибавляет с тем же пафосом, но несколько нежнее:
– Et à son amant.
* * *
Кончается душный день.
Ползут в сонных трамваях сонные лавочницы, поддерживая отяжелевших сонных ребят. Лавочники, опираясь двумя руками на трость, смотрят в одну точку. Глаза их отражают последнюю страницу кассовой книги.
У всех цветы. Уставшие, с ослизлыми от потных рук стеблями, с поникшими головками.
Дома их поставят на прилавок между ржавой чернильницей и измусленной книжкой с адресами. Там тихо, не приходя в себя, умрут они такие сморщенные и бурые, что никто даже и не вспомнит, как звали их при жизни – тюльпанами, полевыми астрами, камелиями или розами.
Устало и раздраженно покрякивая, тащат такси целующиеся парочки в нитяных перчатках и хороших шляпках (или наоборот). И в их руках умирают потерявшие имя и облик цветы.
По кротовым коридорам гудят-гремят последние метро. Качаясь на ногах, выползают из дыр земных усталые, сонные люди.
Они как будто на что-то надеялись сегодня утром и надежда обманула их.
Вот отчего так горько оттянуты у них углы рта и дрожат руки в нитяных перчатках.
Или просто утомила жара и душная пыль…
Все равно. Воскресный день кончен.
Теперь – спать.
* * *
Наши радости так похожи на наши печали, что порою и отличить их трудно…








