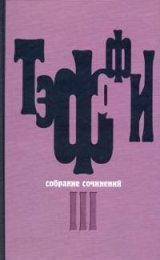
Текст книги "Том 3. Все о любви. Городок. Рысь"
Автор книги: Надежда Тэффи
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 23 страниц)
Тоска
Не по-настоящему живем мы, а как-то «пока»,
И развилась у нас по родине тоска,
Так называемая ностальгия.
Мучают нас воспоминания дорогие,
И каждый по-своему скулит,
Что жизнь его больше не веселит.
Если увериться в этом хотите
Загляните хотя бы в «Thе Kitty»,
Возьмите кулебяки кусок.
Сядьте в уголок,
Да последите за беженской братией нашей,
Как ест она русский борщ с русской кашей.
Ведь чтобы так – извините – жрать,
Нужно действительно за родину-мать
Глубоко страдать.
И искать, как спириты с миром загробным,
Общения с нею хоть путем утробным.
* * *
Тоскуют писатели наши и поэты,
Печатают в газетах статьи и сонеты.
О милом былом,
Сданном на слом.
Lolo хочет звона московских колоколен,
Без колоколен Lolo совсем болен,
Аверченко, как жуир и фант,
Требует – восстановить прежний прейскурант
На все блюда и на все вина,
Чтобы шесть гривен была лососина,
Два с полтиной бутылка бордо
И полтора рубля турнедо.
Тоже Москву надо
И Дону-Аминадо.
Поет Аминадо печальные песни:
Аминадо, хоть тресни,
Хочет жить на Пресне.
А публицисты и журналисты,
И лаконичны, и цветисты,
Пишут, что им нужен прежний быт,
Когда каждый был одет и сыт.
(Милые! Уж будто и в самом деле
Все на Руси, сколько хотели,
Столько и ели?)
* * *
У бывшего помещика ностальгия
Принимает формы другие:
Эх-ма! Ведь теперь осенняя пора!
Теперь бы махнуть на хутора!
Вскочить бы рано, задолго до света,
Пока земля росою одета,
Выйти бы на крыльцо,
Перекинуть бы через плечо ружьецо,
Свистнуть собаку, да в поле
За этими, ушатыми… как их… зайцы, что-ли?..
Идти по меже. Собака впереди.
Веет ветерок. Сердце стучит в груди…
Вдруг заяц! Ту-бо! Смирно! Ни слова!
Приложился… Трах! Бац! Готово!
Всадил дроби заряд
Прямо собаке в зад.
А потом, вечерком, в кругу семейном чинном
Выковыривать дробинки ножом перочинным…
* * *
Ну что же, я ведь тоже проливала слезы
По поводу нашей русской березы:
«Ах, помню я, помню весенний рассвет!
Ах, жду я, жду солнца, которого нет…
Вижу на обрыве, у самой речки
Теплятся березыньки – божьи свечки.
Тонкие, белые – зыбкий сон
Печалью, молитвою заворожен.
Обняла бы вас, белые, белыми руками,
Пела, причитала бы, качалась бы с вами…»
* * *
А еще посмотрела бы я на русского мужика,
Хитрого, ярославского, тверского кулака,
Чтоб чесал он особой ухваткой,
Как чешут только русские мужики, —
Большим пальцем левой руки
Под правой лопаткой.
Чтоб шел он с корзиной в Охотный ряд,
Глаза лукаво косят,
Мохрится бороденка
– Барин! Купи куренка!
– Ну и куренок! Старый петух.
– Старый?! Скажут тоже!
Старый! Да ен, може,
На два года тебя моложе!
* * *
Эх, видно, все мы из одного теста!
Вспоминаю я тоже Москву, Кремль, Лобное место…
Небо наше синее – синьки голубей…
На площади старуха кормит голубей:
«Гули-гули, сизые, поклюйте на дорогу,
Порасправьте крылышки, да кыш-ш… Прямо к Богу.
Получите, гулиньки, Божью благодать
Да вернитесь к вечеру вечерню ворковать».
…Плачьте, люди, плачьте, не стыдясь печали!
Сизые голуби над Кремлем летали!
* * *
Я сегодня с утра несчастна:
Прождала почты напрасно,
Пролила духов целый флакон
И не могла дописать фельетон.
От сего моя ностальгия приняла новую форму
И утратила всякую норму,
Et ma position est critique.
Нужна мне и береза, и тверской мужик,
И мечтаю я о Лобном месте —
И всего этого хочу я вместе!
Нужно, чтоб утолить мою тоску,
Этому самому мужику,
На этом самом Лобном месте
Да этой самой березой
Всыпать, не жалея доброй дозы,
Порцию этак штук в двести.
Вот. Хочу всего вместе!
Счастье
(Рассказ петербургской дамы)
Мне удивительно везет! Если бы мои кольца не были распроданы, я бы нарочно для пробы бросила одно из них в воду, и если бы у нас еще ловили рыбу, и если бы эту рыбу давали нам есть, то я непременно нашла бы в ней брошенное кольцо. Одним словом – счастье Поликрата.
Как лучший пример необычайного везенья, расскажу вам мою историю с обыском.
К обыску, надо вам сказать, мы давно были готовы. Не потому, что чувствовали или сознавали себя преступниками, а просто потому, что всех наших знакомых ужо обыскали, а чем мы хуже других.
Ждали долго – даже надоело. Дело в том, что являлись обыскивать обыкновенно ночью, часов около трех, и мы установили дежурство – одну ночь муж не спал, другую тетка, третью – я. А то неприятно, если все в постели, некому дорогих гостей встретить и занять разговором, пока все оденутся.
Ну ждали-ждали, наконец и дождались. Подкатил автомобиль. Влезло восемь человек сразу с черной и с парадной лестниц и шофер с ними.
Фонарь к лицу:
– Есть у вас разрешение носить оружие?
– Нету.
– Отчего нету?
– Оттого, что оружия нету, а из разрешения в вас палить ведь не станешь.
Подумали – согласились.
Пошли по комнатам шарить. Наши все, конечно, из постелей повылезли, лица зеленые, зубами щелкают, у мужа во рту часы забиты, у тетки в ноздре бриллиант – словом, все как полагается.
А те шарят, ищут, штыками в стулья тычут, прикладами в стену стучат. В кладовой вытащили из-под шкапа старые газеты, разрыли, а в одной из них портрет Керенского.
– Ага! Этого нам только и нужно. Будете все расстреляны.
Мы так и замерли. Стоим, молчим. Слышно только, как у мужа во рту часы тикают, да как тетка через бриллиант сопит.
Вдруг двое, что в шкап полезли, ухватили что-то и ссорятся.
– Я первый нашел.
– Нет, я. Я нащупал.
– Мало что нащупал. Нащупал да не понюхал.
– Чего лаешься! Присоединяй вопще, там увидим.
Мы слушаем и от страха совсем пропали. Что они такое могли найти? Может быть, труп какой-нибудь туда залез?
Нет, смотрим, вынимают маленькую бутылочку, оба руками ухватили.
– Политура!
И остальные подошли, улыбаются.
Мы только переглянулись:
– И везет же нам!
Настроение сразу стало у меня такое восторженное.
– Вот что, – говорят, – мы вас сейчас арестовывать не будем, а через несколько дней.
Забрали ложки и уехали.
Через несколько дней получили повестки – явиться на допрос. И подписаны повестки фамилией «Гаврилюк».
Думали мы, думали – откуда нам эта фамилия знакома, и вспомнить не могли.
– Как будто Фенькиного жениха Гаврилюком звали, – надумалась тетка.
Мы тоже припомнили, что как будто так. Но сами себе не поверили. Не может пьяный солдат, икавший в кухне на весь коридор, оказаться в председателях какой-то важной комиссии по допросной части.
– А вдруг!.. Почем знать! И зачем мы Феньку выгнали!
Фенька была так ленива и рассеянна, что вместо конины сварила суп из теткиной шляпы. Шляпа, положим, была старая, но все-таки от конины ее еще легко можно было отличить.
Никто из нас, конечно, есть этого супа не стал. Фенька с Гаврилюком вдвоем всю миску выхлебали.
– Что-то будет!
Однако пришлось идти.
Вхожу первая. Боюсь глаза поднять.
Подняла.
Он! Гаврилюк!
Сидит важный и курит.
– Почему, – говорит, – у вас портрет Керенского контрацивурилицивурилена?
Запутался, покраснел и опять начал:
– Концивугирицинера…
Покраснел весь и снова:
– Костривуцилира…
Испугалась я. Думаю, рассердится он на этом слове и велит расстрелять.
– Извините, – говорю, – товарищ, если я позволю себе прервать вашу речь. Дело в том, что эти старые газеты собирала на предмет обворота ими различных предметов при выношении, то есть, при выносьбе их на улицу бывшая наша кухарка Феня, прекрасная женщина. Очень хорошая. Даже замечательная.
Он скосил на меня подозрительно левый глаз и вдруг сконфузился.
– Вы, товарищ мадам, не беспокойтесь. Это недоразумение, и вам последствий не будет. А насчет ваших ложек, так мы расстрелянным вещи не выдаем. На что расстрелянному вещи? А которые не расстреляны, так те могут жаловаться в… это самое… куды хочут.
– Да что вы, что вы, на что мне эти ложки! Я давно собираюсь пожертвовать их на нужды… государственной эпизоотии.
Когда мы вернулись домой, оказалось, что наш дворник уже и мебель нашу всю к себе переволок – никто не ждал, что мы вернемся.
Ну, не везет ли мне, как утопленнику!
Серьезно говорю – будь у меня кольцо, да проглоти его рыба, да дай мне эту рыбу съесть, уж непременно это кольцо у меня бы очутилось.
Дико везет!
Контр
Париж.
Улица по ту сторону Сены – для нас, по сю сторону – для них.
Меблированная комната (шестиперсонная кровать, стол, два стула и пепельница).
Это – положение географическое.
Положение психологическое: тошно, скучно, не то спать хочется, не то просто – все к черту.
Сидят они двое – Сергей Иванович и Николай Петрович. Сергей Иванович – хозяин, Николай Петрович – гость.
Поэтому на столе сухари и в стаканах недопитый чай.
– Хотите еще? – А?
– Чаю хотите?
– Нет, ну его к ч… то есть спасибо. Не хочется.
– Тощища, – говорит хозяин и тут же вспоминает, что хозяину так говорить не полагается, и, придав лицу светский вид (вроде птицы, которая, собираясь клюнуть, смотрит боком), спрашивает:
– В театрах бываете?
– Какие там театры? До того ли теперь!
– А что?
– Как что? Россия страдает.
– Ах, вы про это!
– И потом – дрянь театры, а лупят, как за путное.
– Гм…
– Гм…
– Нет, я так.
– Давали бы контрамарки, так я бы, пожалуй, ходил.
– А ну…
– Что?
– Нет, просто зевнулось.
– Подпругин приехал. Слыхали, Егор Иваныч? Остановился в номерах.
– Где?
– В «Кляридже». Хвалит. Очень, говорит, чисто, и звонки. Позвонить – официант является. У них, говорит, в Архангельске, тоже хорошая гостиница, только, говорит, если звонок нажмешь, обязательно клоп выбежит.
– Собака он, Егор Иваныч. Никому от него пользы нет. И что ему в Париже делать? Раздал бы деньги, да и к черту – пусть назад едет.
– Куда же? Ведь его там повесят.
– Ну и пусть вешают, какая цаца, подумаешь!
– А он серебряную свадьбу справлять хочет. Наши собираются подарок подносить!
– Подарок! Я бы ему поднес подарок!
– А?
– Тут, говорят, собачье кладбище очень шикарное. Так вот, разориться разве да купить ему в складчину фамильный склеп на собачьем кладбище? А? Ха-ха! Интересно знать, в чьей он контрразведке служит?
– Что?
– Все же служат. Кто просто в разведке, кто в контрразведке. В контр дороже платят. И еще агитаторы есть – хорошо зарабатывают. Попадейкин – контразербайджанский агитатор.
– А что же он делает?
– Он у Лярю обедает. Я сам видал. Дальнейшего ничего не знаю. Один раз чуть было меня не подцепил, ну да я не так прост.
– А что же он?
– Да подошел и говорит: «Как поживаете, Сергей Иваныч? Что слышно новенького?» Понимаете? Нашел простачка. Так я ему и рассказал! Я говорю: «Спасибо, ничего особенного». Ну, он и отскочил. Ловко? Отбрил?
– А знаете что-нибудь?
– Да мало ли что. Все-таки вращаешься в обществе, слышишь. Вот был вчера у Булкиных. Они очень раздражены против Зайкиных. У Зайкиных дочь, говорят, в южноафганистанской контрразведке служит. А сам Булкин, по-моему, к контрсоветской румынской контрразведке сильно причастен.
– Из чего вы это заключаете?
– Уа-ды…
– Что?
– Зевнулось. Заключаю? По различным признакам. Хотите чаю?
– Спасибо, не хочу. По каким признакам?
– А то бы выпили. Я позвоню.
– Не надо. По каким при…
– Скажите, вы с Сопелкиным встречаетесь?
– Видел раза два.
– Гм…
– А что?
– Агент большевиков.
– Господь с вами! Бывший жандарм.
– Ничего не значит. О чем он с вами говорил?
– Подождите, дайте припомнить.
– Я не настаиваю. Можете и не рассказывать.
– Позвольте… Один раз, точно не помню, про водку. Водочный завод какой-то открывается. Так он говорил, что вот, мол, мы удрали и водочка за нами прибежала. С большим умилением говорил.
– Так-с. А второй раз?
– Второй… Гм… Я бы, пожалуй, чайку выпил, если вас не побеспокоит.
– Хорошо, я звоню. Так вот, о чем…
– А знаете, говорят, контр Попов тоже в разведке… то есть я хотел сказать, Попов в контрразведке, в монархической контрагитации, а Семгины – вся семья контрагитирует за Савинкова. Они говорят, что в газетах было, будто Савинков не рожден, а отпочковался, и что это имеет огромное влияние на польские умы, а также очень возбуждает народные массы.
– А о чем вы говорили с Сопелкиным?
– Да так, пустяки. Он рассказывал тут про одного типа, который будто и в разведке, и в контрразведке служит, сам на себя доносы пишет и с двух сторон жалованье получает. И будто ничего с ним поделать нельзя, потому что от взаимного контрдействия двух сил существо его неуязвимо.
– Вот прохвост! Кто же это? Ловкий! Надо бы на него ориентироваться.
– Слушайте… Вы никому не скажете? Даете слово?
– Ну разумеется, даю.
– Ей-богу? Никому не скажете? Смотрите, а то выйдет, будто я сплетник.
– Да ну же! Говорю же, что не скажу.
– Ну, так я должен вам сказать, что этот самый человек, который, гм… ну да что там, скажу прямо: говорят, что это – вы. Только помните, чтоб не вышло сплетен. А?
Тонкие письма
Из Совдепии стали получаться письма все чаще и чаще.
Странные письма.
Как раз на основании этих писем растет и крепнет слух, будто в Совдепии все помешались.
Журналисты и общественные деятели, пытавшиеся основывать на этих письмах свои выводы об экономическом, политическом и просто бытовом положении России, залезли в такие густые заросли ерунды, что даже люди, свято верившие в неограниченность русских возможностей, стали поглядывать косо.
Несколько таких писем попало мне в руки.
Одно из них, адресованное присяжному поверенному и написанное его братом-врачом, начиналось обращением:
«Дорогая дочурка!»
– Иван Андреич! Почему же вы оказались дочуркой собственному брату?
– Ничего не понимаю. Догадываться боюсь.
Новости сообщались в письме следующие:
«У нас все отлично. Анюта умерла от сильного аппетита…»
– Должно быть, от аппендицита, – догадалась я.
«…Вся семья Ваньковых тоже вымерла от аппетита…»
– Нет, что-то не то…
«…Петр Иваныч вот уже четыре месяца как ведет замкнутый образ жизни. Коромыслов завел замкнутый жизни уже одиннадцать месяцев тому назад. Судьба его неизвестна.
Миша Петров вел замкнутый образ жизни всего два дня, потом было неосторожное обращение с оружием, перед которым он случайно стоял. Все ужасно рады».
– Господи! Господи! Что же это такое! Ведь это не люди, а звери! Человек погиб от несчастного случая, а они радуются.
«…Заходили на твою квартиру. В ней теперь очень много воздуха…»
– Это еще что за штука? Как прикажете понять?
– Думать боюсь! Не смею догадаться!
Кончалось письмо словами:
«Пишу мало, потому что хочу вращаться в свете и не желаю вести замкнутый образ жизни».
* * *
Долго оставалась я под тяжким впечатлением, произведенным этим письмом.
– Знаете, какое горе, – говорила я знакомым. – Ведь брат-то нашего Ивана Андреича сошел с ума. Называет Ивана Андреича дочуркой и пишет такое несуразное, что даже передать стесняюсь.
Очень жалела я беднягу. Хороший был человек.
Наконец узнаю – какой-то француз предлагает отвезти письмо прямо в Петроград.
Иван Андреич обрадовался. Я тоже собралась приписать несколько слов – может быть, и не совсем спятил, может, что-нибудь и поймет.
Решили с Иваном Андреичем составить письмо вместе. Чтобы было просто и ясно и для потускневшего разума понятно.
Написали:
«Дорогой Володя!
Письмо твое получили. Как жаль, что у вас все так скверно. Неужели правда, будто у вас едят человеческое мясо? Этакий-то ужас! Опомнитесь! Говорят, у вас страшный процент смертности. Все это безумно нас тревожит. Мне живется хорошо. Не хватает только вас, и тогда было бы совсем чудесно. Я женился на француженке и очень счастлив.
Твой брат Ваня».
В конце письма я приписала:
«Всем вам сердечный привет.
Тэффи».
Послание было готово, когда зашел к нам общий наш друг адвокат, человек бывалый и опытный.
Узнав, чем мы занимались, он призадумался и сказал серьезно:
– А вы правильно письмо написали?
– То есть… что значит «правильно»?
– А то, что вы можете поручиться, что вашего корреспондента за это ваше письмо не арестуют и не расстреляют?
– Господь с вами! Самые простые вещи – за что же тут!
– А вот разрешите взглянуть.
– Извольте. Секретов нет.
Он взял письмо. Прочел. Вздохнул.
– Так я и знал. Расстрел в двадцать четыре часа.
– Ради Бога! В чем дело?
– Во всем. В каждой фразе. Прежде всего – вы должны писать в женском роде, иначе вашего брата расстреляют, как брата человека, сбежавшего от призыва. Во-вторых, не должны писать, что получили от него письмо, ибо переписка запрещена. Потом – не должны показывать, что знаете, как у них скверно.
– Но как же тогда быть? Что же тогда писать?
– А вот разрешите, и я вам это самое письмо приведу в надлежащий вид. Не беспокойтесь – они поймут.
– Ну, Бог с вами. Приводите.
Адвокат пописал, почиркал и прочел нам следующее:
«Дорогой Володя!
Письма твоего не получал. Очень хорошо, что у вас так хорошо. Неужели правда, что у вас уже не едят человеческого мяса? Этакую-то прелесть! Опомнитесь! Говорят, у вас страшный процент рождаемости. Все это безумно нас успокаивает. Мне живется плохо. Не хватает только вас, и тогда было бы совсем скверно… Я вышла замуж за француза и в ужасе.
Твоя Иван-сестра».
Приписка:
«Всех вас к черту. Тэффи».
– Ну вот, – сказал адвокат, мрачно полюбовавшись своим произведением и проставив, где следует, запятые. – Вот в таком виде можете посылать без всякого риска. И вы целы, и получатель жив останется. И все же письмо будет получено. Так сказать – налаженная корреспонденция.
– Боюсь только насчет приписки, – робко заметила я, – как-то уж очень грубо.
– Именно так и нужно. Не расстреливаться же людям из-за ваших нежностей.
– Все это чудесно, – вздохнул Иван Андреич. – И письмо, и все. А вот только, что они о нас подумают? Ведь письмо-то, извините, идиотское.
– Не идиотское, а тонкое. А если даже и подумают: вы обыдиотились, – велика беда. Главное, что живы. Не все по нынешним временам могут живыми родственниками похвастаться.
– А вдруг они… испугаются?
– Ну, волков бояться – в лес не ходить. Хотят письма получать, так пусть не пугаются.
* * *
Письмо послано.
Господи! Господи! Спаси и сохрани.
Наш май
[текст отсутствует]
Карандаш
В Совдепии совсем нет бумаги. Не на чем печатать пресловутые декреты.
Многого там нет. О многом должно быть уже и забыли.
Помню я одну из последних радостей моего совдепского жития: мне подарили карандаш. Самый простой карандаш Фабера номер второй.
Но тогда это была уже большая редкость, давно не виданная.
– Какая прелесть! – говорила я, рассматривая подарок. – Какое чудесное душистое красное дерево! А графит, смотрите, какой ровный: ровный, круглый – точно он таким рождается.
– Это не графит, а свинец, – поправил подаривший.
– Разве? А по-моему графит…
– Не знаю. Мы ведь вообще ничего не знаем. Вот, может быть, видим эту штуку последний раз. Всю жизнь была она с нами, каждый день вертели ее в руках и почти не видели. И называется так диковинно – «карандаш». Что за «карандаш» такой? Откуда такое слово? Никто, вероятно, и не знает. Вот жил такой карандаш всю жизнь с нами. И не замечали мы его. А какой красивый – ровный, шестигранный, полированный, удобный, приятный. В сущности, мы, наверное, каждый раз испытывали удовольствие от общения с ним. Тайное, неосознанное и неотмеченное. Как мы вспомним его, когда его не будет? Была такая чудесная палочка с непонятным названием. И ничего мы о ней не знали, кроме того что она «карандаш». А кто ее выдумал, из чего сделал, почему так назвал – ничего не знаем и не вспомним. Телеграфы и телефоны, и машины, и паровозы – этого мы не забудем. Это так называемые большие «чудеса современной техники». Как их забудешь – они мир двигали. А вот бумага – простая писчая бумага – задумывались ли вы когда-нибудь над нею. Из чего она сделана?
– Из тряпок, из дерева, право не знаю – смотря какая, – отвечала я.
– И я не знаю. Из чего, как, кто выдумал? А какая чудесная вещь! Взгляните: белая, гладкая, почти не имеет третьего измерения – такая тонкая. Сделана, говорите вы, из дерева, из какой-нибудь бурой корявой сосны. Разве это не чудо? И главное – до чего красиво! Разве не было для нас для всех тайной радостью дотрагиваться до этих гладких шелковистых листов. Мы-то привыкли, не чувствовали, что это радость. А случалось вам видеть, как мужик в деревне развертывает листок газеты, или письма, с каким благоговением ощупывает заскорузлыми, плохо гнущимися пальцами тонкую гибкую полоску почти без третьего измерения. Вот, может быть, скоро не будет бумаги – наглядимся, налюбуемся, нарадуемся на нее, пока есть. А имя у нее тоже какое странное – «бумага». Откуда это?
Он подумал и продолжал:
– Странная была жизнь. Все время нас радовали. Только и делали, что радовали, а мы и не замечали этого. Каждая пуговица вашего платья из кожи вон лезла, чтобы быть красивой. Самая мелкая ерунда – ушко у иголки – ну какие к нему можно предъявлять требования? Лишь бы нитка влезла, вот и все. Так ведь и эта, самая ничтожная из ничтожных, деталь нашего обихода считала своим долгом хоть позолотиться что ли вам на радость. Или какая-нибудь пыльная тряпка, которая фабриковалась-то именно для этого самого унизительного дела – вытирать собою пыль – и та не отказала себе в возможности украситься каким-то красным бордюрчиком с бурыми квадратиками – а все для вас, для вашей радости. И видели-то вы ее может быть раз в год, когда зазевавшаяся прислуга забывала ее в углу на этажерке, и вы сердито швыряли ее ногой в коридор; а вот для этого самого момента и разукрасили ее на фабрике: художник сочинял рисунок – красивый бордюрчик с бурыми квадратами, мастер подбирал краски, и, если своих подходящих не находилось – выписывал их из-за границы, хлопотал, платил пошлины, прятал проект от конкурентов. А потом ткачи работали, высчитывали нитки, чтобы тряпка вышла не какая-нибудь, а рисунчатая, потом рабочие бастовали, потом их усмиряли, и все для того, чтобы удалась пыльная тряпка отечеству на славу, нам на утешение.
– Стекол скоро совсем не будет. Половина окон в городе досками забита. Во время революций больше всего стекла страдают. Теперь, говорят, в России стекла хватит ровно на один переворот, и кончено. Будем жить без стекла. Сначала трудно будет, потом привыкнем и забудем, что за стекло такое было. Начнем вспоминать, детям рассказывать: твердое, прозрачное, финикияне выдумали; все через него видно, а насквозь пройти не пускает. Прямо чудо из чудес. Дети послушают и перестанут нас уважать – зачем врем без толку.
Сколько неисчислимых радостей было у нас! Сколько чудес!
Зонтики, зубные щетки (их давным-давно уже нет!), спички (и их нет).
– Спички – это были такие чудесные палочки. Если потрешь эту палочку о шершавую поверхность, то на конце ее появлялся огонь. Из этой маленькой палочки каждый мог добыть и свет, и тепло. В каждой жил сухой огонек. Кто хотел, мог хоть полный карман набить себе таких огоньков. Люди носили огоньки с собой в коробке, и никто не удивлялся – скучно жили, не понимали своей радости…
Вот живу теперь в стране больших и малых чудес и снова привыкла к ним, и не чувствую, что в них радость.
Только когда вижу карандаш, простой карандаш номер второй, вспоминаю я о том моем совдепском последнем и думаю:
– Какой ты красивый, шестигранный, душистый! Как можно не замечать тебя и всех тех милых маленьких чудес, которые живут с нами и радуют нас, и умирают там в Совдепии. Неужели уже забыли тебя там, и дети только во сне вспоминают удивительное имя твое – «ка-ран-даш»!








