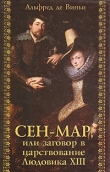Текст книги "Сокровище альбигойцев"
Автор книги: Морис Магр
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 39 страниц)
Чума в Тулузе
– В Тулузе чума, – сказал какой-то бесчувственный тип старой графине Аделаиде де Монпеза, благодетельнице города, известной своим высоким ростом и неизбывным мужеством.
– Вы лжете, – как обычно, резко ответила она, встала и упала замертво.
Ибо страх убивает быстрее, чем болезнь. Вот уже несколько лет в тулузском обществе запрещалось произносить слово «чума», а когда оно наконец прозвучало, просвещенные жители решили напрасно не волновать народ и уверить его, что никакой чумы нет и быть не может. Просвещенные горожане ходили по улицам и клятвенно заверяли всех, что чумы больше никогда будет, а потому бояться ее не нужно. Таким образом, все, включая чужестранцев и заезжих коробейников, узнали, что в Тулузе вспыхнула чума, и страх, посеянный благонамеренными просвещенными, стал расползаться, как огонь по пороховой дорожке.
А я впал в уныние, и, словно черная птица на пшеничное поле, на меня без всякой причины опустилась меланхолия. Но я уверен, что только благодаря ей я оказался защищенным от чумы: тот, кто преисполнен печали или, наоборот, бесконечно весел, напоминает наполненный до краев сосуд, куда больше невозможно влить ни капли – даже невидимой капельки опасного недуга. Я приходил во все дома Тулузы, куда явилась болезнь, оказывал помощь любым больным. И чем дольше свирепствовала эпидемия, тем больше меня охватывала уверенность, что возникла она в результате естественного воздействия некой силы, против которой мне – скорее всего, напрасно – суждено бороться. Темная сила несла страдания и смерть, а для сопротивления была необходима работа души. Я, как мог, старался побороть эту силу, оказывая несчастным врачебную помощь, но не был уверен, что поступаю правильно и не нарушаю божественного порядка. Ибо единственная польза, которую можно принести себе подобным, – это трудиться ради их блага в сфере духовной.
«Каким образом чума проникла в Тулузу?» – спрашивал себя каждый житель, и каждый втайне вспоминал о Жанне де Сен-Пе, сто лет назад приговоренной парламентом к сожжению только за то, что кто-то – без малейших доказательств – обвинил ее в том, что она впустила в город гнилостные миазмы.
Вдоль крепостных стен расхаживали монахи-кордельеры; обычно они доходили до ворот Монтолью, где не так давно от голода умерли нищие из Нарбонна, которых стражники из страха перед чумой не впустили в город. Однажды один из кордельеров, наделенный визионерскими способностями, увидел, как разгневанные души этих нищих порхают над стенами жестокого города, и сумел с ними поговорить. Души злорадно заявили, что наказание не заставит себя ждать, и с этого дня монахи, доверявшие своему святому визионеру, пребывали в ожидании великих бедствий.
Не меньший страх вызвало заявление озлобленных душ и у консула близлежащего кваратала Сен-Бартелеми, и он, по совету своего исповедника из ордена кордельеров, нанял лучников и велел им стрелять в небо. Разумеется, кордельер не утверждал, что можно застрелить нематериальные сущности, тем не менее стрелы, коих души явно не ожидают, непременно станут им докучать, и они уберутся подальше. Неизвестно, подействовали ли стрелы на эфирные создания, но несколько жителей квартала были ранены падавшими стрелами. По такому случаю консулы специально собрались на совет, во время которого им с большим трудом удалось убедить своего собрата прекратить использовать столь опасные средства в борьбе с призраками.
В публичных домах на улице Аш и на острове Тунис болезнь особенно свирепствовала, и многие считали, что это неспроста. В самом деле, разве чума не является проявлением гнилой сущности людей? Возникновение на теле черноватых бубонов, созревавших и выпускавших после прорыва зловонный ликвор, напрямую зависело от непотребного образа жизни, портящего и кровь, и душу. Горожане были слишком снисходительны к публичным женщинам, перестали наказывать их кнутом, дозволяли шляться по улицам в непристойном виде и приставать к мужчинам, а недавно и вовсе впустили проституток, изгнанных из Памье консулами-гугенотами. Так что сами судите: в Памье нет никакой чумы, а у нас люди мрут как мухи.
Я не раз задавал себе вопрос о причинах возникновения чумы. Не стал ли я невольно одним из инструментов рока? Не был ли кто-нибудь из тех, кому я открыл ворота Сент-Этьен, заражен чумой? А таинственный портшез? В тот день я видел его дважды, но более не встречал. В его появлении явно крылась какая-то тайна.
Почти все женщины из Памье, нашедшие пристанище на улице Аш и в солдатских тавернах, сразу заболели, и власти приказали перегородить улицу Аш с обоих концов цепями. Специально отобранные люди, более мужественные, а может, менее чувствительные, чем другие, принялись бороться с чумой. Их называли «копальщиками», и одеты они были – не знаю почему – в шапки и балахоны зловещего желтого цвета с вышитым на груди красным крестом святого Себастьяна.
Главный «копальщик», лекарь-капитан Николя де Толантен был для меня живой загадкой. У него не было ни капли жалости, я никогда не видел, чтобы он молился за кого-нибудь из умерших, но свою опасную работу выполнял фактически безвозмездно. Он почти не спал, по первому сигналу врывался в зараженные дома, отвозил больных в больницу Сен-Сиприен. Однажды я спросил его, что побуждает его столь усердно трудиться на сем опасном поприще, и он мне ответил: «Я люблю смерть».
На улице Аш под вывеской «Цветочная корзина» находился самый большой публичный дом в Тулузе, принадлежавший Онорине Рузье. Из прибывших в Тулузу изгнанниц она взяла к себе свою сестру Марианну и еще четырех женщин, трудившихся прежде в более скромном борделе в Памье. Я ежедневно навещал «Цветочную корзину», ибо меня специально отрядили на улицу Аш; другие врачи посещали остров Тунис, улицу Параду и несколько монастырей, куда чума пришла без видимых причин.
Я заметил, что лекарства, прописывали ли их врачи, или же продавали шарлатаны, равно ускоряли развитие болезни и гибель больного. Согласно моим наблюдениям, от чумы можно было излечиться единственным способом: стремительно взрастить в душе больного высочайшие добродетели. Но те, у кого развивался страшный недуг и прорывались гнойники в паху или под мышками, склонялись, скорее, к унынию или к богохульству. Я, как умел, воздействовал на своих пациентов, и иногда любовь к Богу и стремление отрешиться от земных благ, внезапно охватившие какого-нибудь больного, становились для него целительным лекарством, словно душа посылала ему сверкающий щит, заслонявший от натиска злобного недуга.
Многие женщины из «Цветочной корзины» уже умерли, две заболели совсем недавно, а Марианна Рузье только что слегла в постель, жалуясь на острые боли в паху. В доме поселилось отчаяние.
Однажды утром, подходя к улице Аш, я увидел Онорину Рузье – она шла за овощами, оставленными зеленщиками в начале улицы. Сам не знаю прочему, но вид у нее был возбужденный, а в глазах светилась радость.
– Больным стало лучше? – спросил я.
– Им стало еще хуже.
– А что тогда?
– Мари Сели приснился сон.
Среди товарок Марианны Рузье Мари Сели выделялась преклонным возрастом, вечной корзинкой, которую она не выпускала из рук, и отрешенным выражением лица – поэтому я ее и запомнил.
Онорина сказала мне, что в ту ночь Мари Сели не ложилась спать, а на рассвете увидели, как она стоит на коленях и спит. Мари Сели уснула, не вставая с колен и не завершив молитвы, и ей приснился сон.
Сну предшествовал голос, который произнес: «Встань, Мари Сели! Иди в церковь Сен-Сернен, на берег подземного озера, и помолись Иисусу Христу и святому Сатюрнену».
Сна Мари Сели толком не запомнила, однако из него следовало, что чума прекратится, как только она помолится Иисусу Христу и святому Сатюрнену в том месте, которое указал голос.
Сбивчивый рассказ Онорины Рузье навел меня на мысль о некоем тайном значении данного события. Особенно заинтересовал меня голос, и я не один десяток раз повторил самому себе слова, обращенные к Мари Сели.
Услышанный женщиной голос напомнил мне о том, что я сам отправился на поиски Святого Грааля только потому, что мне приказал голос. Мысленно попросив прощения у невидимых сил, я намекнул им, что словарный запас сверхъестественного гласа был весьма ограниченным. Он произнес ту же самую формулу, которой воспользовался, обращаясь ко мне: «Встань, Мишель де Брамвак!»
В обоих случаях это был приказ принять вертикальное положение и исполнить трудную миссию.
Я пришел в «Цветочную корзину» и, увидев Мари Сели, попытался выудить у нее подробности ее сна, но потерпел фиаско. Зато с удивлением обнаружил, что столь поразившие меня спокойствие и безмятежность этой женщины более всего напоминают сон наяву. С трудом вернувшись в реальный мир, она принялась расспрашивать меня, что означают услышанные ею странные слова и не знаю ли я, о каком озере говорил голос? И как найти озеро, находящееся под землей? Где оно может быть расположено?
Тут я вспомнил одну старинную легенду. Если ей верить, церковь Сен-Сернен стоит на месте священного озера, на берегах которого в незапамятные времена мерялись силою древние божества. На берега озера приходили друиды исполнять обряды, связанные с водой. Галлы, вернувшиеся из военного похода, бросили в озеро золото, доставленное из далеких Дельф. Когда закладывали фундамент большого собора Сен-Сернен, епископ Сильвий осушил озеро. Для этого он вырыл колодец, и вода ушла в него, но вскоре опять появилась, и в центре опоясывающего фундамента собора образовалось озеро. В VIII в. епископ Тулузский Аррузий приказал сделать к озеру проход и лестницу. Епископ занимался магией и был уверен, что под землей обитают враждебные силы, кои следует истребить. Однажды его нашли мертвым у подножия сооруженной им лестницы. Его преемник Манчио приказал замуровать дверь, ведущую на лестницу. Хроника гласит, что век спустя дверь открылась сама по себе. Потом ее заперли на ключ, однако согласно традиции настоятели собора Сен-Сернен запрещали пользоваться и дверью, и лестницей, а некоторые и вовсе отрицали их существование.
Без сомнения, именно к этому таинственному озеру просили пойти помолиться Мари Сели.
Озеро Сен-Сернен
В прежние времена я не раз пользовал монахов из монастыря Сен-Сернен и поэтому был знаком с аббатом капитула, толстым склочником, постоянно судившимся со всем миром. Он страдал от своей тучности, вызванной перееданием, и страдал горько, ибо его идеал – тощий аскет – был для него недосягаем. Продолжая есть весьма обильно, он одновременно просил у меня средство для похудания. Видя во мне тайного еретика и подозревая меня в чернокнижии, он был готов с этим смириться, ежели я с помощью колдовства сделаю его худым. Однако колдовать я не умел, чудодейственного средства для похудания не знал, а потому не удовлетворил его желание, и тучный аббат не простил меня.
В Тулузе аббат слыл лицом могущественным, и далеко не каждый мог добиться у него приема. Он завел себе настоящий двор, сплошь состоявший из духовных особ, с которыми он приятно проводил время в нескончаемых трапезах.
Прежде я бывал в доме аббата, расположенного неподалеку от собора Сен-Сернен, и надеялся, что по старой памяти меня после трапезы пропустят к хозяину, но мне удалось добраться только до дверей трапезного зала. Когда было произнесено мое имя, я услышал шум голосов, а затем отчетливо зазвучали слова «чума» и «зараза», повторявшиеся на все лады. Наконец, перекрывая все прочие голоса, из-за неплотно прикрытой двери раздался зычный голос аббата Бернара.
Все знали, что я каждый день осматривал множество больных чумой, и элементарная осторожность диктовала не приближаться ко мне. Из-за закрытой двери аббат с готовностью поблагодарил меня за мужество и, по-прежнему не открывая двери, спросил, зачем я пришел и чего хочу?
Было трудно объясняться через дверь, но я все же попытался.
– Короче, – прервал мои рассуждения аббат.
Когда я заговорил о сне, то услышал, как он, подавляя смех, приглушенным голосом сообщил канонику:
– Этот лекарь пришел поведать нам сон публичной девки.
Однако когда я перешел к подземному озеру, воцарилась тишина, неожиданно нарушенная смехом аббата – наигранным, чересчур громким и никак не соответствовавшим затронутой теме.
– Нет никакого озера, – ответил он мне в щелку. – Сами подумайте, разве могло бы такое огромное здание, как собор Сен-Сернен, устоять на воде? Эта сказка хороша для обитателей «Цветочной корзины». Так что до свидания. У нас здесь много каноников преклонного возраста, для них малейшее дуновение заразы может стать губительным.
И он плотно прикрыл дверь.
Я знал, кому доверяют охрану Сен-Сернена. Сторожа, бывшего солдата преклонных лет, звали Антарес Либона, и по ночам он нес караул, расхаживая с обнаженным мечом вокруг вверенного ему сооружения. Днем он отсыпался, а с наступлением сумерек неустанно обходил все приделы собора и следил за входом в крипту, где хранились реликвии и бесценные сокровища, принадлежавшие церкви. Антарес Либона слыл человеком суровым и неподкупным.
Его называли убийцей гугенотов. Тридцать лет назад он прославился при обороне Сен-Сернена – когда на протяжении шести дней кальвинисты, захватившие Тулузу, пытались разрушить собор. Поговаривали, что за монастырской оградой он хранит несколько голов, отсеченных собственной рукой. Несмотря на воцарившиеся сегодня мир и покой, он с тех пор не мог заниматься иным делом, кроме как охранять Сен-Сернен. Не стану распространяться о своей беседе с Антаресом Либона – услышав о подземном озере, он рассмеялся точно так же, как аббат Бернар, однако, когда я изложил свои условия, озеро довольно быстро стало реальностью и его существование, в котором я уже тоже начал сомневаться, не вызывало больше никаких сомнений. Было озеро, и был ключ от двери, за которой находилась лестница, ведущая к воде. Если бы не моя уверенность в необходимости исполнить возложенную на Мари Сели высокую миссию, я бы ни за что не стал искушать Антареса Либона. Впрочем, предложение мое было принято гораздо быстрее, чем я думал, и с очевидной радостью.
Зная, что решение многих вопросов часто зависит исключительно от количества золота, я зарыл у себя в погребе запас сего развращающего людей металла. Теперь я выкопал свое золото и, согласно уговору, отнес его сторожу Сен-Сернена. Цифры произносить не хочу: не стоит называть сумму, за которую человек соглашается поступиться долгом, ибо нет в этом ничего хорошего. Было решено, что в три часа ночи, когда все в городе спят, Антарес Либона впустит нас в собор.
Привыкнув, что я всегда успешно решаю все проблемы, сестры Рузье не удивились моей удаче. Однако Мари Сели еще требовалось покинуть улицу Аш, которую по ночам с обеих сторон охраняла городская стража. Впрочем, стражники знали меня давно, а потому с пропуском у меня проблем не возникло.
Условились, что, раз уж Мари Сели удастся выбраться из ада, в который чума превратила улицу Аш, она больше туда не вернется. Ей дали свежее белье и специально развели большой огонь под котлом с водой, чтобы прокипятить платье. Предосторожности отнюдь не лишние: я не мог допустить, чтобы она стала переносчиком заразы, да и в таинственное святилище, куда она стремилась по приказу загадочного голоса, лучше отправляться в чистой одежде.
Про себя я думал: «Пожалуй, я был не прав, когда решил не переселяться в Памье. Конечно, там чаще убивают из-за разногласий в вопросах веры, но, если подумать, ни во Франции, ни в каком-либо ином краю нет больше такого города, где бы публичным домом заведовала столь сознательная особа, как Онорина Рузье, а среди девок были бы такие набожные создания, как Мари Сели».
Пробило три часа. Известив об этом спящий город, ночной глашатай удалился в направлении улицы Тор. Я и Мари Сели замерли у ворот Семи смертных грехов. С тех пор как мы покинули улицу Аш, Мари Сели не произнесла ни слова – уверенно семенила рядом со мной, по-прежнему прижимая к себе свою корзинку.
– Там немного белья и чуть-чуть еды, – прошептала она перед уходом.
После молитвы она намеревалась пешком отправиться к себе в родную деревню, расположенную где-то в глубине Пиренеев.
Дверь собора Сен-Сернен приоткрылась, и я увидел высокую фигуру Антареса.
– Это и есть та самая дама, которой велено помолиться на берегу озера? – спросил он.
– Она самая.
В соборе было довольно светло, так как в приделах и возле некоторых гробниц горели свечи. Изнутри храм выглядел огромным, и я невольно, сам не знаю почему, вдруг ощутил себя в опустевшем чистилище. Антарес говорил шепотом: похоже, его смущал необычный характер предстоящего поступка.
– На моей памяти никто еще не выражал желания отправиться к озеру, – произнес он.
Однако прежде мы следом за ним спустились в крипту, где пахло мертвым камнем и застарелым ладаном.
Антарес вручил каждому по горящей свече. Я вспомнил о бессчетных сокровищах, скопившихся за многие века в крипте Сен-Сернена, и с любопытством огляделся. На массивной золотой пластине возвышался некий предмет, накрытый куском шелка, – череп святого Сатюрнена, выносимый на хоры во время больших праздников. Немного поодаль я узнал распятие Доминика, которым он воодушевлял крестоносцев идти уничтожать альбигойские святыни. В углу были сложены тускло поблескивавшие расшитые драгоценностями ризы, стояли массивные сундуки, набитые дорогими дарами раскаявшихся грешников, полагавших, что можно искупить прегрешения, пожертвовав храму дорогое украшение; дарам и всевозможным реликвиям было несть числа: посохи, митры, части вооружения, принадлежавшие святым, умершим много веков назад…
Узкая дверь, незаметная за свалкой рухляди, со скрипом отворилась, и тотчас ледяное дыхание ветра, вылетевшее из неведомых глубин, погасило наши свечи. Пришлось зажигать их вновь.
– Это сквозняк, – неуверенно проговорил сторож. – Хотя говорят, что это дышат мертвые. Последнего усопшего оттащили сюда пятнадцать лет назад.
– Откуда здесь покойники? – в изумлении спросил я.
– Не пугайтесь, в самом низу лестницы, на подходах к озеру, ответвляется длинная узкая галерея, и там на полу отлично сохраняются трупы. Отшельники, проживавшие в монастыре, давали обет молчания, и тот, кто исполнял его, удостаивался особой привилегии – получал право быть погребенным в галерее, где тело его не подвергнется разложению и полностью сохранит свою материальную оболочку. Те, кто хотел остаться лежать в галерее, полагали, что, когда настанет час Страшного суда, у них будет преимущество: им не придется искать свое тело, а значит, они смогут восстать при первых же звуках трубного гласа.
Сначала сторож вознамерился проводить нас, но потом передумал.
– Я подожду вас здесь. Лестница длинная, спускайтесь по ней, никуда не сворачивая. Мертвые справа, но лучше на них не смотреть.
Я спускался первым, за мной, по-прежнему сохраняя величайшее спокойствие, шла Мари Сели. Хотя ступеней этих и редко касалась нога человека, они сильно истерлись и искрошились. Впрочем, время изнашивает любой материал, разрушает его структуру даже в немом мраке ночи. В плотном, давящем воздухе ощущалось дыхание ветерка, но понять, откуда он сюда задувал, я не смог. Размышляя о ветерке, я забыл сосчитать ступени: спуск был таким длинным, что казалось, лестница уходит под землю на глубину, равную высоте рвущегося в небо шпиля собора.
Я постучал по стене справа, и ее толщина внушила мне уверенность. Внезапно рука моя ощутила пустоту. Я вытянул вперед левую руку со свечой, и трепещущий язычок пламени осветил обитель мертвых, наполненную покоем и тишиной загробной жизни. Вид усопших не пробуждал ни тревоги, ни страха. Они напоминали засохшие человеческие деревья – печальные мумии, числом около дюжины. Скрестив на груди руки, мумии лежали в ряд, за исключением одной, у которой была всего одна, зато поистине гигантская рука с такими длинными ногтями, что, судя по всему, после смерти отшельника они росли еще долго. Явление весьма распространенное, но от этого не менее впечатляющее. Вереница усопших не внушала тревоги, ибо не оставляла сомнений, что лежали они здесь так, как их положили, и после ухода живых никто из покойников не вставал, не поднимался по лестнице и не скребся в дверь, пугая церковных сторожей и священников. Из обители мертвых струился неизъяснимый аромат, не имевший ничего общего со смрадом разложения, напротив, запах, поднимавшийся оттуда, напоминал минеральное масло – неведомый бальзам, выделенный из субстанции вечности.
– Они умерли, – произнесла Мари Сели и чуть громче добавила: – Я вижу воду.
Действительно, несколькими ступенями ниже стояла вода.
Иссиня-черная гладь не отражала ни единого отблеска, напоминая безвременно погасший сапфир. И все же от этой грозной безмолвной стихии не веяло смертью. Свеча, удерживаемая мною над поверхностью озера, позволяла узреть овал бесконечного, невиданного зеркала, уходившего в бездонную глубь и наводившего на мысль о водном коридоре, спускавшемся до самого центра планеты.
И в этой бездне мне на миг почудились расплывчатые черты огромного загадочного лица, которое описать словами не было никакой возможности… Тайна стоячей воды… Улыбка видения… Взор без радости и без печали под недвижными веками…
Быть может, в толще воды передо мной промелькнула божественная эманация души, стоящая на высшей ступени иерархической лестницы природы: в здешних непроглядных сумерках, клубящихся под громоздкими замысловатыми архитектурными формами древнего собора, она вполне могла обрести свое тайное пристанище. А может, это подземелье со стенами цвета селитры и каменной соли с незапамятных времен служит жилищем таинственной сущности, именуемой душой города, душой Тулузы? Синяя вода, не зная обновляющего действия солнечного света, стынет в бездонной каменной чаше, а омытое ледяной водой физическое тело мира из этой бездны посылает свои отражения в верхние слои, отчего на поверхности озера возникают таинственные призраки, несущие людям не то немедленную гибель, не то вечное бессмертие.
Отблески свечи буквально отскакивали от водной глади – подземная лимфа не пропускала света, зажженного человеком. Между гладкими стенами и мертвой поверхностью воды пролегла узкая полоска серого песка; пройти по такому берегу мог только смельчак, способный сохранить равновесие, даже когда на него давят сразу и снизу и сверху – снизу непроницаемая водная гладь, сверху устрашающе низкий свод.
Неожиданно я осознал, что мертвенная гладь озера неумолимо притягивает меня к себе, словно я стою перед дверью в таинственный мир, где меня ожидают и вечное наслаждение, и неизбывный ужас. В этом мире царствовала бесконечная метаморфоза, и я, испытывая сильнейшее искушение узреть изменчивый облик духовной красоты, мелькнувший передо мной в толще вод, шагнул вперед…
Мари Сели удержала меня. Как всегда невозмутимая и спокойная, она стояла, одной рукой прижимая к себе корзинку, а в другой держа свечу. Она пришла помолиться на берегу озера и теперь ждала, когда я наконец оставлю ее одну.
Потоптавшись, я поднялся на пару ступенек.
– Я подожду вас наверху лестницы.
Она кивнула. Поднимаясь, я видел, как она, опустившись на колени, закрепляет в растрескавшемся камне свечу.
Мне не пришлось долго ждать. С прежним отрешенным выражением лица она довольно быстро поднялась с колен – молитва ее оказалась короткой.
Мы выбрались из склепа, и сторож дрожащими руками запер за нами дверь. Тревожно озираясь по сторонам, он без устали повторял:
– Бояться тут нечего. Ночью сюда еще никто и никогда не приходил.
Впрочем, все поведение его свидетельствовало об обратном. Когда наконец голос его смолк, мы неожиданно заметили монаха, недвижно стоявшего среди колонн. Лицо его, словно высеченное из камня, было повернуто в нашу сторону, а глаза устремлены прямо на меня.
Я вопросительно посмотрел на Антареса Либона – он также увидел монаха и в страхе прошептал:
– О Господи! Раньше его тут не было! Это кто-то из членов капитула!
И резким движением вытолкнул нас за дверь.
Площадь перед собором Сен-Сернен была пуста. Я спросил у Мари Сели, куда она пойдет, и та ответила, что давно уже хотела вернуться к себе в деревню. Неопределенно махнув рукой, она дала понять, что, в сущности, сейчас ей все равно, куда идти, и засеменила в сторону улицы Тор.