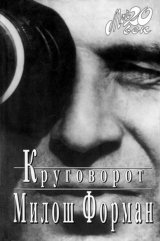
Текст книги "Круговорот"
Автор книги: Милош Форман
Соавторы: Ян Новак
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
Пусть решает автор
Окончательный вариант «Рэгтайма» шел без малого три часа, то есть фильм получился очень длинным. Впрочем, мы замахнулись на эпическое повествование, и к тому же я всегда считал, что если фильм захватывает зрителей, то совершенно не имеет значения, насколько он длинный. А если зрители остаются безучастными, то и семидесятиминутная картина покажется им бесконечной.
Я знал, что скажет Дино, еще до того, как показал ему фильм, и Дино не разочаровал меня.
– Очень, очень длинно, – сказал он.
Я изложил ему мою теорию парадокса продолжительности фильма, которую разработал во время монтажа «Гнезда кукушки». Я пытался объяснить, что у каждого фильма есть свой темп, свой ритм повествования и что, если мы будем произвольно укорачивать его, в результате он может показаться еще длиннее, но Дино понемногу начинал беситься и настаивал, чтобы я вырезал здоровый кусок. А я был в постоянном напряжении, я был изнурен и раздражен монтажной тягомотиной.
– Не знаю, Дино, что ты хочешь убрать, – вздохнул я.
– Нужно выкинуть Эмму Голдмен. Всю. Целиком.
История Эммы Голдмен была совершенно самостоятельным сюжетом в фильме, но она имела большое значение для понимания эротической одержимости одного из персонажей. Младшего Брата, влюбленного в Эвелин Несбит, в другом сюжете. Речь шла о двадцатиминутном куске.
Я не хотел ругаться из-за этого с Дино. Должен сказать, что ни один из нас не унизился до размахивания контрактами и угроз передать дело адвокатам. В этом плане Дино, в отличие от Карло Понти, который чуть было не засадил меня в тюрьму в Чехословакии из-за ничего не значившей фразы, едва ли не опечатки, в контракте, был на высоте. Но мне ужасно хотелось сохранить в фильме Эмму Голдмен, и я решил, что сумею перехитрить Дино. Я предложил компромисс:
– А может быть, пусть автор романа посмотрит и решит?
Я был уверен, что Доктороу, мой собрат по искусству, решит в мою пользу. Я предполагал также, что ему захочется увидеть как можно больше из своего романа на экране. Я был так уверен в успехе моего замысла, что думал, Дино его не примет, но он, обдумав это как следует, к моему удивлению, согласился.
– Хорошо, Дино, что бы ни сказал Доктороу, так мы и сделаем! Это наше окончательное решение, пусть он и определяет, какой длины будет фильм!
Дино согласился, и мы пожали руки.
Доктороу уже видел мой 176-минутный вариант фильма, я вырезал двадцать минут, как просил Дино, и пригласил автора разрешить наш спор. Доктороу приехал в просмотровый зал со своим агентом Сэмом Коуэном, и я сел смотреть с ними фильм. Я чувствовал жгучую боль. Я помнил каждый кадр, каждую склейку, и я видел зияющую дыру в урезанном «Рэгтайме». Без этих двадцати минут мой младенец превратился в колченогого калеку. Это было совершенно очевидно.
Фильм закончился, в просмотровой зажегся свет. Доктороу и его агент встали.
– Ну что же, лично я не вижу большой потери, – сказал Доктороу.
Вот так. Убийственный апперкот в солнечное сплетение. По-моему, я не смог произнести ни слова. И ведь это я сам, дурак, предложил пригласить Доктороу быть нашим судьей!
Конечно, я вырезал эти двадцать минут, но это убило во мне всю радость, которую я обычно испытываю, заканчивая работу над фильмом. И по сей день я твердо убежден, что мы совершили ошибку, сократив «Рэгтайм» на двадцать минут без достаточных на то оснований. Сейчас фильм кажется инвалидом, он стал прекрасным примером того самого парадокса, когда более короткий фильм кажется более длинным.
Спустя несколько дней мне в глаза бросилось любопытное сообщение в «Вэрайети». Я прочел, что Сэм Коуэн только что подписал с Дино Де Лаурентисом договор о продаже права на экранизацию нового романа Э. Л. Доктороу «Гагачье озеро».
Может быть, это было просто забавное совпадение.
Питер Шеффер
Еще в 1980 году, когда шла подготовка к съемке «Рэгтайма», я приехал в Лондон, где должен был посмотреть актеров. У моего агента Робби Ланца были там какие-то дела в то же самое время, и вот однажды вечером он позвонил мне и спросил, не хочу ли я пойти с ним в театр. Я сказал, что пойду с удовольствием, и даже не поинтересовался, на какой спектакль. Робби заехал за мной на машине. По пути в театр я наконец спросил, что мы собираемся смотреть.
– Это новая пьеса Питера Шеффера, – сказал Робби.
– Прекрасно.
– Она называется «Амадей», это про Моцарта и Сальери.
– А, черт! – воскликнул я. Еще в Чехословакии я видел много спектаклей и фильмов из жизни композиторов. Во времена Жданова и сталинизма эта тема считалась безопасной, потому что классическая музыка слишком абстрактна, чтобы наносить политический ущерб. Я видел фильмы о Мусоргском, Глинке, Сметане. Это все было ужасно скучно, и вот теперь меня везли на пьесу сразу о двух композиторах!
Если бы я мог выскочить из автомобиля, я бы удрал, но было уже слишком поздно, поэтому я приготовился смотреть на человека в напудренном парике, головой уходящего в облака, где всегда жила Музыка в такого рода биографических произведениях.
Когда поднялся занавес, моему изумлению не было предела. В этой пьесе могла идти речь о любых двух людях, связанных общим призванием и разделенных несправедливостью высшего дара. Я смотрел на Сальери, короля посредственности, бившегося в тисках чувств, которые он питал к гению. Трактовка образа Сальери как жертвы зависти и восхищения, благоговения и предательства, предложенная Шеффером, потрясла меня. Дивная музыка Моцарта была просто бесплатным приложением к захватывающей истории. Когда опустился занавес, я уже знал, что хочу снять фильм по этой пьесе.
В тот же вечер Робби познакомил меня с Шеффером, которого я прежде никогда не видел, хотя у нас с ним был один и тот же мудрый агент. Меня распирал энтузиазм, и я сразу же заговорил о нашем возможном сотрудничестве и о переносе пьесы на экран.
Месяц спустя в Нью-Йорке мы с Питером обсудили это подробнее. Я знал о нем только то, что он хороший драматург и что он во мне не нуждается. Я объяснил Питеру, что у кино, по-моему, есть собственные законы и при переносе пьесы на экран ее приходится разбирать по кускам и собирать заново. Готов ли он препарировать таким образом свою пьесу вместе со мной? Чувствует ли он в себе силы, чтобы решиться на такой жест слепой веры? Он использовал много исторических материалов, когда работал над пьесой, но эти материалы стали лишь отправной точкой его повествования. А теперь нам предстояло сделать пьесу отправной точкой нашего сценария.
Питер оказался храбрым человеком. Он сказал, что попробует.
Думаю, что мне повезло, потому что многие из пьес Питера уже были экранизированы и все фильмы по ним его разочаровали. Он даже сам написал сценарий по пьесе «Эвкус», но результаты его все равно не удовлетворили, так что он был готов, если это необходимо, проявить жестокость по отношению к своему любимому детищу.
Прошло еще полтора года, прежде чем мы сели за сценарий, ведь мне еще надо было снять и закончить «Рэгтайм», и это оказалось нам на руку; несмотря на огромный успех пьесы, когда мой адвокат и друг Брюс Рэймер попытался пристроить ее в Голливуде, ему это не удалось. Против проекта выдвигалось четыре возражения: это был костюмный фильм; это был фильм о классической музыке; в нем шла речь об исторических событиях в отдаленном уголке Европы, до которого никому не было дела; производство обещало стать дорогим. Единственным продюсером, проявившим интерес к сценарию, был Рэй Старк. Но даже он говорил только о съемке спектакля. В конце концов мы с Питером принялись за работу под эгидой независимого продюсера – моего старого знакомого Сола Зэнца.
Питер не дрогнул, когда мы стали раздирать пьесу на куски для сценария. За четыре месяца мы вывернули пьесу наизнанку. Одна из главных задач состояла в том, чтобы найти подходящую форму повествования в фильме. Мы остановились на простом решении – подать его как исповедь Сальери, так, чтобы все драматическое действие фильма оказалось построено на его воспоминаниях. К этой мысли мы пришли с помощью простой логической цепочки: старый композитор совершил попытку самоубийства. В наши дни это стало бы основанием для появления в фильме психиатра, а что случилось бы в восемнадцатом веке? К старику прислали бы священника, и это было прекрасным решением для нашего фильма, потому что слуга Господа вразумляет богохульника Сальери, обвиняющего Создателя в пристрастном распределении таланта.
Как только мы придумали структуру сценария, все встало на свои места: мы сделали священника молодым человеком, говорящим примитивные банальности, ничтожеством, ничего не знающим о музыке; он никогда не слышал о старом композиторе, потому что Сальери стали забывать уже при его жизни (это было еще одной причиной его ярости). В сценариях самое простое решение всегда оказывается самым плодотворным.
Раньше я никогда не пользовался таким приемом, как воспоминания, мне никогда не приходило в голову использовать их в фильмах, но в «Амадее» я сразу же решил воспользоваться именно этой формой повествования. Музыка Моцарта помогала нам сделать любой переброс из настоящего в прошлое. А с чисто технической точки зрения такая структура позволяет насытить фильм большим количеством деталей и событий, чем при прямом развитии сюжета.
Меня до глубины души поразила покорность Питера. Он переписывал по многу раз сцены, которые были великолепны для театра, но которые не выдержали бы испытующего взгляда кинематографа. Он добавил несколько потрясающих новых эпизодов и в результате написал изумительный сценарий.
По местам, где осталось мое сердце
Я хотел снимать «Амадея» в Праге. В решении снимать на родине большой американский фильм после десяти лет, проведенных за границей, разумеется, сыграло роль мое тщеславие, но присутствовал в нем и здравый смысл. Прага всегда обожала Моцарта. В 1791 году на его похороны в Вене собралась лишь горсточка знакомых, а на заупокойной мессе по Моцарту в соборе Св. Микулаша на Мала-Стране было шесть тысяч скорбящих прихожан. Остальные стояли снаружи, под дождем и мокрым снегом, воздавая последние почести гению, чья опера «Дон Жуан» впервые прозвучала в Праге в 1787 году.
Прага была также прекрасным местом для съемок фильма о восемнадцатом веке. Этот старый город «ста башен» – название пришло из тех времен, когда трехзначное число означало немыслимое количество, – стоит на холмах, возвышающихся над излучиной широкой реки. Через нее перекинут Карлов мост, массивное каменное сооружение, построенное в 1357 году и украшенное полными драматизма барочными скульптурами. Мост соединяет пражское Старе-Место – с его старым гетто и знаменитыми часами – и Градчаны с их темно-красными крышами, поднимающимися волнами.
Многие улицы города были проложены и застроены в восемнадцатом веке, они все еще вымощены булыжником. Теперь все меняется, но в начале восьмидесятых годов эти улицы, трогательные в своей бедности, тянулись до самых окраин, не задетые войной, не испорченные коммерциализацией.
Наш продюсер Сол Зэнц, ловкий и жесткий бизнесмен, искал и другие города, кроме Праги, в которых сохранилась застройка восемнадцатого века. Мы осмотрели Вену – там на старинных улочках было слишком много неона. Кроме того, как только там звучало слово «Голливуд», цена производства удваивалась и утраивалась, и мы поспешили убраться оттуда.
Мы запросили архив Моцарта в моцартовской библиотеке Моцартеума в Зальцбурге о возможности организации съемок в этом городе. Они захотели увидеть сценарий. Прочтя его, они наотрез отказались разрешить нам съемки и сразу же закрыли доступ к архивным материалам. Мы поехали в Будапешт, но оказалось, что в этом городе в девятнадцатом веке были перестроены целые кварталы. Нам не удалось найти ни одной улицы, которая сохранилась бы в первозданном виде.
Прага оставалась для нас лучшим выбором во всех отношениях. Единственная проблема состояла в том, что чешское правительство отказывало мне в разрешении посетить страну – даже на короткий срок – начиная с 1977 года, когда я принял гражданство США и смог подавать прошение о визе, Я хотел съездить в Часлав и в Прагу, чтобы воскресить в памяти былое, чтобы увидеть, как растут мои сыновья, выпить пива со старыми друзьями и поговорить на том языке, который не требует от меня усилий и на котором я могу точно выразить все свои мысли. Мне снова и снова отказывали без малейших объяснений причин. Жесткое неосталинистское правительство, «нормализовавшее» положение в стране после советского вторжения, только что бросило на четыре с половиной года в тюрьму моего школьного друга Вацлава Гавела; но я понимал, что мне разрешили бы приехать, если бы правительство могло извлечь из этого для себя какую-то пользу. Можно сказать, что съемки «Амадея» в Праге были для меня единственным шансом снова увидеть Чехословакию.
Я позвонил Иржи Пуршу, директору «Чехословакфильма», и сказал ему, что я работаю над дорогостоящим фильмом о Моцарте и что Прага была бы идеальным местом для съемок. Я сказал ему, что, разумеется, для решения такой проблемы нужно много времени, но этот фильм может принести большие деньги, поэтому я хочу приехать в Прагу и обсудить все на месте.
– Подавай на визу, – сказал мне Пурш, – а там посмотрим.
Я получил визу так быстро, что у меня сердце ушло в пятки. За границей я был далек от всякой политики, но в глазах коммунистического правительства я все еще оставался предателем-эмигрантом. Товарищи из госбезопасности были способны на все – им достаточно было подсунуть мне в багаж наркотики, и я никогда не выехал бы обратно из страны. Я решил, что не должен ехать в Чехословакию один.
Я попросил трех близких друзей, Жан-Клода Каррьера, Черил Варне и Мэри Эллен Марк, поехать со мной. Наша поездка должна была стать паломничеством по самым памятным для меня местам, это было важнее любых дел, которые мне предстояло решать в стране. Я никогда не отважился бы поехать туда без своих друзей. Они были моим щитом; единственным недостатком такой компании было то, что я ни разу не мог остаться наедине со своими чувствами.
Двадцать второго апреля 1979 года наш самолет приземлился в Праге. После столь долгого отсутствия меня поразило, как мало изменился город. Все старые адреса и телефоны были действительны. Все магазины, бары, театры остались на своих местах, в них продавался тот же самый товар. Даже язык не изменился, потому что ему не приходилось искать названия для новых явлений действительности.
Вера и мальчики жили в нашей старой квартире в Дейвице. Вера по-прежнему пела и играла в Театре «Семафор» и была счастлива. Официально мы не были разведены, но уже много лет не жили вместе, и теперь ее спутником стал сын Милоша Кратохвила, моего любимого старого профессора в Киношколе. У них был маленький сын, единоутробный брат Матея и Петра, так что и в этом старом мире можно было найти что-то новое.
Я встретился с моей первой женой, Яной, и мы долго сидели за обедом, предаваясь сентиментальным воспоминаниям; я выпил со старыми приятелями. После десяти лет разлуки я замечал разрушительные следы времени на их лицах, в их походке, и по выражению их глаз я видел, что и ко мне оно было таким же безжалостным. Только увидев их, я ощутил, насколько же состарился. Я уехал из страны молодым человеком; я вернулся туда обремененный большим багажом ожиданий, опыта, приобретений и новых знакомств.
Я навестил старого приятеля, с которым мы вместе делали первые шаги в шоу-бизнесе. Мы открыли бутылку холодной водки, и мне показалось, что я просто вернулся из длинного отпуска. Нам нужно было пересказать друг другу целую прожитую жизнь, и мы болтали до рассвета, а потом вдруг он повернулся ко мне:
– Знаешь, мы все смотрели на тебя снизу вверх, когда ты уехал. Ты был чем-то вроде символа того, чего мы могли бы добиться, если бы нам тоже повезло. А теперь своим приездом ты швырнул все наше уважение псу под хвост.
Для него я был американской шишкой – показушником-миллионером, который приехал посмотреть на их нищету, самим мистером Оскаром, наслаждающимся завистью других людей, сукиным сыном, который только о себе и думает. Наутро он расточал мне улыбки. Он проспался и, наверное, забыл о своих словах.
Я усадил Черил, Мэри Эллен и Жан-Клода в машину. Я хотел показать им те места, где я вырос, места, где осталось мое сердце.
Наш дом в Чаславе, старая школа и церковь показались мне ужасно маленькими и бесцветными, и я долго удивлялся этому, пока не понял, что в моей памяти они все еще оставались такими, какими видел их четырех-пятилетний ребенок, которому мир кажется совсем другим, огромным и ярким.
Наход, каким я его помнил, изменился не так сильно, как Часлав, и я приехал туда вовремя, чтобы повидать дядю Болеслава. Он жил в том же самом доме, где я когда-то пытался жульничать, играя с ним в шахматы. Он умер вскоре после моего приезда, и я счастлив, что успел обнять его.
В Подебрадах больные-сердечники все так же пили богатую железом минеральную воду и дремали на послеобеденных концертах. Только река стала уже. Я с легкостью мог перебросить камень через ледяной поток, который некогда пересекал на плавниках любви.
В дорогой мне гостинице «Рут» теперь размещался оздоровительный центр какой-то фабрики, и к старому зданию было много всего пристроено. Я с трудом узнавал местность, но прогулка вокруг озера Махи взволновала меня больше, чем вся остальная поездка по памятным местам. Здесь я, вероятно, был зачат, на этих берегах я потерял собственную девственность, на этой дороге с торчащими корнями сосен меня забрасывали камнями, здесь я проводил лучшие летние каникулы в жизни. Я так хотел хоть ненадолго вернуться в те времена!
Люди, жившие здесь когда-то вместе со мной, переехали в Прагу, или уехали из страны, или умерли, но когда я приехал во Врхлабы, я нашел там почти всех пожарных из моего «Бала пожарных» в той же самой таверне, где мы пили вместе. Они все еще работали на том же заводе и все еще добровольно служили в пожарной команде. Они играли в бильярд на том же столе, только и стол, и сами игроки здорово состарились. Они приветствовали меня как старого друга, которого считали погибшим, и мы снова хорошо выпили. Они сказали мне, что «Бал пожарных» остается самым большим событием в их жизни.
– По крайней мере, благодаря ему мы оставим какой-то след в жизни, – сказали они.
Из Врхлаб мы вернулись в Прагу, и я приготовился возобновить работу. Как только я настроился на переговоры с функционерами «Чехословакфильма», я стал смотреть на город другими глазами, я увидел его более ясно, с большей дистанции, с точки зрения американца, и теперь пражане показались мне грустными, усталыми, измученными бесконечными очередями, постоянными унижениями, полной бесполезностью существования. Только от барочной красоты Праги по-прежнему замирало сердце.
Анатомия соглашения
В те дни, когда я работал в «Латерне магике», Иржи Пурш был незначительным клерком в Министерстве культуры. Сейчас этот высокий мужчина с выдающимся носом уже десять лет властвовал над чешским кинематографом.
Пурш стал членом ЦК компартии и собутыльником членов Политбюро и министров. Его сформировали Советы. Он был одним из немногих чехов, которые помогали КГБ подготовить советское вторжение в 1968 году. Вскоре после этого он и был назначен генеральным директором «Чехословакфильма», благодаря чему получал доступ к поездкам за границу, твердой валюте, взяткам и актрисам.
Руки Пурша, возглавлявшего студию «Баррандов», ответственного за производство и прокат всей кинопродукции, не были замараны кровью; он сумел защитить многих деятелей кино от свирепствовавших сталинистов. Но в то же самое время, продолжая выплачивать им зарплату, он полностью задушил все надежды чешской «новой волны». Национальный кинематограф оказался под его руководством в глубоком застое, и даже когда он наконец разрешил таким режиссерам, как Хитилова и Менцель, снова заниматься своим делом, они так и не обрели ту живительную свободу, которая была у них в 60-х годах.
В 1980 году Пурш пригласил меня в свой царский кабинет, обставленный в народно-демократическом стиле, с большим письменным столом, тяжелыми диванами и креслами, обитыми кожей, с застоявшимся прокуренным воздухом. По сравнению с тем временем, когда он был мелким чиновником в министерстве, он приобрел брюшко и большую уверенность в себе. Мне было интересно, как он отнесется ко мне, но он вел себя как старый приятель. Мне даже показалось, что в «Амадее» он увидел для себя возможность какой-то реабилитации, возмещения того урона, который он нанес чешскому кино. Он быстро расставил все точки над «i». Он сказал, что лично ему хотелось бы, чтобы я снова работал в Праге, но что многие люди возражают против этого.
– Понимаешь, твои старые друзья-режиссеры с «Баррандова» громче всех вопят, что мы не должны пускать эмигранта и предателя обратно в страну, – сказал он. Он говорил о партийной организации киностудии и о режиссерах старой гвардии, таких, как Секвенс, Чех и Кахлик. Эти товарищи недолюбливали меня еще со времен «Черного Петра».
– Но тут можно договориться, – продолжал Пурш. – Я полагаю, что в сценарии нет ничего политического, к чему они могли бы придраться, не так ли?
– Слушай, это же про Моцарта…
– Правильно. И насколько я знаю, ты ведь не подписывал никаких воззваний там, за границей?
– Так у меня же сыновья живут здесь!
– Отлично, доллары за твои съемки – это моя козырная карта. Нам действительно нужны деньги. У стариков главный аргумент, что ты хочешь сюда приехать, чтобы подбодрить наших диссидентов вроде твоего старого приятеля Вацлава Гавела. Короче, если ты дашь мне слово, что не будешь здесь искать встреч с диссидентами, тогда я, наверное, протолкну это дело.
Он протянул мне руку.
– Слушай, Иржи, я пожму тебе руку, если и ты мне кое-что пообещаешь, – сказал я. – Если какой-то диссидент сам, по собственному желанию, подойдет ко мне, вы не сделаете ничего плохого ни этому человеку, ни нашему фильму.
– Договорились, – ответил Пурш, но окончательное добро с чешской стороны было получено только после того, как наше рукопожатие одобрил Густав Гусак, президент и глава компартии.








