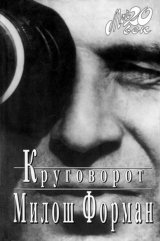
Текст книги "Круговорот"
Автор книги: Милош Форман
Соавторы: Ян Новак
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
Второе «я» – II
Я полетел в Нью-Йорк с Иваном, который твердо решил эмигрировать. Я еще не сжег мосты, связывавшие меня с Чехословакией, потому что официальный контракт, заключенный «Фильмэкспортом» и «Парамаунтом», все еще оставался в силе. Я въехал в страну по чешскому паспорту, с визой, дававшей мне право на работу в Америке.
Иржи Восковец, который когда-то написал вместе с Яном Верихом «Балладу в лохмотьях», а с тех пор поменял имя на Джордж Восковец и стал актером в Нью-Йорке, где жил уже двадцать лет, нашел для нас чудесный дешевый домик. Мы сняли его. Он стоял среди таких же домов из темного камня недалеко от Лерой-стрит в Виллидже. Чтобы подойти к нему, нужно было пройти через узкий проход между двумя домами. Мы назвали этот короткий туннель нашей «мышиной норой», он вел в маленький садик, где росло несколько тенистых деревьев.
Наш домик походил на старый пирог – это была высокая выцветшая ванильно-розовая пирамидка. На четырех этажах, соединенных винтовой лестницей, располагались четыре комнаты. Нижний этаж частично уходил под землю, и в нем размещалась кухня с длиннющим старинным столом. Мы с Иваном пытались выучить язык и для этого наклеивали на стены и шкафы карточки размером три на пять дюймов с написанными словами и запоминали странные английские идиомы, занимаясь стряпней. На втором этаже была гостиная, на третьем – спальня, на четвертом – кабинет.
Малюсенький садик был стиснут стенами, покрытыми плющом, которые ограждали его от шумных соседних улиц, где жизнь напоминала бесконечный парад хиппи. Этот садик дарил нам покой и мир, казалось, что мы находимся в Александрии, Барселоне или в каком-то другом древнем городе.
Мы никогда никого не выгоняли, поэтому в доме постоянно были люди. Какие-то друзья останавливались у нас, кто-то уезжал, а кто-то просто выходил ненадолго. Драматург Джон Гуэйр говорил, что наш маленький домик похож на итальянскую виллу. Каждый раз, когда он заглядывал к нам, ему казалось, что он уехал из Америки и попал в колонию беженцев и иностранных художников, где значение имеют только книги и алкоголь, – в посольство авангардной богемы.
Время, проведенное на Лерой-стрит, я вспоминаю с удовольствием. Мне было под сорок, я любил ходить по улицам Нью-Йорка, чувствуя, что теперь этот умный и нервный город с каждым днем становится все больше моим.
Мой американский фильм продвигался вперед, сценарий был почти готов. В «Отрыве» шла речь о супружеской паре из среднего класса, которая пытается разыскать свою пятнадцатилетнюю дочь, уехавшую на конкурс авторской песни в Ист-Виллидж. Родители безуспешно прочесывают улицы, потом вступают в Общество Родителей Сбежавших Детей и оказываются в фешенебельном зале, где все эти родители старательно курят марихуану, чтобы понять, что именно увело из дома их драгоценных чад. Они возвращаются домой ошеломленные, вместе с другой парой, тоже членами общества, и начинают играть в стрип-покер: проигравший должен раздеваться. Они не отдают себе отчета в том, что их дочь решила завязать с уличной жизнью и спокойно спит в своей комнате на втором этаже.
Я познакомился с молодым кинорежиссером Джоном Клейном и его приятелем-денди Винсентом Скиавелли, которые только что сняли студенческий фильм о сбежавшей из дома девочке, и попросил Джона помочь мне и Каррьеру со сценарием. Потом я переписал сценарий вместе с Джоном Гуэйром и наконец сдал его на «Парамаунт».
Первая реакция на сценарий поступила непосредственно от Чарли Блюдорна.
– Никому твой сценарий не нравится, Милош, – сказал он.
Потом были нервные переговоры, манипуляции, обеды, ночные выпивки и предложения. На «Парамаунте» не хотели, чтобы я ставил «Отрыв», но предлагали мне снимать у них другие фильмы, например «Галилея» с Родом Стайгером. Я же был полностью уверен в моем сценарии и не мог представить себе какую-то другую работу. К счастью, в моем контракте с «Парамаунтом» была лазейка. Если студия отвергала мой сценарий, я имел право выкупить его, возместив все затраты. Мне выплатили к тому времени примерно 10 000 долларов в виде суточных, кроме этого, были еще какие-то билеты на самолет и другие расходы; я подсчитал, что сценарий обойдется мне в 30–40 тысяч.
Меня никогда не взяли бы бухгалтером в Голливуд. Настоящая стоимость моего сценария была около 140 000 долларов. Агент Клода Берри, представлявший мои интересы, являлся одновременно агентом менеджера, который подписал контракт на мой фильм. Это было соглашение по типу «играй-или-плати», гарантировавшее ему 50 000 долларов независимо от того, будет фильм снят или нет. Потом возникли новые проблемы…
Сто сорок тысяч долларов – это были колоссальные деньги. Я уже едва не попал в тюрьму за половину этой суммы. Я не зарекомендовал себя как режиссер, я плохо говорил по-английски, качество моего сценария оставалось спорным, а я уже задолжал сто сорок тысяч!
Утром я понял, что не Могу подняться с постели. Я встал и почувствовал, что мои ноги как будто сделаны из резины. Я с трудом добрел до ванной. Все мышцы и суставы болели, стоять я не мог. Я дотащился обратно до кровати, свалился, и неизъяснимая сладость разлилась по всему телу. Я почувствовал, что умираю, что я уже никогда не встану с этой кровати.
Мне очень повезло, что рядом был такой друг, как Иван. Он образцово ухаживал за мной, отражая все телефонные звонки и всех посетителей. Я был не в состоянии ни с кем разговаривать. Через неделю я уже не хотел разговаривать и с Иваном.
– Может быть, тебе стоит показаться психиатру? – мягко предложил он.
– Может быть, тебестоит показаться психиатру, – ответил я.
– Прекрасно, я вижу что твое «я» в рабочем состоянии, – сказал Иван. – Это уже что-то.
В последующие дни Иван продолжал задавать мне странные вопросы относительно моих ощущений, моего детства, моих симптомов. Время от времени он приходил ко мне с каким-то медицинским заключением и приносил какие-то таблетки. Он постоянно объяснял мне, что поговорил со своим другом, таким же амбициозным и одержимым типом, который раньше ни в чем не знал поражений и прошел через такие же испытания. Он даже начал выдавать такие ученые термины, как «horror mortis» («страх смерти»).
Позже я узнал, что Иван ходил к психиатру вместо меня, за меня. Психиатр был поклонником кино, так что Милош Форман получал скидку. Иван знал меня вдоль и поперек, поэтому для него не представляло сложности описать мои симптомы, рассказать мои мечты, попытаться сыграть мои реакции. Добрый доктор ничего не заметил, хотя в конце концов Иван признался ему, что я подвергался психоанализу через посредника.
А я тем временем пошел на поправку. Когда я встал, чтобы пойти в ванную, я внезапно обнаружил, что могу задержаться в комнате. Я даже смог немного посмотреть в окно. Я сполз по ступенькам и уселся на диван в гостиной. Потом, утром, я вышел в садик. Я стоял на открытом пространстве, вдыхая свежий воздух, все еще в пижаме, но воображаемая лихорадка уже не мучила меня. Я пролежал в постели два месяца.
Теперь я постепенно обретал свою энергию и возвращался к жизни. Я пообедал с Хелен Скотт, и она рассказала мне, что на студии «Юниверсал» решили проводить новую политику. Они искали нового «Беспечного ездока» (фильм принес им большую прибыль), так что были готовы снимать фильмы по рискованным сценариям, если те стоили меньше миллиона. Она связалась с Недом Тэнненом и сумела заинтересовать его моим проектом. Я полетел в Лос-Анджелес и прочитал сценарий Тэннену и Дэнни Селзнику, сыграв для них все роли фильма. Это был спектакль всей моей жизни. Я уже не помню почему, но мне надо было вернуться в Нью-Йорк. Когда я добрался до Лерой-стрит, там была телеграмма из «Юниверсал». Они хотели снимать «Отрыв».
«Отрыв»
Я запретил себе радоваться этой телеграмме. Человеку, только что пережившему тяжелые времена, бывает страшно поверить первой же хорошей новости. Я был уверен, что вскоре возникнет новая непреодолимая проблема или что-нибудь еще, и я оказался прав.
«Юниверсал» предложил сценарий нескольким продюсерам для подготовки бюджета. По самым скромным подсчетам выходило, что картина обойдется в 1 200 000 долларов, а позиция «Юниверсал» была незыблемой. Компания не собиралась истратить ни одного цента сверх миллиона долларов. А поскольку мне нужно было прежде всего расплатиться с «Парамаунтом», мой бюджет урезался и вообще до 850 000 долларов.
Я стал искать какого-нибудь сумасшедшего, который мог бы помочь в съемках фильма за небольшие деньги, и кто-то рассказал мне про Майка Хаусмана. Он испытывал мотоциклы, и на его счету было несколько авангардистских фильмов. Мне сказали, что, если надо, он будет лазить по карманам, но фильм поставит.
Я встретился с Майком за обедом. Это был молодой, высокий, энергичный парень, конечно, сумасшедший. Я только начал рассказывать ему историю «Отрыва», как он перебил меня:
– Сколько вам на это дают?
– Я сейчас дойду до этого.
– Нет, нет. Сколько?
– Ну ладно. Восемьсот пятьдесят, но я…
Майк пожал плечами:
– Ладно, снимем за восемьсот пятьдесят.
Он ошибался. Я согласился на меньший гонорар, он тоже. Все актеры работали за суточную оплату. Все перевозки осуществлялись в машине Майка, он сам сидел за рулем. Машина была открытой – закрытая перегревалась бы, – но на переднем сиденье умещались Мирек Ондржичек и я, а на заднем – наши главные исполнители Бак Генри и Линн Карлин и еще какой-нибудь актер. Мы сняли фильм за 810 000 долларов.
Майк Хаусман принадлежал к одной из богатейших семей Нью-Йорка, но вы бы никогда не догадались об этом. Правда, узнав, что его родители с ним не разговаривают, вы бы скорее в это поверили. Его готовили к руководству семейным бизнесом, но он бросил все это. Родственники считали, что он просто прожигает жизнь. Своим «Отрывом» я действительно обязан Майку. С тех пор он многого добился в кино, и до всего этого он дошел собственным путем, и мне кажется, что это было для него главным.
К тому времени когда мы по-настоящему начали съемки «Отрыва», а это произошло летом 1970 года, я уже пару лет подыскивал актеров. Моим помощником в этом деле, хотя она об этом и не догадывалась, стала Мэри Эллен Марк, прекрасный фотограф и прекрасный друг. Каждый уик-энд Мэри Эллен и я встречались и шли смотреть бесконечный хэппенинг у фонтана Бетезда в Центральном парке, где настоящие хиппи смешивались с хиппи «воскресными». Мэри Эллен фотографировала, а я выискивал типажи для фильма. Еще я собирал материал для «Волос», но тогда я не знал этого.
Как-то раз я увидел двух юных девушек, которые плескались в фонтане. Одна из них выглядела точно так, как могла выглядеть сбежавшая девочка в моем фильме. Ей было около пятнадцати, она явно хотела принадлежать к «детям-цветам», но было видно, что она не живет на улице. Я решил заманить ее на пробы.
В Чехословакии я просто подошел бы к ней и задал свой вопрос, но в Нью-Йорке, да еще с моим жутким английским я боялся сойти за какого-нибудь педофила из Европы, пришлось послать на предварительные переговоры Мэри Эллен. Она вернулась с девочкой и сфотографировала ее. Девочку звали Линниа Хикок, и в кинопробах она выглядела такой доверчивой и естественной, что я предложил ей роль.
Мэри Эллен познакомила меня со своим другом Баком Генри, которого я взял на роль отца героини. Я пригласил на роль его жены Линн Карлин, потому что она произвела на меня большое впечатление в фильме Джона Кассаветеса «Лица», который мне очень понравился.
Я пригласил всех этих людей на роли в фильме еще до того, как стало ясно, что наш бюджет не принят «Парамаунтом», поэтому, когда я получил еще один шанс на «Юниверсал», оказалось, что моя картина будет значительно дешевле, чем ожидалось. Я постарался пригласить как можно больше друзей на эпизодические роли. То же сделал и Майк Хаусман – в целях экономии он даже уговорил своего отца, Джека, с которым помирился в то время, сыграть маленькую роль. Многие люди работали в фильме задаром, в собственной одежде, например, исполнители главных ролей носили то, что отобрали костюмеры из их гардероба.
Я ставил «Отрыв» так же, как и мои чешские фильмы. Я объяснял актерам основную идею эпизода. Я обсуждал с ними мотивацию поведения и склад ума их персонажей, а затем показывал им написанный нами диалог. Очень часто они выражали наши мысли собственными словами.
Я пытался сделать фильм как можно более естественным. В сцене игры в стрип-покер, ближе к концу картины, я сделал так, что актеры не знали, кто проиграет следующую партию. Для первого дубля я разложил карты, как мне было нужно по сюжету, но дальше актеры играли в настоящий стрип-покер.
Атмосфера на площадке была великолепной, какой она и должна была быть в таких обстоятельствах. У нас не было примадонн, не было барьеров, зависти, не было парикмахеров, гримеров, не было грузовиков-трейлеров. Я думаю, что зритель может почувствовать это, смотря фильм.
Мне было интересно увидеть самодеятельные таланты, пришедшие с улицы на наш «конкурс», который оказался совсем не похожим на мое старое «Прослушивание». Девушка с гитарой, приехавшая в Нью-Йорк с Юга, произвела на нас большое впечатление своей композицией. Ее звали Кэти Бейтс. Пришла еще одна совершенно никому не известная певица по имени Керли Саймон, которая спела нам замечательную песню. В нашей сцене в ночном клубе снимались Айк и Тина Тернер.
«Отрыв» заканчивается торжественным обедом. Линниа представляет родителям своего парня, с которым познакомилась на улице. Он старше ее на несколько лет, у него нечесаная борода, длинные волосы, обветренные щеки, он ведет себя как наркоман. Он молчит. Родители задают обычные в таких случаях хитроумные вопросы, но отвечает на них Линниа. Оказывается, что парень – музыкант, он сочиняет современную громкую музыку и играет на фортепиано. Родительский допрос так и продолжается через посредника, пока Бак Генри не задает вопрос, на который Линниа ответить не может:
– И ты получаешь за это деньги?
Парень долго молчит, потом кивает.
– Сколько? – покровительственно спрашивает отец.
После новой длинной паузы хиппи впервые открывает рот:
– Двести девяносто тысяч долларов.
Отец давится супом.
– Без налогов, – добавляет парень, чтобы старик немного пришел в себя.
Фильм заканчивается тем, что отец, аккомпанируя себе на рояле, поет дурным голосом «Чужие в раю» для дружка своей дочки.
Джон Клейн нашел настоящего музыканта, Дэвида Джиттлера, на роль парня. Он абсолютно соответствовал моему представлению об этом персонаже. Мне нравилось бесстрастное лицо и выразительные глаза Дэвида. Когда мы подошли к съемке его первой фразы, «Двести девяносто тысяч долларов», я объяснил ему, чего хочу добиться, и рассказал, в чем суть эпизода. После этого включили камеру.
– И ты получаешь за это деньги? – спросил Бак Генри.
Джиттлер выдержал нужную паузу и кивнул. Пауза была великолепная.
– Сколько? – спросил Бак.
После этого наступила потрясающая пауза, которая постепенно переросла в паузу слишком длинную, а потом стала и вовсе бесконечной.
– Стоп! – скомандовал я. – Дэвид, именно сейчас ты должен сказать «Двести девяносто тысяч долларов». Когда он спросит тебя – сколько. О'кей? Да?
Дэвид нервно раскачивался на стуле, его голова мотнулась, я принял это за кивок, так что мы снова приготовились снимать.
– Камера! Снимаем!
– Сколько? – снова спросил Бак.
Молчание. Дэвид просто сидел, уставившись в стол.
– Стоп! Дэвид, в этом месте ты должен сказать свою фразу! Ты отвечаешь на вопрос, о'кей?
Дэвид снова покачался на стуле, снова вроде бы кивнул, на сей раз казалось, что он понял.
– Пожалуйста, не забудь, ладно? О'кей! Камера! Снимаем!
Диалог опять шел плавно до самой фразы Дэвида, а потом наступил новый период все углубляющейся тишины.
– Стоп! Дэвид? Почему ты не говоришь свои слова?
– Потому что я никогда не зарабатывал двести девяносто тысяч долларов за год, – пробормотал Дэвид, глядя на свои руки.
– Но, Дэвид! Это же фильм! Это не про тебя!
– Нет, это про меня. Я играю самого себя в этой картине, и я не хочу говорить ни слова неправды. Потому что я действительно музыкант. Я действительно играю на фортепиано, я действительно пишу песни.
– Дэвид, ты пришел сюда, на этот обед, как будто ты ухаживаешь за девушкой! А на самом деле ты за ней неухаживаешь!
– Откуда вы знаете? Мысленно ухаживаю.
Я попытался переубедить Дэвида, но он даже не смотрел на меня и упрямо доказывал, что фильм про него. Наконец у меня опустились руки, и тогда за дело взялся Джон Клейн. Он отвел Дэвида в сторону и что-то шептал ему на ухо битых два часа, а мы все нервно слонялись по площадке. Потом он подошел ко мне и сказал, что Дэвид готов произнести свои слова в нужный момент. Теперь уже я отвел Джона в сторонку:
– Что ты ему сказал?
– Я спросил у него, сколько он самое большее зарабатывает за год, а потом я объяснил ему, откуда взялась эта цифра, двести девяносто тысяч. Я сказал ему, что правительство сразу заберет половину, а потом еще надо будет платить агентам и бухгалтерам, и потом еще будут другие расходы, ну и так далее. И в конце концов я дошел до трехсот долларов, которые он заработал в прошлом году.
– Так он все еще думает, что этот фильм про него? – недоверчиво спросил я.
– Ты хочешь, чтобы он говорил убедительно, или не хочешь?
Я скомандовал: «Мотор», – и затаил дыхание.
Все началось так же гладко.
– Сколько? – спросил Бак.
– Двести девяносто тысяч, – сказал Дэвид. – Без налогов…
Я вздохнул с облегчением и уже хотел сказать «Стоп!», когда Дэвид снова заговорил и на этот раз начал импровизировать. Он вошел в роль, и я не стал мешать ему.
– Забавная штука, – сказал он. – Знаете, многое из того, что делает правительство, меня злит, ну вот я и пишу песни про это и хочу, чтобы их как можно больше людей услышали… А потом приходится платить именно за то, что тебя больше всего злит… Но знаете, я, как мне кажется, признаю противоречия…
Это было великолепно.
Когда мы закончили «Отрыв», я был уверен, что это очень хороший фильм. Я рассчитывал на то, что его успех в Америке даст мне возможность навсегда вернуться к моей семье в Прагу.
Политическая ситуация в Чехословакии стала к этому времени трагической. Александр Дубчек и другие либеральные коммунисты «пражской весны» ушли в историю, к власти вернулись старые сталинисты. Начались чистки, аресты, запреты на книги и фильмы, но я все еще не хотел эмигрировать из моей страны, как это сделал Иван. Я думал, что «Отрыв» станет таким хитом в Америке, что даже ревнивые партийцы с «Баррандова» уже не смогут мне навредить. Я заработаю много денег, поеду домой через четыре или пять месяцев, отдохну с семьей, а потом начну искать новую работу. Кроме того, Папушек и Ондржичек оба были в Праге, так что я надеялся, что мне повезет и я смогу собрать почти всю мою старую команду.
Коммунист из Голливуда
Американцы – самый благородный народ на свете. Они невероятно искренни, уступчивы, всегда готовы прийти на помощь, всегда открыты для нового. Но они также могут быть совершенно невежественными, когда речь заходит об остальном мире. По мнению многих американцев, если вы приехали из коммунистической страны, вы наверняка красный или по меньшей мере левак.
В 1971 году «Отрыв» был наконец показан на открытом просмотре в кинотеатре «Плаза» в Нью-Йорке. Первый сеанс начинался в полдень в воскресенье, и мы с Майком Хаусманом решили пойти. В тот день я проснулся в четыре часа и больше уже не заснул. В шесть часов я побежал за воскресной «Нью-Йорк таймс». Я лихорадочно пролистал толстую газету и нашел весьма благоприятную рецензию. Они даже поместили мою фотографию.
Я прочел всю газету, а потом решил, что должен как следует обставить великую премьеру моего первого американского фильма. В десять часов я отправился в гараж за машиной. Это был старый зеленый «мерседес», я не ездил на нем больше года, и он совсем застоялся. Я привез его из Европы, на нем еще были чешские номера. Я собирался подъехать к кинотеатру, где-нибудь позавтракать, а потом пить кофе и ждать Майка.
В тот день я был так возбужден, что, выехав из гаража, сразу же поехал на красный свет. В тот момент, когда я увидел в зеркальце заднего обзора полицейскую мигалку, я сообразил, что забыл дома бумажник. У меня не было ни прав, ни паспорта, ни удостоверения личности, но зато были очень странные номера.
Полицейский был беспощаден. Он задержал меня сразу, как только услышал мой акцент. В участке я рассказал дежурному сержанту, что я – чешский кинорежиссер, и он понял, что я не просто угонщик, а угонщик-коммунист. Я пытался объяснить, что все дело в нервах. Через час в «Плазе» должна состояться премьера моего первого американского фильма, и мне было просто сложно думать о чем-то другом.
Чем больше я говорил, тем больше вызывал подозрения. Полицейские уже собирались бросить меня за решетку, когда меня осенило:
– Слушайте! У вас здесь есть сегодняшняя «Нью-Йорк таймс»?
Они усмехались, пока я лихорадочно листал газету. Им-то все уже было ясно. Я нашел свою грязноватую фотографию и сунул им под нос. Усмешки сбежали с лиц. Перед ними был Мистер Голливуд. Очень Важная Персона из кино. Они быстро позвонили в кинотеатр «Плаза» и связались с Майком Хаусманом.
Когда Майк вызволял меня из участка, он хохотал так, что, если бы этот смех удалось законсервировать, мы бы до сих пор слышали его отголоски. Он еще хихикал, когда мы входили в кинотеатр, но едва мы оказались в зале, как смех прекратился: на премьеру моего первого американского фильма собралось всего-навсего восемь зрителей.
Майк и я провели в «Плазе» целый день и постепенно успокоились. К вечеру билеты стали продаваться лучше. Во время фильма зрители смеялись и веселились, но повисшая в воздухе концовка, казалось, озадачивала их. Сбежавшая дочь вернулась домой, но как понять, надолго ли? Ясно, что никого из семьи пережитое потрясение ничему не научило. Нью-йоркские зрители казались разочарованными. Тем не менее после последнего сеанса мы с Майком были довольны тем, что увидели.
Мнения рецензентов были разными: от хвалебных до двух-трех писулек, в которых меня обвиняли в том, что я обливаю Америку грязью, и советовали мне убираться шипеть туда, откуда я пришел, – интересно, что авторами этих замечаний были друзья – эмигранты из коммунистических стран. Позже фильм сделал неплохие сборы в Европе, но в Америке дохода от него не было. Во многом был виноват неопределенный финал, но большую роль сыграло и то, что со стороны «Юниверсал» не последовало ни одного слова в поддержку фильма, никакой рекламы. «Отрыв» показывали на протяжении шестнадцати недель. Он никогда не был в широком прокате и до сих пор не записан на видео.
Поскольку мне приходилось расплачиваться по долгам еще до того, как «Отрыв» принес какую-то прибыль, я так и не увидел ни цента. Я был разорен, срок моей американской визы истекал. Мне нужно было решать, где жить и работать. Принять самое главное решение было легко: о возвращении в Чехословакию больше не могло быть и речи. Во-первых, я боялся возвращаться, потому что знал, как коммунисты не доверяют людям, жившим за границей без каких-то весомых оснований. Во-вторых, я был слишком честолюбив, чтобы возвращаться побежденным. Мой американский фильм не покорил Голливуд, у меня было всего несколько рецензий. Но я твердо решил сделать еще одну попытку. В глубине души я знал, что смогу снять удачный фильм в Америке – фильм, который мне ни за что не удалось бы снять в Чехословакии.
Наконец, когда вы совершенно выбиты из колеи и потерпели полное поражение, самые ничтожные вещи начинают приобретать огромное значение. У меня просто не было денег на обратный билет. Итак, я написал вежливое письмо чешским властям с просьбой разрешить мне остаться за границей еще на какое-то время. Мне быстро ответили, что я должен вернуться в Прагу и поставить какую-то печать в паспорте. Было ясно, что, если я вернусь, обратно мне уже не выехать, так что я написал новое письмо, о том, что у меня нет денег на самолет, я прошу лишь о печати, которую без проблем могло поставить мне чешское посольство в Вашингтоне.
Следующей дошедшей до меня новостью стало известие о моем увольнении с «Баррандова». Жребий был брошен. Я стал эмигрантом и подал прошение о выдаче мне «грин карт». Спустя несколько месяцев мне пришло приглашение на беседу в Иммиграционную службу.
Через барьер в приемной на меня смотрел суровый человек с булавкой в галстуке.
– Ваше прошение о выдаче «грин карт» отклонено.
– На каком основании?
– На том основании, что вы солгали в этом прошении.
– О чем я солгал?
– Вы утверждаете, что никогда не были членом коммунистической партии.
Я с изумлением уставился на него.
– Послушайте. – сказал я, – я не знаю того, что знаете вы, но что до меня, то я никогда не был членом ни одной политической партии, и уж в особенности – коммунистической.
– Наши сведения говорят о другом, – сказал бюрократ. – Вы будете подвергнуты процедуре депортации.
Это заявление так потрясло меня, что я немедленно стал искать адвоката, занимающегося проблемами иммиграции. Адвокат согласился, что моя ситуация была очень серьезной, но подал апелляцию и сумел отсрочить мою высылку.
Через год мне пришло новое извещение из Иммиграционной службы. Мне предлагалось снова встретиться с человеком с булавкой в галстуке. Он был суров, как обычно.
– Мистер Форман, вы никогда не были членом коммунистической партии, – сообщил он мне и протянул мою «грин карт».
У меня нет точного объяснения происшедшему. Я думаю, что правительство США получало информацию из источников по обе стороны «железного занавеса». Видимо, у американцев не было независимой сети информаторов в Чехословакии, так что им не приходилось выбирать сотрудников. И если чешская госбезопасность хотела навредить какому-нибудь эмигранту, она просто поставляла о нем информацию, которая была ей выгодна.
Меня не слишком волновала нелегальность моего пребывания в Америке в течение года. Я не имел права работать, но я и так не особенно стремился к этому. Я понял, сколько мне еще надо узнать об Америке, чтобы снимать фильмы в этой стране. Я осознал, что в Америке всегда будут какие-то вещи, которые я не смогу постичь до конца, но это не должно мне мешать до тех пор, пока я буду помнить об этом и работать в пределах моих познаний, однако мне предстояло полностью изменить стиль работы.
В Америке было совершенно невозможно ставить фильм про события повседневной жизни и снимать в нем непрофессиональных актеров. Я мог переносить на экран книги или пьесы, но мне нужно было узнать абсолютно все о мире, в котором происходят эти события, чтобы сделать мой фильм максимально правдивым.
Грубо говоря, я понял, что, если, зайдя в бар по соседству, я не буду понимать каждое услышанное там слово, мне нечего и пытаться снимать фильмы типа «Любовных похождений блондинки» или «Бала пожарных».








