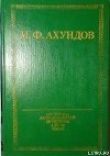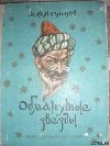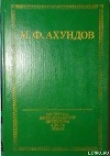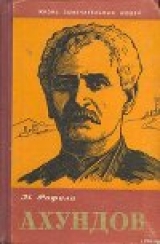
Текст книги "Ахундов"
Автор книги: Микаил Рафили
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Улетучивались сомнения, волнение душило Ахундова. Ему захотелось высказаться. Он взял каламдан [45]45
[45] Каламдан – особый вид пенала с отделениями для туши и перьев.
[Закрыть], вынул гусиное перо и на обложке новеллы Куткашинского записал: "Душа моя из тех пламенных душ, которые никогда не в состоянии скрыть ни радости, ни печали, а потому я не могу не сообщить вам сегодняшнюю мою радость: уничтожилось для меня всякое сомнение в несбыточности начатого нами предприятия, и желание наше близко к исполнению, о чем с сего же числа даю вам верное обещание. Объяснение оставляю до другого удобного случая.
18 марта 1846. Мирза Фатали".
Это был черновик письма к Уцмиеву. Но вручить письмо ему не удалось Уцмиев уехал.
Ахундов вновь почувствовал себя одиноким. Как глупо было верить, что эти высокопоставленные дворяне смогут понять его мечты, смогут решиться на смелое, благородное дело, пожертвовать собой ради народа.
Он один. В бурю, в ненастье, без чужой помощи должен он ринуться в жизнь.
Судьба ежечасно наносила ему удары. Исчезали старые друзья, появились новые, а круг врагов становился все шире и шире.
Бакиханов духовно уже больше не существовал для Ахундова. Он уехал в Стамбул, чтобы повергнуть к стопам турецкого султана свои научные труды, а затем отправился в Мекку на поклонение праху Мухаммеда. Мирза Шафи жил в Гяндже. Абовян уже давно уехал из Тифлиса и находился в Эривани. Ему жилось нелегко в родном городе. Тайные доносы, нападки царских чиновников и эчмиадзинского духовенства делали его жизнь все более невыносимой. По клеветническому доносу уездного начальника Блаватского Абовян был обвинен в оскорблении армянского католикоса Нерсеса, а вслед за тем подвергнут аресту.
Пришла весть о смерти Бакиханова в Аравийской пустыне от холеры. Остро ощутил Ахундов его гибель. Хотя Бакиханов своей поездкой в Мекку и вызвал досаду и недовольство, Ахундов знал, что это был выдающийся человек и, несмотря на все свои глубокие противоречия, горячо любил родину и хотел только блага своему народу.
Вскоре из Эривани пришла новая печальная весть: при таинственных обстоятельствах исчез Абовян. Никто не знал, что с ним случилось. Арестован? Сослан? Убит? Утонул? Покончил жизнь самоубийством? И вновь в памяти Ахундова возникли строки, написанные давным-давно, в год смерти великого русского поэта: "Безумна птица, которая, однажды увидев сеть своими глазами, для зерна вновь летит на опасность".
Ахундов опять обратился к книгам. В Тифлисе распространялись почти все столичные русские журналы и газеты. В 1846 году в городе начала выходить газета "Кавказ". Редакция этой газеты была контрагентом ряда издательств. Она продавала литературу, поступающую из Петербурга и Москвы. О значительном количестве получаемых книг можно судить по регулярно печатаемым объявлениям; в некоторых из них перечислялось 40–50 названий книг разнообразного содержания.
Шли дни, месяцы. Ахундов не мог решить мучающих его вопросов.
8 октября 1846 года он был на представлении "Горе от ума" Грибоедова. Потом смотрел пьесы Мольера, Шекспира. Постепенно в его сознании выковалось решение: он будет драматургом, создаст пьесы на азербайджанском языке, через театр просветит свой народ, театр поможет ему общаться с миллионами…
Огонь вырвался наружу.
Кончилось мрачное оцепенение, начиналась жизнь, сотканная из мечтаний и надежд.
В 1845 году был поставлен вопрос об организации казенного театра в Тифлисе. Для этой цели было переоборудовано помещение тифлисского манежа, где вскоре открылся временный театр.
На тифлисской сцене, пользовавшейся большим успехом, обычно ставились водевили и мелодрамы. Так, например, в первый театральный сезон было поставлено 106 водевилей. Но наряду с этим в репертуар театра включили и классические произведения. Весною 1851 года строительство нового помещения было закончено, а 12 апреля театр был открыт в торжественной обстановке. Директором его был назначен граф В.А. Соллогуб.
Театр значительно оживил художественную и культурную жизнь Тифлиса. Он имел огромное общественное и культурное значение. Успех театр завоевал не сразу. Но постепенно он стал привлекать местную публику, и театральная жизнь вступила в пору расцвета. Тифлисцы целую зиму наслаждались небывалым явлением – оперою. Они почувствовали обаяние музыки европейских народов, их слух и сердце пленили "Эрнани", "Севильский цирюльник", "Риголетто". Главную часть посетителей составляли грузины, армяне, азербайджанцы, очарованные нахлынувшей на них волной европейской музыкальной культуры, звучанием чудных мелодий гениальных композиторов, ритмом и прелестью танцев и балетных сцен, совершенно неожиданных, незнакомых для них. Пусть все это исполнялось не всегда на высоком уровне мастерства, но это было неким чудом, манящим и увлекающим воображение. Успех некоторых опер был ошеломляющим. Так, например, оперу Мейербера "Роберт-дьявол" приходилось давать несколько дней подряд.
Пестрая шумная публика заполняла театр. Любо было смотреть на темную массу партера, на блестящие ряды лож. Всюду сверкали живописные наряды. Дешевые места на верхней галерее были набиты мальчишками, которые, широко раскрыв рот, жадно смотрели на сцену, внимательно слушали музыку и пение, "дивились диву невиданному, даже иногда подхватывали аплодисменты партера".
Но опера не была единственным предметом увлечения. На сцене театра с неменьшим успехом шли произведения Грибоедова, Гоголя, Островского, Мольера, Шекспира, Скриба. Был составлен проект организации грузинской и азербайджанской трупп.
Ахундов страстно увлекся театром. Он с особым рвением стал изучать мировую драматургию, читал античных писателей, интересовался русскими водевилями. Он перелистывал сотни страниц, часто посещал театр, вникал в игру актеров, любовался меткостью диалога, неустанно изучал технику драматического искусства, пытаясь раскрыть тайны мастерства великих драматургов. А жизнь он знал прекрасно, и в его голове постоянно носились образы, сюжеты, идеи. Ахундов готовился стать первым на Ближнем Востоке драматургом.
12
Работая в канцелярии наместника Кавказа, Ахундову, больше чем кому-либо другому, приходилось сталкиваться с социальной несправедливостью.
Его сильно задевали и грозный тон чиновника, кричащего на бедного крестьянина, пришедшего в Тифлис жаловаться на помещика, и бесправное положение своих земляков, обивавших пороги судебных учреждений, царских канцелярий, безуспешно добивавшихся восстановления своих прав, возврата незаконно отнятых земель и имущества.
Ахундов часто звал земляков к себе, да они и без приглашения приходили к нему: он писал для них прошения, давал советы, если нужно, сам ходил с ними по различным учреждениям, спорил с чиновниками, просил, объяснял, а они, не понимавшие русского языка, безъязычные, смотрели на него умоляющими глазами, надеясь, что он поможет спасти их семьи от разорения. Как больно сжималось сердце Ахундова, когда он видел эти просящие взгляды! Но что может сделать он, переводчик Ахундов? Ничего. А что может сделать Ахундов – писатель, драматург, трибун, публицист? Он может сделать то, чего не сделает целая армия. Решение Ахундова быть драматургом закалялось, превращалось в сталь: она могла согнуться, но сломаться – едва ли.
"Природе человека присущи две главные особенности, – писал Ахундов, – одна из них – печаль, другая – радость; признак печали – плач, признак радости – смех. Печальное происшествие или радостное событие, устное или письменное сообщение об этом пробуждает в природе человека эти два явления. Если это передается в устной или письменной форме, основным поводом печали и радости, плача и смеха является повествование. В большинстве случаев событие, сообщенное в недоступной форме, не оставляет какого-либо впечатления. Но если то же самое событие будет передано иным, особым способом, то оно может оставить глубокое впечатление. Мы неоднократно наблюдали это в обществе бездарных или даровитых проповедников… Польза передачи человеческих страданий и красоты заключается в том, что она отражает нравственность и характер людей. Слушатели воспримут доброе с удовлетворением и будут подражать ему, а злое доставит им неприятность. Слушание подобных повествований доставит им удовольствие, и они не будут стремиться к недоброму и грешному". Уже из этих слов можно заключить, что Ахундов ставил перед собой воспитательную задачу: исправлять нравы людей, улучшать их жизнь. Он придавал чрезвычайно большое значение миссии писателя, который должен стремиться пробуждать в массах благородные идеи, ненависть к невежеству, любовь к культуре.
Созданием своих комедийных произведений Мирза Фатали Ахундов надеялся приблизить время, когда в Азербайджане, во всех странах Востока, будет создана возможность открытия театров – храма культуры, мощного орудия перевоспитания народных масс, орудия изменения действительности. "Цель драматического искусства, – писал Ахундов, – улучшать человеческие нравы, быть образцом для читателей и зрителей".
Ставя перед собой просветительные задачи, Ахундов прокладывал новые пути для развития художественной литературы мусульманских народов.
"Времена "Гюлистана" и "Зинат-уль-меджалиса" канули в вечность", – писал он. Сегодня такие произведения не могут уже принести народу пользу. Ныне полезными, отвечающими вкусу читателя и интересам нации произведениями являются драма и роман. Нельзя, конечно, согласиться с Ахундовым в оценке "Гюлистана" Саади, являющегося одним из самых выдающихся произведений классической поэзии. Тем более, что о другом произведении Саади "Бустан", написанном в том же духе и стиле, что и "Гюлистан", Ахундов отзывается с похвалой. В данном случае М.Ф. Ахундова следует понимать в том смысле, что современная поэзия должна развиваться по новому пути, по пути реализма, правдивого изображения действительности.
Быть певцом своей эпохи, выразить передовые идеи своего времени, стать учителем своего народа – как пламенно мечтал об этом Ахундов! И мечта уже начинала осуществляться. Обращение к жизни, освоение культуры русского народа дали ему исполинские силы: он стал первым драматургом азербайджанского народа.
Борьба за национальный театр – один из признаков становления азербайджанского народа как нации. "Национальный театр есть признак совершенствования нации, так же как академии, университеты, музеи, – пишет А.Н. Островский. – Иметь свой родной театр и гордиться им желает всякий народ, всякое племя, всякий язык". Все стремления Ахундова в этот период были направлены на то, чтобы создать театр на родном языке, через театр пронести в народ идеи ; национального возрождения, освобождения от гнета, неволи и отсталости. Это было высшим идеалом М.Ф. Ахундова в сороковые годы.
Но о чем писать? Бесконечно воспевать любовь, утехи, вино, разлуку, румяные щеки, похожие на спелые персики, оленьи глаза, брови, покрытые сурьмой, лик, схожий с луной, раскрывать тайны гаремной жизни… Нет, довольно! Писать об этом он, Ахундов, не будет. Пусть пишут другие. Не будет он и рыться, подобно авторам французских бульварных романов (он читал их!), в психологии падших женщин… Прочь все это! Не станет он также наводить лоск на жизнь, он покажет ее такой, какая она есть на самом деле. Он будет разоблачать людские пороки. О, как посмеется он над обманщиками дервишами, над тупоумными ханами, скупыми поставщиками, над беками, грабящими народ, над невежественными людьми, не видящими прока в просвещении. Язвительным смехом он будет смеяться над старым миром, и от раскатов его смеха пробудится весь Восток.
Теперь он писал. Тубу часто подходила к нему, но Ахундов не поднимал головы. Он был весь поглощен работой. Перебирая книги на полке, с удивлением рассматривая их, Тубу хотелось о чем-то спросить, но она молчала.
Однажды Тубу не выдержала. Она стояла у открытого окна и любовалась ранним и свежим тифлисским утром. Но мысли ее были рядом с любимым человеком.
– Вот мы уже давно снова вместе, Мирза! – сказала она робко и прислушалась.
Тишина.
– Ты добрый, веселый, умный. Я счастлива с тобой.
Она замолчала в ожидании. Но никто ей не ответил.
– Знаешь, Мирза, я одного не понимаю. Почему ты так много работаешь? Разве тебе мало того, что проводишь долгие часы в канцелярии? О чем ты пишешь? Когда ты сидишь за работой, ты ничего не слышишь. Мирза.
На дворе цвела яблоня. Легкий ветерок игриво задевал шелестящие листья, на ветвях чирикали серенькие воробьи. Был слышен мерный шум Куры.
– Ты опять задумался, Мирза?
Тубу осторожно подошла к нему и стала рядом.
Ахундов поднял голову, обнял ее нежно и спросил:
– Тебе скучно, Тубу?
– Нет, нет, мне не скучно. Но ты все эти дни много работаешь. Ты и по утрам стал дома работать. Я неграмотная женщина. Но я хочу знать, о чем ты пишешь?
Ахундов привлек ее к себе.
– О чем я пишу, Тубу?
– Да, Мирза, о чем ты пишешь?
– О тебе, мой друг, о таких, как ты… О забитых, закрепощенных сестрах и братьях твоих. Я мечтаю о том дне, когда не будет насилия над волей человека и на родине нашей расцветет невиданная, неслыханная жизнь, как в раю.
Удивленно слушала Тубу непонятные ей речи.
– О каком ты рае говоришь, Мирза? – спросила она. – Разве рай не там, на небе?
– Я говорю о земном рае, о простом человеческом счастье, Тубу…
Тубу ничего не понимала, но в душе она благословляла своего мужа.
Мирза Фатали Ахундов работал над своим первым драматическим произведением.
Одно из главнейших и существенных качеств Ахундова-драматурга – оригинальность и самобытность. Создавая свои замечательные драматические творения, Ахундов показывал страдания, радости, надежды и стремления своего народа.
"Автор их принадлежит к числу самобытных писателей, – отмечала газета "Кавказ", – он никому не подражает, ни у кого не заимствует, он наблюдает и записывает свои наблюдения, придавая им, так сказать, форму, вид комедии. Если эти si dissani комедии не вполне соответствуют условиям сцены, если принять во внимание теорию какого-нибудь Батте или новейшего блюстителя форм, то, разумеется, можно очень ученым образом доказать, что г. Ахундов не совсем верно назвал свои произведения комедиями, что их скорее можно сравнить с известными Proverbes Альфреда де Мюссе, и что едва ли они могут с успехом исполняться на сцене даже при большом старании актеров.
…Он писал их с другой целью, с целью изобразить сколь возможно верно нравы своих единоверцев и соотечественников мусульман и, чтобы живее их изобразить, заставил их разговаривать и действовать. И он достигает своей цели, он представил верную картину, в коей употреблены самые соответственные ей краски. С этой точки зрения должна критика смотреть на произведения г. Ахундова".
"Алхимик Молла-Ибрагим-Халил" – первый ощутительный удар, который Ахундов нанес по феодально-патриархальным устоям азербайджанской действительности XIX века. Комедиография Ахундова – зеркало азербайджанской жизни, но это не холодное, отшлифованное, безразличное отражение, а яркая, типическая картина, нарисованная живыми, выразительными красками, которые передавали глубокую мысль художника, биение сердца писателя-патриота, его страстное, бескорыстное служение истине, его мечту о грядущем.
Смех Ахундова был едким и убийственным. Но то, что он описывал, было далеко не смешным. Фанатизм, суеверие, отсталость могли вызвать только слезы у человека, беззаветно преданного своему народу, мечтающего о его светлых и счастливых днях. Но Ахундов не только мечтал, он действовал, боролся, любил и ненавидел. В его ненависти к окружающей жизни была безграничная любовь к родному народу, желание уничтожить все то, что мешало его прогрессу и освобождению. А смех был могучим оружием борьбы. Ахундов показывает зло, идиотизм окружающей жизни. Он снимал покровы с "темного царства", помогал осознать невозможность дальнейшего существования страшных уродств и контрастов, порожденных феодальной действительностью.
Ахундов ввел в поле зрения читателя почти все социальные сословия своего времени. Гаджи Керим – золотых дел мастер, Ага-Заман – знахарь, Молл а-Салман – духовный служитель, Мешади Джаббар – купец, Сафар-бек – помещик. Все они легкомысленно поверили лживым словам пройдохи Ибрагим-Халила, якобы нашедшего философский камень, "один золотник которого, примешанный к пуду расплавленной меди, обращает его в чистое золото". К шарлатану, именующему себя моллой, потянулись все жаждущие без труда приобрести большое богатство.
Золотых дел мастер мог бы жить своим трудом, но потерял доверие народа: никто не делал ему заказов, так как он более половины золота и серебра, которые ему приносили, крал, пополняя их вес медью и бронзой. Если бы он работал честно, то никогда бы не ощущал бедности. А теперь он готов отдать под залог свой сад, лишь бы разбогатеть при помощи философского камня.
Знахарь взялся не за свое дело. Он ничего не смыслит в медицине. Его покойный отец был цирюльником, составил благодаря бритве и рожку для кровопускания порядочное состояние. Сына он научил своему ремеслу. Но тог растратил состояние и не довольствуясь ремеслом цирюльника, вздумал прославиться в области медицины. По милости новоявленного медика целое кладбище наполнилось покойниками. И народ отказался от его услуг. Если бы он поучился у русского врача, то перестал бы по крайней мере лечить лихорадку арбузным соком. А теперь он отдает под залог сад своей жены, чтобы раздобыть тысячу рублей для алхимика, надеясь, что тот поможет ему вновь стать богатым человеком.
Из Молла-Салмана мог бы выйти славный дровосек, но ему вздумалось быть моллою, и это лишь потому, что моллой был его отец. Покойный трудился, учился наукам и заслужил звание моллы. А этот даже своего имени не в состоянии подписать правильно: по какому же праву он хочет быть моллою? Ученость не отцовская шуба, чтобы переходить по наследству. Но если бы он, обладая широкими плечами, имея силу, взялся за работу дровосека, то в год заработал бы более пятнадцати туманов.
А помещик вместо того, чтобы жить в деревне, заниматься сельским хозяйством, получать от своего имения доходы, пустился в свет, начал беспрестанно ссориться то с одним, то с другим, стал злословить, не давал начальству покоя своими жалобами на виновных и невинных, наконец, прослыл человеком беспокойного характера, попал под суд, три года судился, "три года был в ссылке, утратил золотое время жизни. И теперь по милости мнимого химика Молла-Ибрагим-Халила хочет сразу разбогатеть.
Надежда на легкую наживу овладела их умами. Ни поэзия, ни знания, ни умные речи – ничто их не интересует. "Разве не полезно знать о минувших событиях?" – говорит им поэт Гаджи Нури, единственный разумный человек, не поверивший Молла-Ибрагим-Халилу. С грустью он замечает, что его дорогие соотечественники не могут ценить прекрасную поэзию, так как лишены чувства и ума. Он призывает их не верить пройдохе, жить своим трудом, ибо "для всякого человека эликсиром или философским камнем является его ремесло – источник его благосостояния. Так зачем же гоняться за алхимиками? Я не видел Молла-Ибрагим-Халила, но, здраво рассуждая, полагаю, что он, должно быть, ловкий плут. Как рассказывают, он был недавно в Тифлисе. Но кто дал ему разрешение изготовлять эликсир? Кто видел этот самый эликсир? Эликсира, или иначе философского камня, в природе не существует".
Гаджи Нури остается одиноким: никто не понял его мудрых советов, никто не отвернулся от шарлатана. И он ушел, ибо речи его были бесполезны.
Несомненно, правда была на стороне бедного поэта Гаджи Нури. Он на голову выше своих соотечественников, он трезво смотрит на жизнь и не доверяет моллам. И не послушавшие умного совета Гаджи Нури нухинцы были одурачены моллой и потеряли последние деньги.
В небольших и ярких картинах Ахундов разоблачает тунеядцев, любителей легкой наживы, лицемеров и святош.
Не так легко Ибрагим-Халилу скрыть свои мошеннические дела. Но у него есть духовный сан, усомниться в святости которого никто из правоверных не посмеет. Прикрываясь религиозностью, ему удается обмануть нухинцев… Он выдает себя за отшельника, проводящего дни в уединенных молитвах, он отказывается говорить с людьми о делах света, обманывает их своей мнимой ученостью, молится в парадном костюме, с чалмою на голове, с длинными четками в руках. Как можно не верить словам такого богобоязненного святого человека? "Я же просто человек, преданный религии и ведущий нравственный образ жизни… – говорит Ибрагим-Халил. – Милостью аллаха, а также благодаря своим обширным познаниям в науке алхимии и долговременным опытам по части физики я постиг тайны законов природы и открыл способ составления эликсира". В чем же заключается новооткрытый святошей философский камень? "Растение, входящее главной составной частью в эликсир, – объясняет нухинцам Молла-Гамид, ученик шарлатана, – растет только на склонах этих гор, и никто, кроме высокостепенного Молла-Ибрагим-Халила, его не может познать. По исследованию греческих ученых это растение вырастает только при ночном пении петуха". Конечно, невежественные нухинцы благоговейно преклоняются перед человеком, ссылающимся на греческую науку, говорящим непонятные таинственные слова о физике и химии, о том, что дервишу Аббасу вменено в обязанность каждый день к вечеру с соблюдением старого обряда привязывать петуха на новом месте, целую ночь не спать и караулить его от шакалов и лисиц. Ухаживать за петухом, кроме дервишей, никому не разрешается. Так предписывает книга "Диво-дивностей". И нухинцы, слепо верящие каждому слову шарлатанов, с изумлением восклицают: "Великий, премудрый аллах!"
Рассказывая о паразитизме молл, о лицемерных проповедях шейхов, о жадности купцов, их стремлении к обогащению нечестным путем, о сутяжничестве бездельников-дворян, Ахундов вскрывает язвы феодальной жизни. Суеверие и фанатизм нашли в его лице своего непримиримого врага. Именно благодаря суеверию и были позорно обмануты алхимиком ну-хинцы, поверившие в то, что он нашел философский камень. С помощью мошенничества, ссылаясь на всемогущество и премудрость аллаха, обирают легковерных нухинцев проходимцы. Оказывается, приготовить эликсир можно только в том случае, если нухинцы не будут вспоминать обезьяну. Но как ни старались несчастные нухинцы забыть обезьяну, она лезла в голову, путала их мысли, доводила до бешенства. Виновниками того, что опыт с эликсиром оказался неудачным, они оказались сами, так как не смогли забыть обезьяну. Через месяц они вынуждены были прийти к шарлатанам еще раз, но их приход ни к чему не привел: к этому времени, взяв с собою чужие деньги, алхимик вместе со своими помощниками успел скрыться за Араксом.
Зло и беспощадно высмеивал Ахундов в своей маленькой комедии феодальное общество, растлевающее и развращающее человека, унижающее его достоинство. Он ратовал за труд, за честную жизнь, в чем видел единственный эликсир жизни, единственное спасение от нищеты и голода.
Когда он кончил писать комедию "Алхимик Молла-Ибрагим-Халил", его сердце охватила лихорадочная радость – это было первое крупное литературное произведение нового жанра на Ближнем Востоке. Учителем Ахундова был Гоголь, "о писал он по-своему. Язык, стиль, сюжет, манера излагать мысли – все было неповторимо, своеобразно. Да и форма самой комедии была сугубо национальной.
Ему не сиделось на месте. Он встал, быстро оделся. Тубу удивленными, непонимающими глазами смотрела на него. "Куда, Мирза?" – спросила она. Ахундов ничего не сказал, только крепко обнял ее и выбежал на улицу.
Ахундов был высокого роста, ходил ровной походкой, внешне всегда был спокоен и казался совершенно невозмутимым. Но сегодня узнать его было невозможно. Радостно взволнованный, быстрыми шагами шел он по улицам города. Было еще светло, и газовые фонари блестели своими тусклыми стеклами.
Ахундов поднялся вверх по Эриванской площади к горе Давида. Здесь, высоко над городом, куда не доходил шум базаров и людных караван-сараев, он сел на камень и пытливо посмотрел на лежащий перед ним великий оазис на рубеже азиатского мира. Он вспомнил свой первый приезд в Тифлис. Вспомнил, как восхищенными глазами смотрел на город, который ему надо было покорить. Но тогда он был юным, неопытным, не знал тот мир, в который вступал. Ему казалось, что победа будет легкой, что он быстро овладеет русской культурой, затем вернется домой и станет просвещать свой родной народ. Теперь он понял, что жизнь дается только тем, кто борется за каждую пядь земли, за каждый час, за каждую долю счастья. Чтобы стать действительно полезным народу, он должен горы сдвинуть с места, окунуться в самую гущу жизни, разрешить мучительные вопросы современности. Его первая комедия – только первая глава его жизни. Только первая… А сколько еще не написанных страниц впереди, сколько еще ожидает его испытаний, унижений, тревог и неудач!
"Как еще мало сделано!" – думал Ахундов. А ведь ему уже почти сорок лет. Успеет ли он исполнить свою торжественную клятву: добиться свободы и счастья для народа? Он сумеет это сделать только в том случае, если всей душой отдастся литературной работе. Снова забыть о сне, забыть об усталости… Но разве все эти годы он мало работал? Нет, не мало, но надо больше, больше…
Он смотрел на город. Но уже не восхищался. Это был мудрый, спокойный, уверенный взгляд. Ахундов знал теперь и теневые стороны жизни. Сердце все еще билось, возбужденное радостью творческой победы, но к радости примешивалась печаль, уйти полностью от которой ему никогда не удавалось.
Когда он стал спускаться с горы Давида, на бульваре Головинского проспекта уже горели огни газовых фонарей.