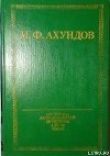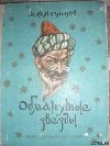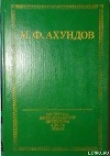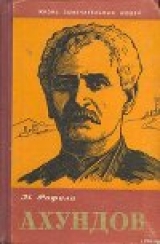
Текст книги "Ахундов"
Автор книги: Микаил Рафили
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
6
Всадники внезапно натянули удила своих коней и стали у высокого берега Куры, с глухим ревом катящей мутные воды. Вблизи, совсем под ногами, в долине, окруженной скалистыми горами, широким и красивым амфитеатром лежал Тифлис.
Утопая в солнечных лучах, высоко над горами в безмолвии стояла седая Мтацминда [32]32
[32] Мтацминда – название горы.
[Закрыть]– несокрушимая свидетельница многострадальной жизни грузинского народа.
Тифлис… Сколько поэтических легенд связано с этим чудесным солнечным городом, разукрашенным изумрудом зеленой листвы, высокими, тянущимися к небу кипарисами! Рассказывают, что 1500 лет назад царь Вахтанг Горгасале, однажды охотясь в лесу, меткой стрелой ранил дикого оленя. Истекая кровью, олень бросился от охотника. И вдруг перед ним показался горячий источник. Сломя голову, задыхаясь от быстрого бега, обессиленный от раны, он еле добежал до источника и упал замертво. Но это был только миг. Неожиданно олень, словно обивший от каких-то целебных сил, поднялся на ноги, высоко вскинул свою красивую голову, встряхнулся и кинулся прочь: он исчез в густых зарослях.
Верить или не верить этому сказанию, но говорят, что царь в этот удивительный день убил еще фазана. Смертельно раненный фазан упал в горячие воды источника, около которого только что чудом ожил быстроногий олень. Слуги принесли ему пронзенного стрелой фазана. Он сварился. Изумленный Вахтанг велел исследовать горячий источник. Источник оказался целебным. Вскоре здесь был заложен город, названный Тбилиси – "теплым".
Много бурь и гроз пронеслось над этим городом-красавцем. Но он остался жить, ибо Грузия не могла жить без своей столицы. И теперь, много веков спустя, над ним сияло солнце, и он красовался перед взорами всадников во всем величии и несокрушимости.
Их было двое. Они были одеты в черные шерстяные чухи [33]33
[33] Чуха – азербайджанская одежда, вроде черкески
[Закрыть]с золочеными галунами и длинными, развевающимися рукавами, разрезанными позади от плеча до кисти рук. Под чухой был надет шелковый архалук [34]34
[34] Архалук – верхняя одежда, обычно надеваемая под чуху.
[Закрыть], из-под которого виднелась красная канаусовая сорочка со светлыми шнурками.
Всадник постарше, с широкой бородой, подпоясанный черным азербайджанским кушаком, несколько напоминал человека духовного сана, благородного и серьезного. Он был одет проще своего спутника, смуглого юноши, жадно и с удивлением всматривающегося в контуры города. Юноша восхищался. Он впервые в жизни видел большой и красивый город. Ему казалось, что здесь начнется его новая жизнь, здесь он найдет ответы на те многочисленные вопросы, над которыми, жаждущий знаний, стремящийся проникнуть в тайны природы и жизни, он тщетно бился всю свою юность. Когда-то он думал стать моллой, но счастливая, незабываемая встреча с ученым-поэтом из Гянджи резко изменила его жизнь, вызвав в нем стремление к иному, неизвестному миру. Он хотел, о нет, он должен был изучить язык русских, неведомый, какой-то странный, но в то же время почему-то близкий, зовущий и обещающий.
В дни золотого листопада, в октябре 1834 года, впервые в жизни Ахундов вступил в этот древний город.
Многоводная Кура, пересекая Тифлис, раскинувшийся у подошвы горы, делит его на две части. На правом берегу реки расположен старый город. Узкие, годные только для пешеходов, кривые улицы, низкие дома с плоскими кровлями, многочисленными крошечными лавчонками своими яркими и пестрыми красками манили взор путешественников. У Куры находился загроможденный арбами, верблюдами, быками многолюдный базар, куда ежедневно привозили разнообразные товары из России и Армении.
В лавках шла бойкая торговля: купцы громко восхваляли свои товары, оглашая базар криками, сзывали покупателей, предлагая фрукты, ситец, изюм, орехи. Перед чувячными мастерскими, расположенными недалеко от базара, висела всевозможная азиатская обувь. Лудильщики, портные, серебряных дел мастера, башмачники сидели в своих тесных лавках. В крытых базарах торговали коврами, различными тканями. Муши – носильщики с огромными ношами – грузно пересекали узкие улицы, проталкивались среди покупателей, прохожих и гуляк. Тулухчу [35]35
[35] Тулухчу – водовоз.
[Закрыть]развозили на мулах огромные бурдюки, наполненные свежей куринской водой. Жизнь базаров и улиц переливалась в караван-сараи, на плоских крышах раздавались звуки зурны, муэдзины звали к молитве.
Базары на Востоке – это не только рынки. Это центр всей жизни города. Базары, бани и караван-сараи заменяли жителям восточных городов клуб и театр. По обилию своих торговых рядов, мясных и хозяйственных лавок, открытых витрин с фруктами, зеленью, овощами, по количеству совершающихся сделок Тифлис не уступал ни одному из крупных торговых центров тогдашнего Закавказья. Здесь было много базаров, которые славились своими богатствами и разнообразием товаров. Бойкий Армянский базар кипел, шумел, удивляя своими красками. Оживленно было на Сионской улице, в Темных рядах, на Шайтан-базаре.
Это была Азия во всем величии и пестроте своей жизни. Но вместе с тем Тифлис этих лет едва ли можно назвать типичным восточным городом. Россия зримо вступала в него. Медленно, но уверенно пробивала себе путь европейская архитектура, воздвигались новые дома, планировались кварталы, строилась новая, европейская часть города. Дом начальника гражданского управления, дом главноуправляющего, арсенал, интендантское управление, таможня олицетворяли новый, чиновничье-административный характер Тифлиса.
Еще в 1825 году в городе насчитывалось более 25 тысяч человек. Основное население составляли грузины, армяне, азербайджанцы. Было здесь и много русских. В городе проживали сотни семей иностранцев. В 1833 году население Тифлиса увеличилось до 40 тысяч. Новая культура, приносимая извне, соревновалась с древней грузинской культурой, нашедшей выражение в характере, в быту и нравах народа, издревле населяющего этот город, в общественной жизни страны, в его литературных памятниках.
7
Над Мтацминдой хмуро висели облака. Веяло прохладой. Шли дожди. Но полностью изгнать южное солнце было не так уж легко. Оно часто появлялось над Тифлисом, и тогда игривые и капризные тучи боязливо убегали, скрывались за холмами.
И все же осень наступила. Все чаще приходилось Фатали сидеть в караван-сарае и нетерпеливо ожидать отца. Гаджи Алескер ходил к тифлисским знакомым, обращался к местным духовным лицам, тщетно умолял их помочь ему определить Фатали на казенную службу. Бакиханов находился в Кубе, где приводил в порядок свои литературные и научные дела, заброшенные из-за длительного путешествия по России. Он побывал на Украине, в Литве, Латвии, Польше.
Фатали с нетерпением ожидал прибытия Бакиханова в Тифлис. И вот счастливый час наступил. Бакиханов вернулся.
Через несколько дней Гаджи Алескер повел своего приемного сына к Аббаскули Бакиханову.
Уведомленный о предстоящем визите, зная цель приезда нухинцев в Тифлис, Бакиханов уже был подготовлен. Он навел необходимые справки, выяснил, куда можно устроить Фатали, и спокойно ожидал их. Юношу он еще не знал, но почетное звание Гаджи Алескера и его глубокие познания в восточных науках вызывали симпатию.
Умно отвечал Фатали на все вопросы Бакиханова. Проверка знаний состоялась, и можно было рекомендовать его на службу. С замиранием сердца слушал Фатали человека, чья жизнь была для него примером. Когда он вместе с торжествующим Гаджи Алескером вышел на улицу, то ликовал от счастья, что надежды его оправдались и ученый отнесся к нему столь дружелюбно.
Всегда общительный, приветливый и отзывчивый, Бакиханов не мог равнодушно относиться к появлению в Тифлисе новых молодых способных азербайджанцев. Он был главным переводчиком, и каждый поступающий в канцелярию главноуправляющего Грузией на переводческую работу (а иной работы для азербайджанцев и не было в царских канцеляриях) неизбежно должен был встретиться с ним, получить его рекомендацию. И вот после многих хлопот и волнений при помощи Бакиханова удалось определить молодого Ахундова на службу.
"Как хорошо обученный языкам арабскому, персидскому, турецкому и татарскому [36]36
[36] Царские чиновники неправильно называли азербайджанский язык татарским, а азербайджанцев – татарами.
[Закрыть]назначен временно для занятий по гражданской канцелярии его превосходительства в помощь штатным переводчикам тысяча восемьсот тридцать четвертого года, ноября первого дня", – записано в служебном формуляре Ахундова.
Временно! В помощь штатным переводчикам! Разве мог Ахундов надеяться на что-либо другое? Русский язык он знал плохо, опыта не имел, беком не был, единственное его богатство заключалось в прекрасном знании восточных языков. Но было у него и другое сокровище – страстное желание познать новый для него, еще малопонятный русский мир. Надо было хорошо изучить русский язык. Но как? Ждать многие годы, пока не овладеешь русской речью, он не мог. Он стремился как можно быстрее наверстать потерянные годы. Ахундов был безумен в своем неудержимом стремлении сделать невозможное – изучить русский язык в течение одного года. Большую часть своего времени он отдавал выполнению обязанностей помощника устного переводчика восточных языков. За это он ежемесячно получал 10 рублей жалованья. Ему приходилось разговаривать с крестьянами, беками, моллами, купцами, ломаным русским языком переводить их жалобы хладнокровным и равнодушным чиновникам канцелярии главноуправляющего. Когда кончался скудный запас русских слов, он, не задумываясь, прибегал к помощи жестикуляции. Эти выразительные жесты не раз выручали его из самых трудных положений. Подчас Ахундову приходилось прибегать к помощи чиновников армян и азербайджанцев, но их было очень мало в канцелярии, да и не каждый хотел помочь ему: они видели в нем конкурента, человека, который в будущем при своих недюжинных способностях может занять их место.
Восприимчивый, привыкший к самостоятельному мышлению, критически настроенный, молодой Ахундов страстно отдался изучению русских книг. Он читал все, что попадалось ему в руки. Науки, доселе незнакомые, чуждые, непонятные, теперь открывали перед ним новые горизонты. Приобретенные знания окрыляли Фатали, пробуждали новые интересы. Только упорный труд, только сильное желание преодолеть свою отсталость могли так быстро привести Ахундова к решению поставленной перед собой великой жизненной задачи – стать на уровне эпохи, стать европейски образованным человеком.
Ахундов учился русскому языку и в канцелярии, и на базаре, и на улице, всюду, где мог услышать русскую речь, где мог познакомиться хоть с одним новым словом. Но настоящая учеба начиналась дома, среди малознакомых книг, которые он брал из Тифлисской библиотеки. Кто-то посоветовал ему прочитать стихи Пушкина. О Пушкине много рассказывал Ахундову и Бакиханов. Пребывание Пушкина в Тифлисе в 1829 году помнили многие.
Однажды он раскрыл страницы сочинений А.С. Пушкина. Глубоко врезались в его память слова "Талисмана":
Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.
Эти стихи не были похожи на те, которые Ахундов читал в свои юношеские годы. Была в них жизненная убедительность и верность наблюдения.
Просто, правдиво, без пышных фраз и фантастических гипербол рассказывал поэт о талисмане, подаренном волшебницей.
Ему захотелось познакомиться со всей поэзией этого удивительного человека. Со странным волнением он приступил однажды к чтению "Бахчисарайского фонтана".
Поэма привлекла его восточной тематикой. Эпиграфом к поэме Пушкин взял слова хорошо известного Ахундову Саади: "Многие, так же, как и я, посещали сей фонтан: но иных уже нет, другие странствуют далече". Так, значит, Пушкин знал тех поэтов, которыми он сам увлекался когда-то. Пушкин был знаком с произведениями Саади, знал все, что написали лучшие поэты мира.
Ахундов читал запоем. Он был похож на человека, которого в пустыне долго мучила жажда и который, наконец, добрался до прохладного источника. Он читал "Бедную Лизу" Карамзина, стихи Ломоносова, Державина.
Но жажда Ахундова была неутолима. Он изучал географию, историю, знакомился с прошлым России, в долгие зимние ночи засиживался над "Историей Государства Российского". Ахундов жадно перелистывал страницы старых номеров "Тифлисских ведомостей", издававшихся литератором Сенковским. Он любил посещать спектакли, устраивавшиеся приезжими артистами. Постоянного театра в Тифлисе еще не было.
Все было ново, интересно, увлекательно.
Так все больше и больше обогащал Ахундов свою память знаниями, приобщался к культуре русского народа. И мир становился для него другим, он окончательно уверовал в то, что цель жизни найдена: знакомство с достижениями русских поможет ему пробудить и среди своего народа любовь к культуре, поможет направить его по пути прогресса.
Три года понадобилось Ахундову, чтобы овладеть русским языком, вооружиться знаниями, стать образованным человеком. Теперь он мог шагать рядом с самыми просвещенными людьми Азербайджана.
8
Устав от нудной и, казалось, бесконечной канцелярской работы, Ахундов медленно возвращался домой, в свою полутемную и неуютную комнатушку. Он чувствовал себя измотанным, больным. На службе ему надо было услужливо кланяться, терпеть грубые оскорбления, улыбаться, повседневно совершая над собою насилие, угождать необразованному и бездушному начальству. Никто, даже Бакиханов, не знал, что происходит у него на душе. Иногда он брал свой калам, и звучные фарсидские стихи ложились на бумагу. Но все это не удовлетворяло. Он хотел большего.
Однажды вечером, когда Ахундов, полулежа на тахте, читал тифлисскую газету, в дверь постучали. Недовольно подняв глаза от газеты, он крикнул: "Войдите!" В комнату легкими шагами вошел Бакиханов. Фатали радостно был удивлен, ибо знаменитый ученый обычно приглашал его к себе, и теперь, посещая бедного чиновника, он оказывал высокую честь своему молодому другу. Ахундов сразу понял, что приход Бакиханова вызван какими-то важными причинами.
– Прошу вас, хан, заходите! Я очень рад вам.
– Нет. Я ненадолго. Идемте к Потоцкому. Я познакомлю вас с писателем Бестужевым.
Ахундов оделся, и они вышли. На квартире Потоцкого их ждал Бестужев.
Ахундов не знал его в лицо, но как только увидел незнакомого человека, стоящего у окна, то догадался, что это именно он, русский писатель. Бестужев был высокого роста, с открытым красивым лицом, на котором не отразились вынесенные им страдания. В больших темных глазах светился ясный ум, и это поразило Ахундова.
– Имею честь, мой друг, – сказал Бакиханов, – представить вам писателя Александра Бестужева…
– Как это можно, хан! – с оживлением заговорил Бестужев. – Не верьте ему, господин Ахундов! Наш друг поэт, а поэты… – он улыбнулся, – всегда любят преувеличивать. Я простой русский человек и, если хотите, ссыльный офицер, разжалованный в солдаты.
Только на мгновение просветлело его лицо, а затем снова стало грустным.
Гостей любезно пригласили сесть на тахту.
– Мне было известно, что вы находитесь в Тифлисе, – тихо проговорил Ахундов. – Я знаком с вашими прекрасными произведениями. Друг моего друга всегда будет близок моему сердцу.
Прошло немного времени, и они стали неразлучными друзьями.
Осужденный указом Верховного уголовного суда по делу декабристов, Бестужев был лишен чинов и дворянского звания и сослан на двадцать лет на каторжные работы в далекий Якутск, а затем отправлен на поселение. Ни трагическая судьба, ни мертвящая скука и суровость политической ссылки не смогли сломить волю этого полного сил и энергии замечательного человека. В апреле 1829 года по личному ходатайству "государственный преступник" Бестужев был переведен на Кавказ в качестве рядового для участия в боевых действиях против турок. Случайная пуля могла положить конец жизни писателя. Никаких надежд на возможность повышения не было. Никакая отвага, никакая жертва не могли вернуть ему утраченный покой. Но перед ним жестоко и настойчиво стоял вопрос: не лучше ли что-то делать на Кавказе, чем медленно погибать в могильном склепе постылой якутской ссылки.
Романтическая натура Бестужева страстно рвалась к стенам Арзрума. Под тенью Эльбруса и Бештау должна была обновиться его жизнь. Кавказ очаровал его своей бессмертной красотой. Он любовался "ненаглядной цепью опаловых гор и голыми утесами ущелья". Кавказ казался ему "краем поэзии и любви".
Приезд в Тифлис был омрачен гибелью Грибоедова в Тегеране. Бестужев был один в своем неутешном горе, а Петербург находился так далеко и был недостижим…
Здесь, на Кавказе, он подружился с Бакихановым, принялся за серьезное изучение азербайджанского языка. В Тифлисе, впервые после восстания на Сенатской площади, Бестужев почувствовал себя среди близких, здесь он встречался со многими своими старыми друзьями и знакомыми-декабристами, но вскоре был лишен и этой радости; ему было предложено ехать в "Кавказскую Сибирь", как называли в те времена далекий Дербент, и провести там остаток своей жизни в тиши и скуке. Он чувствовал себя разбитым, морально подавленным. Тоска по родине приносила ему многочисленные страдания. Бестужев писал: "Не знаю, в каком раю забыл бы я свое туманное отечество, даже где страдал и погиб: мне кажется, там от живого меня схоронено сердце, туда летают думы и сны мои".
И все же Дербент оказался гостеприимным городом для несчастного скитальца. Бестужев хорошо изучил здесь азербайджанский язык, полюбил людей, музыку, народное творчество незнакомого ему народа. Здесь родились его романтические повести "Испытание", "Страшное гадание", "Лейтенант Белозор". Дербент вдохновил его на большие творческие замыслы, сохранил для русской литературы писателя Марлинского.
Бестужев не был чужим человеком для азербайджанского народа. Он говорил на языке местного населения, дружил и со стариками и с молодежью, радовался вместе с ними их радостям, делился своими печалями. И местные азербайджанцы искренне полюбили его. Бестужев стал для них другом, сыном, братом. Они прозвали его Искендер-беком. Когда он весною 1834 года после длительного пребывания в Дербенте покидал город, чтобы вновь отправиться в Тифлис, все городское население провожало его верхом и пешком верст за двадцать до самой реки Самур, стреляя по пути из ружей, пуская ракеты, зажигая факелы. Играли музыканты, все вокруг пели, плясали, желая доброго пути. Согласно обычаю плеснули вслед ему студеной родниковой воды.
Путь в Тифлис лежал через азербайджанские села и города. На переправе через бурную горную реку Тенгу ему повстречался знаменитый азербайджанский качах [37]37
[37] Качах – беглец, разбойник.
[Закрыть]Мулла-Нур, романтический образ которого он впоследствии создал в одноименной повести.
Бестужева предупредили, что встреча с Мулла-Нуром может быть опасной. Но он знал, как любим народом, и не боялся качаха. Оказалось, что оба искали этой встречи.
Мулла-Нур гордо и смело сидел на сильном коне. Эриванская папаха, закинутая небрежно назад, открывала его приятное и мужественное лицо, опушенное короткой черной бородою. Качах был среднего роста, широкоплеч и строен. Из-под чухи с откидными рукавами сверкала кольчуга с бляхами, насеченными золотом. Кроме ружья, за спиной на крюке прикреплен был коротенький мушкетон. Из петли пояса над кинжалом выглядывал пистолет, два подобных висели в сквозных кобурах седла.
– Я не знал тебя в лицо, не помню твоего имени, – сказал русскому скитальцу отважный качах. – Но я знаю твою душу и помню все, что про тебя мне рассказывали. Вчера я был в Кубе, и мне поведали, что ты скоро должен отправиться в Шемаху. Стало быть, я ждал тебя. Ты гость дорогой мой, хотя и невольный гость.
Качах предложил поэту разделить с ним скромную трапезу, в знак дружбы обменялся с ним ружьем. В дружеской беседе он рассказал ему правду о своей жизни, полной тревог, опасностей, страданий, и Бестужев с лихвой отблагодарил качаха, увековечив его имя в своей знаменитой повести.
Мулла-Нур ускакал, простившись со своим конагом [38]38
[38] Конаг – гость.
[Закрыть]. Но эта встреча навсегда запечатлелась в памяти писателя. Благородное сердце и ум Бестужева, его чистая незапятнанная совесть родили романтическую быль о смелом и гонимом судьбой азербайджанце. Но эта быль была не только о Мулла-Нуре, но и о самом Бестужеве, изгнанном из родного края, погибшем вдали от родины, которую он так безмерно и горячо любил.
Судьба лихорадочно бросала писателя по полям кавказской сечи. Своими боевыми подвигами он заслужил офицерский чин. Но царь, никогда не забывавший тех, кто поднимал против него меч, был беспощаден и неумолим. Приговор был оставлен в силе.
В начале 1837 года Бестужев вновь появился в Тифлисе. Он решил продолжать здесь свои занятия азербайджанским языком и искал себе преподавателя.
Ахундов оказался самым подходящим человеком. Начиная с 8 декабря 1836 года, он, продолжая работать в канцелярии главноуправляющего, одновременно состоял учителем азербайджанского языка при Тифлисском уездном училище, где в качестве исполняющего обязанности штатного смотрителя служил и Хачатур Абовян – великий армянский просветитель и писатель.
В этот период Ахундов уже часто обращался к поэзии и сочинял стихи в стиле классических поэтов Востока. Писал он обычно по ночам. Его комната тускло освещалась светом сальных свечей домашнего изготовления. Работал он, сидя на ковре по-восточному, писал тростниковым каламом, держа бумагу для удобства на особой подставке: приходилось много писать, и рука быстро утомлялась. Бумаги он складывал в небольшой сундук, который заменял ему письменный стол.
Простота, общительность Ахундова привлекали к нему людей. Он любил посмеяться, пошутить, был очень приятным собеседником. Все это нравилось Бестужеву, и он часто приходил к нему, чтобы не только заниматься азербайджанским языком, но и дружески провести время. Бывал и Мирза Фатали у Бестужева.
Эти встречи много давали Ахундову. Они были настоящей школой жизни. Из бесед с Александром Александровичем Бестужевым он узнавал многое такое, чего никогда бы не узнал из книг. Постепенно он начал понимать, что и в России народ живет в неволе, что и там существуют беззаконие и несправедливость. Он осознал, что жизнь значительно сложнее, чем представлялось ему до сих пор.
В Тифлисе несколько лет тому назад был раскрыт заговор против русского самодержавия представителей высшей знати и некоторых членов бывшего грузинского царского дома. То, что грузинские дворяне намеревались восстать против русского царя, Ахундову было понятно: они стремились восстановить грузинское царство во главе с Багратидами. Но почему русские поднимаются против своего царя, этого он долго не мог понять. Только благодаря беседам с Бестужевым Ахундов стал видеть настоящую правду жизни. Значит, царь и русский народ не одно и то же. Любить Россию – значит любить русский народ, а не царя. Передовую русскую литературу создали не цари, а Ломоносов, Радищев, Карамзин, Крылов, Пушкин.
Царь послал Грибоедова в Тегеран и дал растерзать его фанатичной толпе! Это он получил за голову того, кто создал "Горе от ума", несколько бриллиантов короны иранского шаха, отправил в ссылку русских офицеров! Где же правда? Как же относиться к царю? Ахундов не мог ответить на этот вопрос. Он сам служил царю… Вот эполеты, которые он уже стал носить, они тоже царские… Что же делать? Ему казалось, что если он найдет место на казенной службе, все разрешится: он будет счастлив и поможет своему народу… Оказывается, что все не так-то просто… Надо много еще читать, надо ближе познакомиться с лучшими людьми России. Быть может, они подскажут ответ на тревожный вопрос: что делать?
Кончались грезы, начиналась сознательная жизнь, полная тревог и жестоких испытаний.
Однажды в вечернюю пору, увлекшись беседой, Бестужев и Ахундов долго бродили по улицам Тифлиса. Изредка попадались прохожие. Когда они вышли к широкой и просторной городской площади, показался силуэт горы Давида.
– Там, – сказал Бестужев, показывая в сторону горы, – похоронен Грибоедов. Его звали Александром. И меня тоже зовут Александром.
– Александр Александрович! Почему вы так часто вспоминаете о смерти? Разве вы боитесь ее?
– Нет, дорогой, не смерти боюсь я…
Они стояли рядом. Из-за облаков выглянула молодая светлая луна, своим серебристым сиянием осветила вершину Давида.
– Я не боюсь смерти! – продолжал Бестужев. – Но я знаю, что моя смерть придет здесь, в ваших горах. Одного Александра убила фанатичная толпа, меня убьет свинцовая пуля.
– Вы писатель. Вас любят, вас должны беречь.
– Вы еще молоды, Мирза Фатали, и не знаете, что нас нарочно посылают под пули…
– Кто может желать вашей смерти?
– Царь. Русский царь! Ни одного из нас он не помилует. Все ссыльные обречены на гибель.
Мимо прошла шумная компания тифлисцев.
– В Тифлисе весело… Хороша грузинская ночь. Но мне здесь душно, я ищу и никак не могу найти свою смерть.
– Вам нужно повеселиться.
– По мере сил и возможностей своих я это иногда делаю. – Потом, подумав, добавил: – Кстати, завтра у меня соберутся друзья. Приходите. Будем пить старое кахетинское. Будет и музыка. Хорошо бы послушать восточные песни.
– У меня есть старый знакомый ашуг Саттар. Хороший певец. Хотите, я приду с ним вместе?
– Конечно. Обязательно приходите с ним.
Они попрощались. Бестужев крикнул вслед удаляющемуся Ахундову:
– Не забудьте про ашуга Саттара!
На следующий день, как только кончились служебные занятия, у Бестужева собрались гости. Вместе с Ахундовым пришел и ашуг.
Веселье было в разгаре. О горькой, обездоленной страдальческой жизни пел Саттар, глухо раздавались звуки бубна, жалобно стонала кеманча.
В окружении своих друзей, рядом с Ахундовым, любовно положив руки на плечи соседей, сидел Бестужев. В глазах его была печаль, на устах – невысказанная жалоба. Пламя камина бросало яркий свет на лица. А песня все лилась.
Рядом с Саттаром – слепой кеманчист-армянин. Забывшись, в полудремоте бьет в свой бубен юный азербайджанец.
Когда Саттар кончил песнь, на мгновение воцарилась глубокая тишина. Все молчали, как будто находились в священном храме.
Наконец раздался гром рукоплесканий. Низко поклонились гостям Саттар и музыканты. Денщик поспешно обходил всех, разливая вино в бокалы. Бестужев в приподнятом настроении громко сказал денщику:
– Вина музыкантам!
– Спасибо, ага, – проговорил Саттар. – Мы мусульмане. Шариат запрещает нам пить вино.
Бестужев подошел с бокалом к музыкантам, показал на смеющегося Ахундова. Тот стоял и, о чем-то рассказывая, чокался с приятелем.
– Мирза Фатали тоже мусульманин. Почему же шариат ему разрешает, а тебе нет?
– Он молод, ему все разрешено. Он мой друг и пьет за нас двоих. Не так ли, Мирза?
Ахундов услышал слова Саттара. Обернувшись, сказал:
– Это верно, Саттар. Я пью за нас двоих. Но почему наш кеманчист не пьет? Он же христианин…
Кеманчист поблагодарил за поднесенное вино:
– Саттар-джан! Гостям нужно сыграть что-нибудь народное, – предложил он.
Музыканты настроили инструменты, весело зазвенел бубен. Молодой грузин стал плясать. За ним в пляс пустился и старый ашуг Саттар. Гости улыбались, предлагали тосты. Окончив танец, грузин подошел к столу, взял в руки бокал и торжественно начал читать "Вакхическую песнь".
Подымем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!
Вдруг с шумом распахнулась дверь. Злой ветер ворвался в комнату. Потухла свеча над камином. Отряхивая бурку, вошел Бакиханов. Денщик плотно закрыл за ним дверь.
Бакиханов был чем-то взволнован. Он искал глазами Бестужева.
– Господа, прекратите веселье.
– Что, что случилось?
– Печальная весть из Петербурга. На дуэли убит Пушкин.
Он грузно опустился на стул. На глазах были слезы. Раздался звон разбитого бокала. Его уронил Ахундов. В тревоге, недоумевая, смотрели музыканты.
Гости молча расходились. В комнате стало тихо. О скромном пиршестве напоминал только разбитый бокал на полу.
Ашуг Саттар, которого Ахундов провожал домой, спросил:
– Кто такой Пушкин, Мирза?
– Это тоже ашуг, Саттар-джан. Это великий русский ашуг. И его убили!
Саттар гордо поднял голову, положил руку на плечо своего молодого друга.
– Ашуги никогда не умирают, Мирза. Ашуг – сын народа. Русский народ – великий народ. Никогда не умрет его ашуг.
Бакиханов хорошо знал Пушкина, его родных, и трагическая смерть поэта потрясла его. В лице Грибоедова и Пушкина он потерял близких своих друзей.