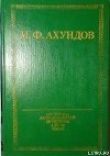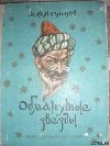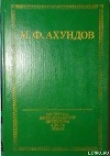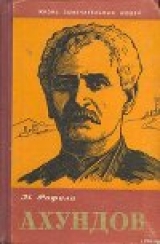
Текст книги "Ахундов"
Автор книги: Микаил Рафили
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
4
Мирза Шафи живет и в прошлом и в настоящем. Имя его бессмертно. В свое время песни Мирзы Шафи проникли во все европейские страны. Однако его читали только по переводам немецкого поэта и путешественника Фридриха Боденштедта. Европа по-настоящему никогда не знала его, полагала, что он плод фантазии переводчика. Между тем Мирза Шафи не может бесследно исчезнуть из памяти людей. Он занимает видное место в истории культуры своего народа. Его литературное наследие вызвало огромный интерес в мировой науке. Ему посвящены труды многих азербайджанских, русских, немецких, французских, английских литературоведов.
Мирза Шафи Вазех (Вазех – поэтический псевдоним) был родом из Гянджи. Он был младшим сыном гянджинского зодчего Кербалай Садыха и учился в гянджинском духовном училище – медресе, изучая здесь схоластические науки, богословие, арабский, фарсидский языки и готовясь стать моллой. Но судьба его сложилась иначе. Духовное звание не прельщало Мирзу Шафи. Он стал одним из первых просветителей азербайджанского народа.
Как это случилось? Когда Мирза Шафи учился в медресе, отец его внезапно скончался. Потеряв отца, не имея средств к существованию, он вынужден был бросить учебу. Жизнь его складывалась весьма незавидно. Но встреча с неким Гаджи Абдуллой спасла его от голодной смерти и направила жизнь по новому руслу.
Гаджи Абдулла был образованным человеком. Духовенство преследовало его за смелые «еретические» идеи, за критическое отношение к религии.
Мирза Шафи внимательно прислушивался к его выступлениям против религиозных предрассудков и суеверий. В споре с моллами и ахундами симпатии Мирзы Шафи всецело были на стороне Гаджи Абдуллы. Вскоре они стали близкими друзьями. Гаджи Абдулла покровительствовал ему, оказывал материальную помощь, поддерживал его стремление к просвещению и науке.
Благодаря содействию своего друга Мирзе Шафи удалось поступить на службу к дочери гянджинского хана Пусте-ханум управителем дома и двумя маленькими деревнями. Но вскоре началась русско-иранская война, и ханум эмигрировала в Иран. Лишившись работы, Мирза Шафи вновь очутился в безвыходном положении.
В то время в Азербайджане книги распространялись в рукописном виде. Обладая прекрасным почерком, Мирза Шафи занимался переписыванием рукописных книг. Ежедневно его можно было видеть в одной из келий гянджинской Шах-Аббасской мечети тщательно выписывающим заостренным каламом [23]23
[23] Калам – тростниковое перо, широко распространенное среди народов, пользовавшихся арабским алфавитом
[Закрыть]изящные буквы арабского алфавита. Помогал ему и Гаджи Абдулла. Но жить на эти скромные заработки было очень трудно, и Мирза Шафи часто брал в долг у своих знакомых. Вскоре Гаджи Абдулла умер. Несколько сот монет, которые он завещал Мирзе Шафи, тот отдал в счет своего долга. Положение его продолжало ухудшаться. Заказы на переписывание рукописей поступали редко, нищета стучала в двери. Мирза Шафи занялся частным преподаванием арабского и фарсидского языков. Но, думая о завтрашнем дне, он всегда испытывал привычную тревогу. Жизнь среди отсталых, религиозных до фанатизма людей была чревата многими трудностями и опасностями.
К тому времени стихи Мирзы Шафи были широко известны в родной Гяндже. Много талантливых поэтических строк посвятил он красивой дочери Ибрагим-хана Гянджинского, в которую имел несчастье влюбиться! Красота, любовь, вино, наслаждения заняли большое место в ранней поэзии Мирзы Шафи. Это не нравилось моллам, которые обрушились на поэта с ругательствами. Еще большее ожесточение и бешенство вызывали сатирические стихи Мирзы Шафи, которые он направлял против своих идейных врагов. Его любовь к Зулейхе встретила резкий отпор со стороны богатых родителей девушки. Поэт решился на безумный шаг. Он похитил свою возлюбленную, бежал вместе с ней, но наступившая буря заставила их укрыться в деревне, и вскоре они были обнаружены преследователями и возвращены в Гянджу.
Насмешки, неудачи, гонения не сломили волю беспокойного Мирзы Шафи. Впереди его ждала более ожесточенная, непримиримая борьба с фанатиками, объявившими его вероотступником – кяфиром. Терпя материальные лишения, Мирза Шафи продолжал жить в Гяндже. Судьба свела его с юным Фатали.
На Востоке всегда придавали огромное значение красивому почерку. Каждый грамотный человек, тем более юноша, готовящийся к духовному званию, должен был пройти курс каллиграфии. И вот Фатали стал посещать келью Мирзы Шафи и брать у него уроки чистописания.
Молча приглядывался Мирза Шафи к новому ученику, старательно выводящему на бумаге тонкие арабские буквы. Писал он с упоением, видимо наслаждаясь своим успехом, проникновением в тайну восточного письма.
Иногда он обращал внимательные взоры на учителя, ожидая его одобрения. Поднимал голову и Мирза Шафи, терпеливо давал ему указания, чертил в тетради букву, заставлял его по многу раз упражняться, овладевать искусством, которым так славился в городе он сам. Но Фатали никогда не ограничивался уроками каллиграфии, он всегда о чем-нибудь спрашивал своего учителя, интересовался поэзией, забрасывал его неожиданными вопросами. Любознательность юноши, его природный талант и трезвый ум сразу привлекли внимание поэта. Он стал уделять ему гораздо больше внимания, чем остальным ученикам. Вскоре Мирза Шафи окончательно поверил в яркую будущность своего ученика, в его незаурядные способности. Фатали обладал блестящей памятью и каждый раз, когда учитель читал ему стихи, повторял вслед за ним поэтические строки, быстро улавливая смысл. Подчас они забывали даже о каллиграфии, беседы превращались в поэтический поединок, стихи великих поэтов Востока приводили их в восхищение, и, часто засиживаясь до вечерней молитвы, они упивались красотой содержания, ритмикой, метафорами, музыкальностью певучего и сладостного бейта или рубай. Но Фатали никогда не осмеливался входить в полемику со своим учителем, а внимательно прислушивался к его словам. И учитель горячо полюбил его, заботливо воспитывал в нем чувство красоты, вкуса, меры, дарил ему щедро свои знания, знакомил с историей Востока, приобщал к культуре слова, к поэтическому мастерству. Фатали казался ему чудо-ребенком, обладающим многими редкими дарами. «Он был зрелым и возмужалым с детства, какими другие бывают только в зрелом возрасте, – писал Мирза Шафи в одном из своих позднейших стихотворений. – Никогда он не допускал глупой выходки, всегда был мудр и серьезен. И так как его дух рано получил свободу, то от него ожидали великое».
В детстве Ахундов был свидетелем многих трагических событий, которые необычайно рано ввели его в гущу азербайджанской жизни, неразрывно связали с народом, вызвали в нем пытливость и настороженность. Еще в юные годы он поражал окружающих ясностью ума, наблюдательностью, критическим отношением к среде, в которой жил, поразительной любознательностью, упорством, настойчивостью. Эти качества юноши быстро привлекли к себе внимание Мирзы Шафи. Его роль в развитии юного Фатали неоценима. Школа Мирзы Шафи была для Ахундова школой жизни, приобщавшей его к литературному творчеству. Вскоре сказались ее результаты. Здесь дадим слово самому Фатали, следующим образом описывающему свои встречи с гянджинским мудрецом:
«В одной из келий гянджинской мечети жил некий Мирза Шафи, происходивший из того же края. Этот человек, помимо хорошей осведомленности в области различных наук, обладал прекрасным почерком „насталик“. Это был тот самый Мирза Шафи, о жизни и талантливости фарсидских стихов которого много писалось в Германии. По распоряжению своего приемного отца я каждый день отправлялся к этому человеку и учился писать почерком „насталик“. Таким образом, постепенно между мною и этим уважаемым человеком создались дружеские отношения. Однажды этот уважаемый человек спросил меня: „Мирза Фатали, какую ты цель преследуешь изучением наук?“
Я ему ответил, что хочу стать моллой.
Тогда он сказал мне: „Неужели и ты хочешь стать лицемером и шарлатаном?“
Я был крайне изумлен и спросил его, что он хочет этим сказать.
Увидев мою растерянность, Мирза Шафи ответил: „Мирза Фатали, не трать попусту свою жизнь среди этой черни. Найди себе другое занятие“.
Когда я спросил о причине его ненависти к духовенству, он начал рассказывать мне о вещах, которые до того времени были для меня покрыты мраком. До возвращения моего приемного отца из паломничества Мирза Шафи внушал мне просвещенные идеи и снял с моих глаз покрывало неведения. После этого я возненавидел духовенство и изменил свои мысли».
Встреча с Мирзой Шафи – переломный момент в жизни Мирзы Фатали Ахундова. В результате бесед с ним Ахундов убедился в бесцельности своего стремления стать моллой и по его совету принял твердое решение изучить русский язык. Путь к свету и правде, путь к русской культуре был указан Ахундову в бедной и холодной келье преследуемого духовенством и реакционерами поэта Мирзы Шафи.
Еще с детского возраста приглядывался Ахундов к жизни народа. Конечно, он многого не понимал, все казалось ему загадочным, странным, но тяжелые впечатления детских и юношеских лет оставили глубокий след в сознании будущего просветителя.
Он помнил печальные годы, проведенные в Хамне. Помнил слезы и горе матерей, видел тяжелый труд и черную нужду крестьян, плеть и розги молл, в могущество которых безгранично верил народ, лишенный свободы, культуры. И ему казалось, что мир испокон веков такой и ничего в нем не изменится: так было, так будет.
Вокруг него твердили о том, что все живут только благодаря милости аллаха, что судьба и благополучие зависят от всемогущества господина неба и земли. Аллах невидим и непознаваем, но божественный дух десятков тысяч веков уже правит миром. Мир создан аллахом, и настанет час, когда все мертвые предстанут перед его всевидящим оком и он спросит каждого о совершенных им делах на земле. И каждый получит свое: грешник отправится в ад, где властвует сатана, а благочестивые люди, которых молитвы сохранили от позорных и постыдных деяний и которые верно служили всемилостивому и всемилосердному аллаху, пойдут в рай и будут наслаждаться с райскими гуриями.
Коран, который читал Ахундов, твердил о том, что аллах любит терпеливых людей, что только в терпении и молитвах человек может найти успокоение от мирских невзгод. Три раза в день на высокий минарет, возвышающийся над мечетью, поднимался муэдзин, и над широколиственными чинарами проносилась молитва мусульман: «Аллаху акбар! Аллаху акбар!» [24]24
[24] Велик-аллах! Велик аллах!
[Закрыть]Сколько раз слышал он это земное прославление божества, это единственное, как казалось, человеческое утешение: «Нет бога, кроме аллаха, и Мухаммед пророк его». А тысячи слушателей повторяли за ним громко и с непоколебимой верой: «Свидетельствуем! Что аллах делает, то случится, чего он не желает, то не случится!»
Все верили этим словам корана, верил им и юный Фатали. Он с уважением относился к моллам, хранителям божественной правды. Он сам хотел стать моллой, ибо считал, что молла делает самое благородное, самое полезное для человечества дело. «Коран является предостережением для вселенной, для тех из вас, которые ищут пути правого», – читал он в суре 81-й. А он искал правду, и правда, как думалось ему, была только в коране. «Коран как бы свет для людей, он направление – доказательство божественного милосердия к ним».
И он верил в могущество молитв, в необходимость терпеливо переносить все невзгоды жизни, верил в бесов и в шайтанов, в потусторонний мир, и сам не раз в благоговении молился аллаху, со страстной верой поднимал свои маленькие руки к небу, прикладывал свои холодные губы к пятачкам из священной земли, под глухим сводом мечети шептал арабские стихи корана. Но жизнь, которую ему приходилось наблюдать, заставляла его порой сомневаться в правоте корана.
В темные, полные тайн и призраков ночи он, уходил к берегу Гянджи-чая, прислушивался к мерному шуму воды, задумывался над загадками жизни, хотел заглушить в себе ропот и мучительные сомнения, убить червя еретических мыслей, твердо стать на путь правды и истины, которые он видел только в божестве и в его священном писании – коране. И на сердце становилось так же спокойно, как на поверхности горного озера Гёй-Гёль [25]25
[25] Гёй-Гёль – горное озеро у подножия горы Кепез в Азербайджане.
[Закрыть].
Но вдруг человек, которого он уважал и любил, в благочестие которого верил, открылся перед ним в другом свете, и с уст его полились смелые и страшные речи. Фатали не устрашился этих речей – сомнения давно уже вкрались в его душу, – но он был удивлен, потрясен этой неожиданностью. Значит, не только он, но и его учитель усомнился в правде божественности, в праведности молл – служителей аллаха.
Это не могло не потрясти Фатали. Он жадно прислушивался к еретическим речам своего учителя, боясь пропустить хоть слово, сердце его начинало тревожно биться: теперь вместе с правдой приходил и страх, ибо все, чему он верил до сих пор, было поколеблено, рушилось, превращалось в мираж. Ему казалось, что он всю жизнь шел впотьмах, но вдруг перед ним явился учитель и осветил дорогу лучиной. И Фатали стало страшно потому, что при свете он увидел, что стоит перед зияющей пропастью. Еще один шаг – и он погиб бы: как метеор пронеслась бы по миру его жизнь и погасла бы в пучине. А он думал о народе, о будущем.
Мирза Фатали чувствовал, как пробуждается от тяжелого сна, как медленно открываются его глаза и он начинает видеть свет, который был закрыт от него непроницаемым черным и тяжелым занавесом религии.
Первый раз в жизни Ахундов принял самостоятельное решение: моллой он не станет. Учитель его прав. Он будет учиться русскому языку. Он пойдет твердым шагом вперед, он найдет смысл и цель жизни.
Так началось великое пробуждение.
5
Ахунд Алескер вернулся из Мекки. Теперь его величали почетным именем Гаджи – совершивший паломничество в Мекку. Фатали попрощался с любимым учителем и вместе с приемным отцом вновь поселился в родной Нухе.
Гаджи Алескер ничего не знал о совершившемся переломе в сознании своего молодого воспитанника. Он все еще надеялся, что Фатали станет моллой и сделает блестящую духовную карьеру. Он стал вновь заниматься с ним, заставлял читать старинные книги, насыщенные ортодоксальным религиозным содержанием. Но каково было изумление Гаджи Алескера, когда он встретил со стороны Фатали сопротивление. Юноша религией не интересовался, ему хотелось изучать русский язык. Мысль о необходимости изучения русского языка и приобщения к новым условиям уже начинала проникать в сознание передовых людей азербайджанского общества. Несмотря на свои глубокие религиозные убеждения, Гаджи Алескер также склонялся к необходимости осваивать все новое, что несла с собой наступившая эпоха. Скрепя сердце он согласился с решением приемного сына отказаться от духовного звания. В 1833 году в Нухе открылось казенное училище, куда Мирза Фатали вскоре был зачислен учеником первого класса.
В классе вместе с ним обучались дети восьми-девяти лет, но это не смущало любознательного юношу. Внимательно всматривался он в русские буквы, стараясь запомнить их. Это ему удавалось без труда: каждый звук имел определенное обозначение, каждая буква имела один рисунок. К концу года он уже умел немного читать и писать. Разговаривать по-русски он еще не научился, но знал много простых слов и предложений.
Наступил сентябрь 1834 года. Продолжать учебу в Нухе оказалось невозможным: Фатали было больше двадцати лет, и учиться дальше с мальчиками ему не разрешили. Оставалась одна надежда – поездка в Тифлис.
К тому времени юноша обладал довольно солидными филологическими знаниями. Кроме родного, азербайджанского языка, он прекрасно владел турецким, фарсидским и арабским, свободно читал, писал и говорил на этих широко распространенных языках восточного мира. К началу тридцатых годов относятся и его первые поэтические опыты. Следуя – сложившимся традициям, Фатали писал свои стихи на фарсидском языке. Почти все стихи этого периода погибли, осталось лишь одно чрезвычайно важное для раскрытия настроений и дум начинающего поэта.
О чем же писал Фатали в безропотной тишине азербайджанской патриархальной действительности? На сердце было тревожно. Глубокая печаль и неясное предчувствие приближающихся больших событий охватили юношу. Мир казался ему мрачным, полным горя, слез, лжи и коварства. Кому он верил – изменили, кого любил – не ответили взаимностью. Все оказалось безнадежно потерянным. Он искал утешения и ласки – его встретили неверностью и равнодушием. Казалось бы, рухнули последние надежды. Разочарованный во всем, он глядел на мир печально, тоска и одиночество внушали ему страх и ужас перед будущим. Опаленные, словно летним зноем, тягучие мысли душили его, глубоко в память врезались страшные и правдивые слова Мирзы Шафи.
Но Фатали сдаваться не хотел. Он не мог так легко расстаться с жизнью. Лезвием сверкающего кинжала он должен пронзить мрачную ночь, своими собственными руками должен проложить себе путь к солнцу, скрытому за этим мраком. Однако сердце и душу не покидали сомнения: его мозг был сдавлен огромными лапищами суеверий, религиозных предрассудков, от которых нельзя было освободиться полностью и сразу. Внутренний голос призывал его стряхнуть грустные размышления, забыть страх, смело ринуться вперед, пройти лежащее перед ним темное пространство. В Тифлис! Скорее в Тифлис! Там, только там он найдет себе верных друзей. Там – почет, уважение, успех, жизнь. Там он встретит ученого со светлым разумом, несравненного, мудрого человека. Это друг обездоленных и беспомощных, он могуч и добр, ему знакомы все тайны природы, и каждое слово его сверкает как драгоценный камень. В познаниях своих он не уступит прославленному Руми [26]26
[26] Руми Джелаледдин (1207–1272) персидско-таджикский поэт-пантеист, крупнейший философ XIII века.
[Закрыть], а в философии он выше Ибн Сины [27]27
[27] Ибн Сина (Авиценна) – выдающийся персидско-таджикский естествоиспытатель, врач, философ и поэт XI века.
[Закрыть]. Весь Тифлис восхищен его красотой и умом, а стихами его мог бы восторгаться сам великий Хагани [28]28
[28] Хагани Ширвани – крупнейший азербайджанский поэт 'XII века, современник Низами.
[Закрыть]. Он, Фатали, должен найти того, кто властен над миром знаний и наук, кто разумом своим высок и прекрасен, чья верность и дружба беспримерны на земле!
Стихотворение, содержание которого мы передали, носит панегирический характер, в нем много преувеличений и восхвалений. Главное – не в этом. Панегирические выражения поэта нас не удивляют, ибо они подчас встречались в восточной поэзии, на традициях которой воспитывался с детских лет будущий писатель. Смысл стихотворения – в укрепляющейся надежде поэта, что в Тифлисе он найдет разрешение мучивших его вопросов и загадок. Всем существом стремился Ахундов в Тифлис, где жил мудрый учитель. Он верил, что благодаря его помощи и поддержке освободится от долгого блуждания среди привычных мыслей и чувств, приведших его к разочарованию и унынию.
Кто же тот, о котором так страстно говорил Ахундов, которого он так упорно хотел видеть? Трудно сказать. Возможно, это был Бакиханов – выдающийся азербайджанский писатель и ученый. Во всяком случае, о «сыграл немалую роль в формировании мировоззрения Ахундова после его приезда в Тифлис.
Преодолевая религиозные предрассудки и ограниченность своего времени, отталкиваясь от схоластической науки феодального мира, Бакиханов учился у лучших представителей русской культуры, использовал в родной стране научные достижения ученых России. Именно благодаря знанию русского языка, освоению русской культуры, благодаря своей прозорливости Бакихановым были заложены основы целого ряда отраслей азербайджанской современной науки. С именем Бакиханова связано зарождение новой астрономической, географической, философской, педагогической, филологической наук в Азербайджане. Личная дружба связывала его с русскими писателями: А.С. Грибоедовым и А.С. Пушкиным. Его жизнь, литературная и научная деятельность прошли в атмосфере идейного общения с ссыльными русскими декабристами, с грузинскими революционными деятелями.
Бакиханов жил и работал на рубеже двух культур – древней, феодальной, связанной с многовековым развитием стран Ближнего Востока, и новой, прогрессивной, демократической. Он был идейным предшественником великого азербайджанского просветителя Мирзы Фатали Ахундова.
Условия времени и интересы страны заставили Бакиханова стать универсальным ученым – географом, историком, астрономом, философом, быть первым переводчиком русских поэтов, сатириком, прозаиком, журналистом.
Оглядываясь на героическое прошлое азербайджанского народа, Бакиханов верно определил пути его дальнейшего развития, указав на передовую Россию, в дружбе и союзе с которой страна могла идти по пути прогресса.
Вместе с тем Бакиханов – фигура, глубоко противоречивая в истории развития общественной мысли Азербайджана XIX века. Воспитанный в молодости на традициях старой схоластической школы, Бакиханов благодаря самообразованию стал одним из передовых людей своего времени, ученым, общественным деятелем нового типа, но вместе с тем до конца жизни не сумел полностью вырвать из своего сознания корни феодальной идеологии. Любовь к родному народу, большое чувство национальной гордости сочетались у него с сословными предрассудками, с защитой интересов господствующего класса феодалов. Следя с глубокой симпатией за развитием народного движения, направленного против диких колониальных и помещичьих порядков, смело отказываясь от участия в подавлении народного восстания, он ревниво защищал права дворянского сословия. Свою жизнь Бакиханов кончил вдали от родины, в Аравийской пустыне, терзаемый внутренними противоречиями.
Но, несмотря на все эти противоречия, сомнения, колебания и ошибки, значение его в развитии новой культуры, науки и литературы Азербайджана трудно переоценить.
Родился Аббаскули Бакиханов 10 июня 1794 года в селении Амираджан, недалеко от Баку, в семье одного из последних владетелей Бакинского ханства.
Двадцатипятилетним молодым человеком Аббаскули Бакиханов впервые прибыл в Тифлис. 30 декабря 1829 года он был назначен на должность переводчика в канцелярии главноуправляющего Грузией. Это было началом его блестящей служебной и военной деятельности.
Пытливый, любознательный, энергичный Бакиханов изучает историю, литературу, географию, интересуется самыми разнообразными научными вопросами. Вместе с тем в эти годы он с особенным рвением стремился к военной карьере, мечтал о славе на поле брани. Умевший с детских лет владеть оружием, храбрый по природе Бакиханов не мог удовлетвориться переводческой работой. Он рвался к активной деятельности, искал место в рядах русской армии.
Уже в 1820 году в отряде под командованием генерала Мадатова он участвует в Хогренском сражении, в перестрелках с фанатично настроенными отрядами горских племен. За мужество, проявленное в битве с отрядом Казыкумского хана, закончившейся полным его поражением, Бакиханов был произведен в первый офицерский чин прапорщика. Вскоре он близко познакомился с русскими писателями, общение с которыми расширяло его кругозор, помогало приобщаться к русской литературе. В конце 1821 года чиновником особых поручений при Ермолове был назначен В.К. Кюхельбекер, лицейский товарищ Пушкина. Кюхельбекер жил в Тифлисе вплоть до мая 1822 года, где с ним и подружился Бакиханов. Ко времени приезда в этот город Кюхельбекера сюда прибыл из Тавриза А.С. Грибоедов, ставший секретарем по дипломатической части в канцелярии Ермолова. Много внимания он уделял улучшению транзитной торговли России с восточными странами, привлечению русских купцов к расширению этих связей, немало усилий прилагал для поднятия экономической жизни Закавказского края. Пребывание в Тифлисе не прошло и для него без пользы. Он внимательно наблюдал жизнь закавказских народов, интересовался их историей, архитектурой, бытом. Изучал турецкий язык, занимался арабским, а главное – продолжал работу над комедией „Горе от ума“. Жил он на Экзаршеской площади (ныне площадь Ираклия II), откуда открывался вид на Кавказские горы. Он вел спокойную жизнь, много путешествовал но Грузии, встречался с друзьями.
Среди сослуживцев его внимание привлек Баки-ханов, блиставший своей храбростью, талантом, знанием восточных языков.
После декабрьского восстания 1825 года Грибоедов, находящийся в близких отношениях со многими передовыми людьми России, был арестован и выслан с Кавказа. Трагическая судьба друзей-декабристов оставила неизгладимый след в сознании писателя-патриота.
3 сентября 1826 года он вновь вернулся в Тифлис. Ему была поручена вся дипломатическая переписка с Турцией и Ираном. Получив возможность проявлять личную инициативу, он весь отдался служебной деятельности, энергично защищал интересы русского государства, стал одним из выдающихся дипломатов. Одновременно он продолжал расширять свои знания о Закавказском крае. Интересы его были обширны. Грибоедов деятельно поощрял развитие виноградарства и шелководства в стране, содействовал открытию коммерческого банка, Публичной библиотеки в Тифлисе, новых уездных училищ, хлопотал об издании газеты на языках народов Закавказья. 4 июля 1828 года вышел первый номер „Тифлисских ведомостей“.
Именно в эти годы и укрепились тесные, дружеские связи Грибоедова с Аббаскули Бакихановым. Бакиханов был его ближайшим помощником в ведении переписки с Турцией и Ираном. Он знакомил его с историей Азербайджана, с древними сказаниями, рассказывал о Низами [29]29
[29] Низами Гянджеви – гениальный азербайджанский поэт (1141–1203).
[Закрыть]. Русский писатель увлекался памятниками Азербайджана, бродил по развалинам Барды [30]30
[30] Барды – древний город Азербайджана.
[Закрыть]. К этому времени Бакиханов был известен как большой знаток истории родного края, и обращение Грибоедова к его авторитету было вполне естественным. В своих „Путевых заметках“ Грибоедов упоминает о своем азербайджанском друге, называет его „нашим Аббас-Кули“.
В Тифлисе Бакиханов очень близко сошелся и с А.А. Бестужевым-Марлинским и А.С. Пушкиным, с которым познакомился в 1829 году в Арзруме.
Тифлис времен Бакиханова, несомненно, был одним из самых интересных культурных центров. Здесь проживало не мало русских образованных людей: журналистов, писателей, ученых. На Кавказ после восстания декабристов было сослано много русских революционеров.
В двадцатые-тридцатые годы XIX века из среды азербайджанских беков выделилась группа передовых людей (например, Куткашинский и Уцмиев Хасан-хан), которые начали сознавать мировое значение культуры русского народа и, нередко критически относясь к колониальной политике царизма, искренне и сознательно воспринимали все то новое, что несла в Закавказье передовая русская литература и наука.
Большое влияние на выдающийся труд Бакиханова „Гюлистан-Ирем“, посвященный историческим судьбам Азербайджана, оказала „История Государства Российского“ Карамзина. В этой книге, не потерявшей и поныне своего научного значения, Бакиханов нарисовал красочную и живую картину развития Азербайджана с древних времен до начала XIX века. Книга была создана на основе глубокого изучения рукописных и литературных источников.
„Гюлистан-Ирем“ – первая историческая работа об Азербайджане, отвечающая требованиям европейской науки. Бакиханов не только хронологически последовательно излагает основные политические события, происшедшие в Азербайджане, но и ставит в своем труде ряд важнейших вопросов о происхождении народа, о названии племен, некогда населявших его родину, о географических границах древнего Ширвана и т. д.
Бакиханов верил, что народ при благоприятных условиях мог бы создать величайшие произведения искусства и науки. „Если бы политическое спокойствие и надлежащее воспитание позволили развиваться природным способностям жителей Кавказа, то они достигли бы высокой степени просвещения. Несмотря на беспрерывные войны и опустошения, причиняемые этому краю беспрестанными столкновениями северных племен с южными, здесь явились люди, которые своей ученостью и способностями далеко распространили свою славу“.
Вся книга – подтверждение этих гордых слов. Бакиханов понимал, что „дух времени и образование каждого народа отражаются всегда в литературе и других памятниках“. Это побудило его создать произведение, рассказывающее о выдающихся ученых и поэтах своей родины, живущих в разные века.
Не менее ценен и его филологический труд „Канун-Кудси“ (Кудси – поэтический псевдоним Бакиханова), являющийся грамматикой фарсидского языка. Кроме этого, Бакихановым были написаны и другие научные работы: „Открытие чудес“ (об открытии Колумбом Америки), „Улучшение нравов“, „Книга нравоучений“, „Мера очей“ (логика на арабском языке), „Тайны небес“ (астрономия), „Всеобщая география“ и другие.
Разносторонность Бакиханова не исчерпывается его широкой научной деятельностью. Одновременно он был крупнейшим поэтом своего времени, зачинателем азербайджанской художественной прозы. Его перу принадлежит рассказ „Китаби-Аскерийе“, диван [31]31
[31] Диван – сборник произведений одного писателя.
[Закрыть]стихов, который, к сожалению, полностью не сохранился.
Бакиханов вел большую общественную деятельность. Он активно выступал в русской периодической печати Тифлиса, был тесно связан с грузинскими общественными деятелями, принимал участие в разработке положений об азербайджанских сословиях.
Видимо, Аббаскули Бакиханов и был тем ярким, манящим огоньком, к которому так страстно стремился Мирза Фатали Ахундов. Понять Ахундова без Бакиханова невозможно. Жизнь и деятельность будущего просветителя была органически связана с азербайджанским другом Грибоедова и Пушкина.
Одной тропой шли они, Бакиханов и Ахундов. Живыми, земными интересами была объединена их судьба. И старший из них помогал младшему карабкаться в гору, к сияющим вершинам человеческого знания.