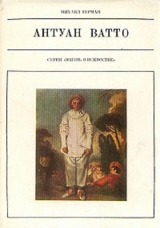
Текст книги "Антуан Ватто"
Автор книги: Михаил Герман
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
ГЛАВА XX
Ватто приехал осенью.
Можно надеяться, что судьба подарила ему хотя бы несколько дней, чтобы он смог почувствовать, чем привлекательна для живописца Англия. Дней, когда робкое британское солнце бросает сквозь влажный воздух легкие нежаркие лучи; когда становится видно, что луга, газоны, деревья – совсем особого нежно-изумрудного оттенка и так непохожи на голубоватые поля и рощи Франции; когда особенно хороши густые парки Лондона или Ричмонда, живые изгороди вдоль загородных дорог, заросли хмеля и жимолости, стремительные тени оленей, мелькающие в сумраке лесов, медвяный запах полей, всегда смешанный в Англии с запахом моря, и чайки, медлительно парящие в высоком небе, тоже напоминающие, что повсюду здесь море – рядом.
Вероятно, Ватто проводил большую часть времени в обществе своего гостеприимного и почти влюбленного в него хозяина и ближайших его друзей и коллег. Познакомившись с Ватто, наверное, еще в Париже и тут же став его восторженным поклонником, Мерсье мечтал показать знаменитого француза лондонским художникам и любителям и тем извлечь пользу и для себя – его репутация должна была непременно упрочиться, и для Ватто – он, без сомнения, должен был найти в Лондоне щедрых покупателей и новых заказчиков.
Предполагалось, что Ватто будет в Англии серьезно лечиться. Это подтверждается и тем, что одним из покупателей Ватто и, более того, его добрым приятелем стал один из известных в Лондоне медиков – доктор Мид, знаток и любитель искусства. Занимался ли Мид здоровьем Ватто, доподлинно неизвестно, но состояние художника не улучшалось. Это и неудивительно: для больного чахоткой человека трудно представить себе что-нибудь более опасное, чем лондонская зима, с подолгу не тающим снегом и ледяным воздухом, который приходится глотать вместе с сыростью и угольной гарью.
Нездоровый лондонский климат мучит Ватто. Он кутается в плащ, кашляет, слабеет и удивляется, наверное, собственной непоседливости, толкнувшей его на это тягостное путешествие. Подолгу отогревается он у роскошных лондонских каминов, друзья поят его подогретым портвейном или кларетом, а он, как всегда, старается не показать, как ему плохо.
Мерсье, разумеется, сопровождает его повсюду. Ему лестно показываться в обществе парижского, прославленного в Лондоне – в основном его, Мерсье, тщанием – художника, да и Ватто был глух и нем без Мерсье. Наверное, за эти несколько месяцев Ватто чаще бывал в гостях и общался с едва знакомыми людьми, чем за многие годы в Париже. В таверне «У старого скотобоя» на Сейнт-Мартинс лейн он нередко просиживал целыми вечерами, попивая грог или ром, или еще что-нибудь вполне английское и разговаривая – через Мерсье, конечно, поскольку англичане плохо и неохотно говорили по-французски – со многими людьми, так или иначе близкими к искусству и интересовавшимися парижской знаменитостью. Иные говорили о состоянии британского искусства с настойчивой гордостью, иные, более трезвые, с огорчением и надеждами, иные же просто заявляли, что английской живописи в природе не существует. Со времен Ганса Гольбейна, а потом и ван Дейка место королевского живописца занимают почти непременно иностранцы: был Лели – голландец, теперь же немец Неллер. Ватто, надо думать, показывали портреты Лели и Годфри Неллера. В них не было свободного артистизма французской школы, они казались суховатыми и вместе манерными, но была в них своя привлекательность, старомодная неторопливая точность. Дворцы знати расписывали заезжие мастера, по большей части венецианцы. Поэтому с такой неумеренной восторженностью старались английские почитатели искусства передать приезжим свое восхищение росписями Торнхилла в соборе св. Павла. Будем надеяться, что, если Ватто и показывали эти росписи, у него хватило выдержки и такта отнестись к ним хотя бы с вежливым почтением.
Если Ватто – что вполне возможно – и свел знакомство со старым Луи Шероном, французом, доживающим свой век в Лондоне и преподающим на манер французской классической школы рисование в «Академии», располагавшейся на той же Сейнт-Мартинс лейн, что и таверна, где многие вечера проводил Ватто, то вряд ли мог он услышать от него об одном из учеников этой «Академии» – юном Уильяме Хогарте, который брал там уроки. Зато можно с совершенной уверенностью сказать, что если Мерсье с Шероном привели однажды в эту «Академию» Ватто, то неведомый еще миру двадцатитрехлетний Хогарт – маленького роста плотный и подвижный господин, – забыв обычную самоуверенность, с восторженным вниманием рассматривал костлявого и болезненного иностранца, ибо был о Ватто наслышан и уже не раз любовался гравюрами с его картин.
И если их знакомство состоялось, то никому из них не могло прийти в голову, как в будущем станут звучать их имена и с каким волнением спустя сотни лет будут размышлять историки о возможности такой встречи.
Когда Ватто рассматривал картины Мерсье – картины старательные, но не отмеченные талантом и вкусом, он, наверное, удивлялся, как можно превратить «галантное празднество» в самодовольный групповой портрет, начисто лишенный того, что составляло смысл и суть его, Ватто, искусства, портрет, где не было ни естественной связи между группами, ни настроения, ни той атмосферы, без которой терялось главное в его живописи.
За плечами Мерсье и его английских собратьев по ремеслу не стояло вековой школы безупречного рисунка и чувства стиля, без которых во Франции не мыслилось какого бы то ни было художества. Не зная толком наследия великого Пуссена или даже Риго, английские живописцы отдавали свои симпатии Куапелю или Жилло, именно в них видя достойнейший пример для подражания. Возможно даже, что для иных английских ценителей искусство Ватто могло быть слишком личным, лишенным холодной и строгой безупречности тогдашних парижских академиков.
Знатоки же, наиболее чуткие, безошибочно угадывали в Ватто художника вполне исключительного. «Капризница» была куплена в Лондоне и долгое время служила украшением коллекции семьи Уолполов [49]49
Вероятно, она была куплена Хорэсом Уолполом (1717–1798) у ее первого владельца. Хорэс Уолпол, литератор, эссеист, знаток искусств, разумеется, мог заинтересоваться полотном Ватто. Не исключено, впрочем, что «Капризница» была куплена и отцом Хорэса, Робертом Уолполом, известным политическим деятелем, главой партии вигов. В коллекции Уолпола картина находилась до середины XIX века, а затем была куплена П. С. Строгановым.
[Закрыть]. А доктору Миду досталась картина «Итальянские актеры» [50]50
Национальная художественная галерея, Вашингтон.
[Закрыть], написанная, скорее всего, еще во Франции, но возможно и в Лондоне.
Из поздних театральных композиций это, пожалуй, не лучшая вещь, она перегружена фигурами, в ней нет строгой лаконичности «Жиля» или сдержанной камерности эрмитажной «Группы актеров».
Но нигде еще в искусстве Ватто не сочетались так причудливо и так непривычно многолюдный праздничный апофеоз спектакля со столь безусловной портретностью каждого персонажа. Стоящий в середине маленькой сцены Жиль, у ног которого лежит гирлянда роз, – несомненно, портрет. Он вовсе не похож на знакомого нам Жиля, на тот в высшей степени обобщенный и концентрированный образ. Нет, это вполне реальный, большеротый и носатый комедиант, словно только что сбросивший с себя простодушное выражение своего персонажа и явивший публике естественное, усталое и умное лицо, хотя поза и одежда его хранят неуклюжую повадку простака. Внимание товарищей по труппе устремлено на Жиля, на него указывает и рука актера, который играл Арлекина.
А вокруг, создавая стройную, как бы саму собой возникшую пирамиду, теснятся другие актеры – в картине пятнадцать фигур, представляющих все маски – тут и Мецетен, и Коломбина, и Панталоне – торжественный парад, – прощальный парад-алле комедиантов, словно Ватто вызвал их из глубины своих воспоминаний, чтобы здесь, в Лондоне, показать их благодарным ценителям и проститься с ними.
Есть что-то бесконечно печальное в этой тесной группе старающихся казаться веселыми лицедеев, будто и они разделяют грусть, которую испытывает зритель, думающий, что это – последняя театральная композиция Ватто. Андре Моруа вспоминал в одном из своих эссе: «…мне довелось слышать, как Бруно Вальтер, дирижировавший в Италии „Похищением из Сераля“ Моцарта, сказал оркестрантам: „Нужно, чтобы это звучало весело, так весело, чтобы всем захотелось плакать“». (Кстати, сравнения с Моцартом и вообще не раз приходят на ум перед картинами Ватто, таящими печаль, но почти ее не показывающими. Моцарт, живший полувеком позже, вероятнее всего, не знал Ватто, но ведь минувшее нередко соединяет в себе даже разделенные временем события и судьбы.)
Немало и других холстов, кроме «Капризницы» и «Итальянских актеров», попало в английские коллекции после приезда Ватто в Лондон. Судьбы не всех картин прослежены во всех деталях, время многое скрыло, но успех Ватто – в том числе и успех материальный – был несомненен. В лондонских богатых особняках стали появляться картины Ватто, которые вскоре с жадностью начнет изучать молодой Уильям Хогарт, пока, впрочем, еще не умеющий вполне разбираться, в чем разница между Жилло, Куапелем и Антуаном Ватто.
Здесь, в Лондоне, Ватто, видимо, не ощущал себя нахлебником богатых меценатов. Английские коллекционеры не были избалованы зависимостью от них художников и относились к парижскому мастеру с уважением. Ватто был достаточно признан и дома, но здесь, наконец, он мог ощутить свою исключительность, на которую имел несомненное право.
Тем более, видя робкие копии Мерсье и слыша восторженные суждения знатоков, он мог убедиться не только в том, что его, Ватто, картины пользуются здесь успехом, но и в том, что его искусство воспринимается англичанами как новое, свежее слово в живописи.
Английский вкус, английское понимание изобразительного искусства отчасти оставались провинциальными, но, с другой стороны, Англия не несла на себе столь обременительного, хотя и драгоценного по-своему груза традиций национальной классики. Английская живопись была наивна, неловка, но отважна. Новая культура, уже открывшая миру Даниэля Дефо, Александра Попа, Ричарда Стиля и Джозефа Аддисона, Джонатана Свифта, алкала национальной живописи. Поверхностные подражатели итальянских декораторов, вроде Уильяма Кента, вызывали досаду у людей с действительно хорошим вкусом. А интерес Ватто к тонким движениям человеческой души, к жизни театра, который еще с дошекспировских времен был для мыслящего англичанина школой жизни, этики и высокой поэзии, театра, который и сейчас тщаниями Джона Драйдена, Ричарда Стиля, Джорджа Фаркера, Колли Сиббера становился самой действенной силой английской культуры, увеличивал и без того восторженное отношение к картинам французского гостя.
Напомним еще раз: английская культура той поры остро чувствовала пульс культуры французской: «Герой этой пьесы имеет столько страсти и живости, сколько он может принести из Франции, и столько остроумия и юмора, сколько может дать ему Англия», – писал Стиль в предисловии к одному из своих сочинений.
Конечно, мы не знаем, какие пьесы и в каких театрах видел Ватто, но не может быть сомнения, что назидательные комедии буржуазной Англии с их несложной, но честной моралью были для него, французского зрителя, отчасти театром будущего. Для Ватто открывалась – пусть еще в самых своих элементарных формах – мораль и этика третьего сословия. Она могла казаться пресной и догматичной ироническому галльскому уму. Но в английском театре звучали мысли, которым еще не скоро придется прозвучать с парижской сцены. Это был театр страны, уже решившей те мучительные проблемы, которые еще только вставали перед Францией, проблемы, о которых, быть может, уже не раз начинал задумываться наш художник.
Постепенно Ватто мог начать осваиваться с английской жизнью. Он узнал людей, умеющих мыслить и сомневаться, сравнивать и рассуждать. Их и в самом деле не мучили тревожные предчувствия, что давно – и вполне обоснованно – смущали покой французов: социальные перемены произошли, те, кто не был нищ – а именно с такими людьми и общался Ватто, – имели все основания для оптимизма или, во всяком случае, покоя.
У большинства из тех, с кем встречался Ватто, были библиотеки: читали усердно и постоянно; как рассказывали, и в домах фермеров книги не были редкостью. Просвещенные и состоятельные англичане жили в домах не столь прозрачно-нарядных, как французские особняки, но жизнь была уютнее: на деревянных панелях отдыхали глаза, у больших, с коваными решетками каминов собирались вечерами всей семьей, и непременно собака дремала у ног хозяина.
Вообще есть все основания думать, что для впечатлительной души и внимательных глаз Ватто Англия с каждым днем могла становиться интереснее и привлекательнее. Конечно, далеко не сразу сумел он оценить – если вообще оценил – основательную серьезность своих собеседников, редко разменивавших глубину суждений на поверхностное острословие. Здесь не клеймили и не хвалили короля, англичане относились к нему – тем более что Георг I был ганноверцем – с вежливым равнодушием и верили в парламент, который выбирали. Лондонцы умели спорить, и было о чем: существовали разные политические партии – тори и виги. Эхо парламентских дебатов сотрясало стены кофеен, наличие оппозиции всегда давало возможность объяснить любую государственную неудачу оплошностью правящей партии, недовольные утешались сменой кабинета. Англичане еще не утеряли веры в демократичность нового общественного устройства и от души наслаждались причастностью к государственным делам. На континент, и в частности на вечную свою соперницу Францию, британцы поглядывали свысока: разве у них допустили бы столь вопиющий, дорогостоящий разврат, которому предавался регент?
Оказывается, с самодовольством англичан уживалось вольнодумство, во Франции невиданное. Смелые, хотя и неуклюжие сатирические гравюры английской и голландской работы смотрели со многих витрин, свободно продавались журналы, язвительно высмеивающие характеры, нравы и даже политические события. Не было здесь, как во Франции, мучительной неуверенности, здесь трезво и увлеченно рассуждали, не строя иллюзий и не смакуя изысканный скепсис.
Вряд ли Ватто вник в суть английской государственности или даже английского характера. Но всей своей чуткой душой он понимал, конечно, что здесь – иная ступень цивилизации, иная точка отсчета нравственных ценностей; и несомненная жизнеспособность чужой страны делала его и без того хрупкий мир еще более нереальным и хрупким.
Нет ни одной картины, которую хоть как-то можно было связать с его лондонскими впечатлениями. Очевидно, он в Лондоне работал, но обращался к прежним, давно знакомым темам. Тем более что английским заказчикам они пришлись по вкусу.
(Возможно, лишь одну его работу можно связать с пребыванием в Англии – рисунок, скорее карикатуру на французского врача Мизобена, практиковавшего в Лондоне и известного своими сомнительными пилюлями, приносившими ему, тем не менее, большой доход. Ватто изобразил врача на фоне кладбища: «Покупайте пилюли, покупайте пилюли» – было написано под рисунком. Оговоримся, что это не более чем предположение, хотя кто-то и рассказывал, как Ватто в таверне «У старого скотобоя» за несколько минут нарисовал Мизобена.
Но рисунок известен лишь по гравюре, сделанной без малого через двадцать лет после английского путешествия Ватто, и скорее всего предприимчивый гравер поставил имя французской знаменитости для вящей приманки публики.)
Словом, вместо сколько-нибудь конкретных сведений биограф располагает касательно поездки в Англию только одними предположениями. Доподлинно известно лишь, что вернулся он во Францию совершенно больным.
ГЛАВА XXI
Одни биографы пишут, что, вернувшись, он совсем не мог работать, другие, что работал через силу, редко, превозмогая болезнь. Видимо, правы и те и другие. Туберкулез посылает больному лихорадочные вспышки трудоспособности и даже хорошего настроения, чтобы потом совершенно лишить его сил.
Он приехал летом 1720 года. В начале следующего года он был еще на ногах: Розальба Каррьера записала в дневнике, что 9 февраля была у Ватто «с ответным визитом», стало быть, до этого Ватто навещал знаменитую итальянку. Кроза заказал Розальбе портрет Ватто пастелью, правда, неизвестно, согласился ли он позировать.
Возможно, после возвращения Ватто написал один из немногих своих портретов – портрет скульптора Патера, своего земляка.
Приехал ли старый Патер в Париж навестить своего сына – незадачливого ученика Ватто, но уже начинавшего завоевывать успех в столице, или ездил в Валансьен сам Ватто? [51]51
А. Д. Чегодаев выдвигает предположение – как нам кажется, вполне логичное, что Ватто посетил Валансьен по дороге из Кале в Париж. (А. Д. Чегодаев. Статьи об искусстве Франции, Англии, США 18–20 вв. М., 1978, с. 14).
[Закрыть]При бедности сведений, которые до нас дошли, можно выдвигать любые гипотезы.
Что побудило Ватто взяться за портрет? Он писал их редко, следовательно, не слишком охотно. Может быть, Англия, где портрету придавалось куда большее, чем во Франции, значение, где каждый богатый дом, каждая коллекция обладали портретами, где было много работ ван Дейка, Лели, Неллера? Кстати сказать, портрет Патера сильно напоминает хранящийся сейчас в Эрмитаже портрет скульптора Гиббонса. Трудно предположить здесь какое-то заимствование, да и смешно было бы Ватто брать с Неллера пример. Но очевидно желание Ватто создать что-то совпадающее с существующей традицией, написать портрет строгий, немногословный, похожий на многие и вместе с тем вполне свой.
Можно заметить, что художник – хочет он того или нет – создает эпилоги или, если угодно, апофеозы основных своих тем.
Так, «Капризница» стала апофеозом «галантных празднеств», «Итальянские актеры», написанные в Лондоне, апофеозом театральных картин. При этом настроение этих сюжетов сгущается, концентрируется, в них возникает едва ли не пародийная формула собственного его искусства.
Портрет же Патера – словно шаг в сторону, желание попробовать себя на избитом другими пути. Приложить свою собственную кисть к давно разработанной схеме.
Нетрудно понять, почему многие сомневались в авторстве Ватто. Помимо традиционной для портретов той поры композиции, есть здесь и несвойственная Ватто не то чтобы тусклость, но чрезмерная успокоенность колорита, лишенного обычного для нашего художника мягкого напряжения.
На первый взгляд – это обычный, хотя и в высшей степени артистично написанный портрет стареющего, крепкого, уверенного в себе мастера (Патеру в ту пору было только пятьдесят, но выглядит он старше). Рука властным жестом легла на лоб мраморной головы – обычного атрибута для портрета скульптора. Нейтральный оливковый фон, красновато-охристый кафтан – в холсте все почти сумрачно, только густо и смело написанный рукав белой рубашки разрывает тональный покой картины.
Не сразу различается здесь рука Ватто. Но мало-помалу проступают следы кисти, так хорошо нам знакомой: нежные и уверенные мазочки лепят локоны парика, четко моделируя и всю голову в целом. Тончайшие мазки белил, ложась на лицо, создают те самые лучезарные «света», которыми так восхищался живописец Пэн в письме к Влейгельсу. Летучие прикосновения кисти заставляют чувствовать то натяжение суховатой кожи на скулах, то характерный стариковский румянец, то неожиданно яркие – совсем как у Рубенса – рефлексы на затененной щеке.
И постепенно столь типичная для Ватто вибрирующая поверхность холста становится ощутимой взгляду, характер получает обычную для его картин если и не глубину, то многозначность, и в уверенной властности изображенного на картине мастера становятся заметны и некоторая неловкость откровенно позирующего человека, и усталость, и уверенно схваченное выражение лица – мимолетной досады или неприятной мысли, что заставила скульптора сдвинуть брови и оттянула вниз уголки жестко вырезанных губ…
Здоровье Ватто ухудшается с каждым днем, и, как всякий большой художник, тем более в предчувствии близящейся катастрофы, он одержим мыслью, что главное он еще не написал.
Вернувшись в Париж, он приходит к Жерсену, недавно купившему лавку «Великий монарх», что раньше принадлежала торговцу Дьё. Художник просит приютить его. Разумеется, Жерсен согласен. Но Ватто предлагает хозяину написать для его лавки вывеску. Чтобы «размять руки».
Жерсен удивлен и растерян, даже испуган: может быть, это причуда больного. Но нет, Ватто настаивает. Тем более, уже был случай, когда он писал вывеску для Дьё, где был изображен усопший король, подносящий орден дофину. Почему же ему не написать вывеску для близкого друга.
Жерсен польщен, он не в силах отказаться.
И вот, на излете жизни Ватто принимается за этот свой гениальный каприз, за этот реквием-апофеоз, он созывает зрителей в балаган, где разыгрывается один из актов его жизненной драмы. Он устал от выдуманных героев. Ему опостылели привычные условности, воображение его без труда, подобно Хромому бесу Лесажа, срывает крыши и смотрит сквозь стены. Нет больше отдельно существующих жанров или тем, нет смешного или грустного, воспоминания о минувшем и сиюминутные впечатления теснятся на сцене.
И если прежде Ватто мог бы повторить строчки Дю Белле:
то теперь воображение отступает, давая место простым, обыденным впечатлениям, обостренным, как всегда, фантазией художника.
Он пишет вывеску [53]53
Шарлоттенбург, Берлин.
[Закрыть]; он забыл об обычных своих сюжетах, кисть его свободна, изобретательность ничем не стеснена, и образы собственной его судьбы теснятся в памяти. Наконец-то он пишет то, что окружало его, а не чужую жизнь, хотя теперь, быть может, и его жизнь становится для него столь же ускользающим миражем, как и прежние галантные празднества: его минувшие будни кажутся столь же привлекательными и недостижимыми.
Он пишет то, что знакомо ему до последних микроскопических мелочей, то, что поразило его, когда нищим мальчишкой он нерешительно входил в богатые лавки на улице Сен-Жак, что стало постепенно для него любимой повседневностью. Пишет тех, среди кого текли его дни, – просвещенных знатоков и досужих любителей, приказчиков художественного магазина и его владельцев, зеваку и влюбленную пару.
Он пишет лавку Жерсена, чья наружная стена проницаема для глаз, точнее, для зрителя стены этой вовсе нет, хотя действующие лица картины продолжают эту стену видеть, входят в невидимую дверь, а те, кто внутри, не подозревают, что на них смотрят снаружи. Поистине взгляд Хромого беса!
Мы видим мостовую и тротуар: первый и единственный раз пишет Ватто парижскую мостовую, парижскую улицу! Приказчики укладывают в ящик картины, одна из них – портрет Людовика XIV, что, естественно, тут же вызывают цепь ассоциаций и с названием лавки, и с забвением ушедшего века. И праздный прохожий, прислонившись к стене, с рассеянной улыбкой наблюдает, как погружается в ящик с соломой портрет великого монарха. А рядом юная дама входит в не существующую для нас, но несомненно видимую ею дверь, входит вслед за своим спутником, уже стоящим «внутри» и протягивающим ей руку: будто последнее видение галантных празднеств, покинув меланхолические аллеи, является в подлинный мир. Мир, в котором царствуют не воображением созданные герои – их место теперь на холстах, что развешаны в глубине лавки, – а вполне земные, из плоти и крови люди.
И входящая в магазин дама будто воплотила все, что было в уже написанных Ватто картинах: и неподражаемую индивидуальность легчайшей походки, и кокетливый поворот головы, позволяющий видеть нежный румянец округлой щеки, и струящиеся, с волшебной легкостью прописанные складки широкого платья, того неуловимого и столь любимого художником цвета, который можно сравнить лишь с розоватым, подернутым тенью времени перламутром. Да и костюм ее спутника – родного брата героев галантных празднеств – обычен для персонажей художника: темно-коричневый, подбитый красным кафтан, распахнутый над буро-золотистым камзолом.
А в глубине магазина, чьи увешанные картинами стены погружены в бронзой отливающий туманный сумрак, там – уже иные фигуры, лишь отчасти напоминающие прежних персонажей Ватто. У прилавка собрались люди, одетые не менее элегантно; но столь обычные для полотен художника улыбчивые лица на этот раз с сосредоточенной серьезностью вглядываются в стоящую на прилавке, нам невидимую, небольшую картину. Впервые в картине Ватто персонажи им созданного мира становятся не объектами созерцания, но сами в созерцание этого мира погружены. Их бытование становится земным, бескомпромиссно реальным: ведь отраженная, вторичная реальность – картина – перед ними; и значит, они уже вне картины, они принадлежат миру. Лица их лишены обычной безмятежности – это как раз те немногие персонажи, которые, в отличие от персонажей «Капризницы», ощущают зыбкость мира, так захвачены они остановленным на картине мгновением. Мгновением, которое может рассчитывать если и не на вечность, то на бесконечно более долгую, чем смертные люди, жизнь.
И здесь же рядом двое кокетливых стареющих знатоков – дама в чепце и господин в серебристом кафтане – смотрят через лорнеты на большую овальную картину, смотрят, приняв поразительно забавные, достойные будущих полотен Хогарта или Гойи позы.
Все соединилось в этой причудливой картине, где привычные границы жанров разрушены с той же царственной уверенностью, что и сама передняя стена жерсеновской лавки. Обыденный труд упаковщиков, нежность влюбленных, невзначай входящих в магазин, смешное кокетство любителей, гордых своей причастностью к профессиональным тайнам, трогательное внимание к искусству тех, кто и в самом деле способен им восхищаться.
При этом все в картине кажется настолько естественным, настолько само собою происходящим, что трудно увидеть за этой простотой безошибочный и совершенный композиционный расчет.
Спокойная волнистая линия очерчивает две основные группы: упаковщики и входящая в магазин пара слева и справа – группа у прилавка. Но и внутри каждой группы есть свой, созвучный первому, волнистый, мерный ритм, а расположение фигур в каждой из них словно бы повторяет латинскую букву «s». Перспективные линии неторопливо уводят взгляд зрителя в светлую глубину дома. Ничего случайного нет в этой работе Ватто. И даже собака на мостовой помогает уравновесить картину, поскольку правая группа глубже левой и кажется потому легче.
Впервые в живописи Ватто мир искусства отделился от мира реального, и реальные люди из плоти и крови впервые показаны им в прямом взаимодействии с выдуманным, живописным миром. Здесь, в этой лавке, происходит примирение фантазии и реальности, прежние герои словно сходят со сцены и, стерев грим, присоединяются к зрителям – таким же, как они.
Но – как и всегда у Ватто – любое, а тем более столь необычное для его искусства событие показано чуть-чуть смешным. И печальным.
Он прощается с миром, который так долго был ему родным, с любителями искусства, из которых многие были ему добрыми друзьями, хотя и не всегда понимали его до конца, со знатными заказчиками и искушенными торговцами, с собственными героями, пришедшими, наконец, в его будничный мир; прощается с картинами, глядящими со стен лавки, с запахом старой бумаги, на которой сохранились бесценные оттиски знаменитых гравюр.
И в какой-то мере со всем своим искусством, ибо художник, раз написавший такую вещь, как вывеска Жерсена, уже не смог бы, наверное, вернуться к тепличному мирку своих прежних галантных празднеств.
Есть какая-то странная бравада в том, что самое свое необычное произведение, свою в полном смысле слова «лебединую песнь» Ватто предназначил на обозрение всем – даже случайным прохожим.
Замкнутый мир художественных магазинов, глубокомысленных бесед, изысканнейших суждений, мир, где скрещивались просвещенные мнения, где над редкими эстампами и полотнами старых мастеров склонялось столько знатоков и профессионалов, мир этот вдруг отважно распахнулся навстречу взглядам парижан, и мудрецов, и зевак, навстречу взглядам, в числе которых будет непременно так много взглядов совершенно равнодушных.
Жерсен, конечно, недолго мирился с тем, что столь драгоценная вещь служит вывеской, хоть и почитал это для себя лестным. И спрятал вывеску в своем доме.
И все же, надо думать, никто – и сам Ватто в том числе – не понимал, что такое вывеска Жерсена. Не понимали, поскольку были лишены возможности, которой обладают их потомки, возможности видеть события и вещи в исторической перспективе. Ведь здесь – извечная тема «искусство и зритель», достигшая таких вершин в XIX веке.
Впервые – до Хогарта, до Гойи, до Домье – Ватто создал картину, где перестали существовать, распались границы между фантазией и реальностью, где бытовая сценка слилась с сосредоточенным раздумьем, где общение человека с искусством показано и трогательно, и смешно, где сама атмосфера наполненной картинами комнаты уже обладает собственным художественным значением.
Этот поэт галантного века сам показал его хрупкость и его забавные стороны. Он вводил своих героев в реальный, еще прельстительный, но уже вполне земной материальный мир, где со временем придется жить всем персонажам всех художников, он, уходя, оставлял им не волшебную, но реальную страну. Он написал больше, куда больше, чем жанровую картину, он написал сгусток жизни, который не измерить плоским аршином педантических категорий.
В сущности, это картина наступавшего XIX века. Ватто словно увидел то, что было для него современностью, из будущего; сделал воспоминанием сегодняшний день.
И если бы «Вывеска Жерсена» не была последней картиной Ватто, она все равно должна быть названа последней. Она стала итогом его искусства и прологом искусства не только ближайшего, но и отдаленного будущего. И это последняя картина Ватто, о которой рассказано на страницах нашей книги.








