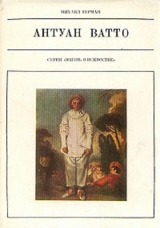
Текст книги "Антуан Ватто"
Автор книги: Михаил Герман
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
ГЛАВА XII
Итак, Ватто – академик. Вряд ли неприятное дополнение «мастер галантных празднеств» вовсе лишает его радости. Его честолюбие – если оно действительно существовало, а не было просто инерцией художника, следовавшего обычной дорогой, – удовлетворено. Он еще менее, чем прежде, может считать себя нахлебником Кроза. В тридцать три года он известнейший живописец Парижа; Кроза пишет в Венецию прославленной и моднейшей в Европе портретистке Розальбе Каррьера: «Среди наших живописцев я не знаю никого, кроме месье Ватто, кто способен был бы создать произведение, достойное того, чтобы быть вам представленным…» Теперь, закончив, наконец, картину для Академии, он может писать что хочет, он уверен: будет куплена любая сошедшая с его мольберта вещь, впрочем, это по-прежнему мало его тревожит, он полон недовольством своими вещами и собою. Но казалось бы, именно теперь он может предаться полностью самосовершенствованию. Не думая ни о хлебе насущном, ни об официальном признании, можно вволю работать, вволю размышлять. Полотна, заполняющие дом Кроза, полны еще не разгаданных до конца тайн. Споры, что ведутся здесь вечерами, неизменно поучительны – если не всегда глубиной, то блеском суждений. Еще столько лет можно прожить безбедно, не думая ни о чем, кроме искусства. И все же Ватто покидает дом Кроза.
Характер и поступки Ватто слишком необычны, чтобы биограф мог обойтись без, пусть банальных, но, казалось бы, вполне убедительных выводов: обладая гипертрофированной, но все же вызывающей уважение гордостью, болезненным чувством собственного достоинства, дорожа независимостью более, чем обеспеченной жизнью и здоровьем, Ватто ищет одиночества. Это подтверждают все его современники.
Жан де Жюльен: «Он почти всегда был задумчив… усидчивый труд наложил на него отпечаток некоторой меланхоличности. В обращении его чувствовались холодность и связанность, что порою стесняло его друзей, а иной раз и его самого, единственными его недостатками были равнодушие да еще любовь к переменам».
Жерсен: «Ватто был среднего роста, слабого сложения; он отличался беспокойным, изменчивым нравом, твердой волей; по умонастроению был вольнодумец, но вел разумный образ жизни; он был нетерпелив, застенчив, в обращении холоден и неловок, с незнакомыми вел себя скромно и сдержанно, был хорошим, но трудным другом, мизантропом, даже придирчивым и язвительным критиком, постоянно не был доволен ни собою, ни окружающими и нелегко прощал людям их слабости. Говорил он мало, но хорошо; он любил читать, это было его единственное развлечение, которое он позволял себе на досуге; не получив хорошего образования, он недурно судил о литературе… конечно, его постоянное усердие в работе, слабость здоровья и жестокие страдания, которыми была полна его жизнь, портили его характер и способствовали развитию тех недостатков, которые ощущались в нем, когда он еще бывал в обществе».
Де Келюс: «По натуре он был язвителен и вместе с тем застенчив – природа обычно не сочетает эти две черты (позволим себе не согласиться с графом, достаточно вспомнить Домье! – М. Г.).Он был умен и, хотя и не получил образования, обладал вкусом и даже утонченностью, позволявшей ему судить о музыке и обо всем, для чего нужен разум.
Лучшим отдыхом для него было чтение. Он умел извлекать пользу из прочитанного, но, хотя он чутко различал и отлично показывал забавные человеческие черты тех, кто досаждали ему и мешали работать, он все же, повторяю, был слабохарактерен, и его было легко провести…
Ватто пользовался столь громкой славой, что единственным его врагом был он сам, а также дух непостоянства, с которым он никогда не мог совладать. Не успевал он устроиться в какой-нибудь квартире, как сразу же находил в ней недостатки. Он без конца менял их и, сам испытывая от того неловкость, старался найти этому какое-нибудь убедительное оправдание». Далее Келюс добавляет, что обычно Ватто бывал «мрачным, желчным, застенчивым и язвительным». И еще: «Меня, однако, всегда поражало злосчастное непостоянство этого столь одаренного человека… мне было его тем более жаль, что разумом он все отлично понимал, но мягкость его натуры всегда брала верх, – словом, его деликатность постоянно увеличивалась и приводила его к абсолютному упадку сил, что грозило ему большими неприятностями». По собственному признанию графа, Ватто хоть и стал «внимательнее относиться к своим делам», но старался избегать разговоров о своем будущем, отделываясь фразой: «Но на худой конец есть Госпиталь [32]32
Ватто говорил, скорее всего, о знаменитой богадельне в Бисетре, близ Жантийи.
[Закрыть]. Там никому не отказывают».
Не будем злоупотреблять терпением читателя, который сейчас может сам прочитать тексты современников Ватто, они опубликованы. К тому же, в сущности, о нем писали почти одно и то же, не говоря уже о том, что одна биография часто служила источником для другой, а кое-что повторяется просто текстуально. И все же картина вырисовывается слишком уж четкой и простой, чтобы в нее можно было легко и без оговорок поверить.
Не вызывает сомнения ни любовь Ватто к одиночеству, ни трудный нрав, ни «охота к перемене мест», все это не редкость и подтверждается фактами. Но о каких «жестоких страданиях», которыми «была полна жизнь Ватто», говорит Жерсен?
Если взглянуть на судьбу Ватто непредвзятым взглядом, становится ясным: только годы его юности могли казаться современникам трудными. А у Жилло, у Одрана, у Сируа, не говоря уже о Кроза, – какие он испытывал страдания?
Ведь обычно к нему относились тепло и терпеливо, ценя его талант; старались не замечать его – по тем временам – прямую невежливость. Заказов у него было больше, чем мог он желать, деньги он не ценил и не вел им счета. Почти всегда он делал только то, что хотел, почти все им написанное у него покупали. Более того, люди, которых он бросал без видимой причины, не держали на него зла, как, например, Сируа. В записках современников мы не встречаем и намека на то, что у него были враги, даже о завистниках ничего не говорится.
Исследователи, как и первые биографы Ватто, ссылаются на его болезнь, одиночество, на отсутствие каких бы то ни было романтических, или если и не очень романтических, но все же украшающих жизнь ситуаций. Конечно, это неутешительная участь, но есть ли это основание говорить о «жестоких страданиях». Может быть, все же речь идет о страданиях внутренних, которым в ту пору еще не умели находить объяснений и самые тонкие литераторы. Чтобы понять Ватто, нужен был бы Стерн, а он еще и не родился в те годы. Сезанн мучился, стараясь «реализовать свои ощущения», слова уже цитированные – и не случайно – на этих страницах, не то же ли самое происходило с Ватто, постоянно недовольным собственными работами, но не способным понять, что он ищет; ведь он чертовски опередил свое время, он мог мучиться, не находя адекватных своим ощущениям не столько сюжетов, сколько средств.
Всегда есть охотники приписывать современные комплексы людям ушедших столетий; и, как оружие против этой «агрессивной модернизации», у науки появилась обоснованная осторожность: ни в коем случае не наделять людей прошлого сложными и противоречивыми качествами и мучительными сомнениями двадцатого века. Но ведь неоткрытое существует и до того, как его покажет и объяснит искусство или наука; электрические разряды бушевали в тучах независимо от размышлений людей об электричестве. В истории искусства нам известны личности поразительной и труднообъяснимой сложности – Леонардо да Винчи лучший, но не единственный тому пример. А где найдем мы в истории искусства аналог Ватто, художнику, что был антиподом темам и настроению своих картин. Строгий ум Пуссена и возвышенная логика его картин, страсти и страдания Рембрандта, которыми он наделял и своих героев, светский блеск не только кисти ван Дейка, но и светские успехи его самого, якобинство Давида и свободолюбивые идеи его живописи, невиданные страдания и радости Гойи, столь созвучные его холстам и офортам, – конечно, это нельзя назвать правилом, но разве в этой близости судеб и характеров, с одной стороны, и искусства – с другой, не прослеживается определенная логика? А ежели мы станем искать мастеров, чей нрав противоречил их искусству, то прежде всего вспомним Рубенса (любимого мастера Ватто), чья вакхически великолепная, плотская и сияющая живопись так отличалась от его сдержанного нрава, скромных привычек, от его внутренней постоянной сосредоточенности. Правда, у Рубенса не было разлада с миром, он был счастлив работой, любовью, детьми, друзьями, путешествиями. Это объяснимо, он был подготовлен к восприятию светской жизни образованием и воспитанием; а главное, его творчество было неотделимо от последнего всплеска фламандского процветания в искусствах, науках, политике и торговле. У Ватто же ничего этого не было. Если он испытывал сомнения, неясную тревогу – все то, о чем справедливо и многократно говорят, размышляя об его искусстве, то он мог опираться лишь на интуицию. Он был, как пишут, человеком разумным, склонным к чтению и размышлению, но, конечно же, он не обладал тем могучим разумом, что способен с пронзительной отчетливостью различить скрытые пока от остальных смертных грозные исторические сдвиги, что способен прозревать будущие социальные потрясения и безошибочно анализировать сегодняшнюю несправедливость.
Можем ли мы отказаться от предположения, что Ватто – это одна из тех трагических фигур в истории культуры, которые, не будучи в состоянии понять источник своей неудовлетворенности, вкладывали невольную горечь в вовсе не печальные сюжеты. Можем ли мы утверждать, что мизантропия Ватто – следствие не только болезни, трудного нрава, но и разлада с жизнью, которой он не мог не любоваться, но искусственность и однообразие, и обреченность которой ощущал. Он был одинок в своем ясновидении, которое не мог объяснить и самому себе, он бежал к своим картинам и от других, и от самого себя – лишь кисть давала выход всему тому, что он не умел объяснить словами. Возможно ведь, что он и сам жестоко корил себя, не в силах понять мучительной сложности дарованной ему судьбы.
Он умел любоваться людьми – это видно в его картинах. Он умел любить друзей, но, судя по всему, не слишком хорошо умел это выражать. Во всех жизнеописаниях Ватто царит некоторое недоумение; внимательно в них вчитавшись, можно заметить, что авторы стараются говорить о годах его зрелости как о цепи тягостных испытаний, желая, видимо, оправдать то, что в глазах здравомыслящих людей воспринималось постыдной неблагодарностью.
На этих страницах нет желания убедить читателя в возможности однозначного решения только что высказанных предположений. Во-первых, к ним не раз придется возвращаться, во-вторых, и сам Ватто вряд ли знал о себе правду. Важно лишь, чтобы сомнения и готовность к неожиданностям не покидали нас и в дальнейшем путешествии во времени, вслед за течением жизни Антуана Ватто.
Теперь же он скрылся от глаз большинства знавших его людей и, следовательно, от глаз биографа. Известно лишь, что вместе с художником Влейгельсом он поселился в доме состоятельного чиновника месье Ле Брена, приходившегося родным племянником Шарлю Ле Брену, знаменитому некогда придворному живописцу. Это произошло либо в 1718, либо в 1719 году. Мы не знаем никаких фактов жизни Ватто со времени его принятия в Академию до его путешествия в Лондон в 1720 году. Есть картины, которые с известной уверенностью можно датировать этими годами, о них речь впереди. И есть текущая вокруг Ватто жизнь, известная нам хоть и не до конца, но все же лучше, чем жизнь самого художника.
ОТСТУПЛЕНИЕ: О ВРЕМЕНАХ И НРАВАХ
Итак – год 1717-й. Ватто еще живет у Кроза, пишет «Паломничество на остров Кифера», получает звание академика. Идет третий год регентства, и уже не только самые проницательные умы начинают различать, как поверхностны перемены. Надо отдать этим переменам должное, они были сервированы с умением и с любовью к делу: Филипп Орлеанский хотел и умел нравиться. Между тем, когда юный поэт Аруэ, столь известный впоследствии под именем Вольтера, написал эпиграмму против регента, незамедлительно последовало изгнание. Полагая, однако, что литературный вкус герцога и его легкий нрав послужат залогом снисходительности, Франсуа Аруэ явился в Париж, чтобы предложить Французскому театру трагедию «Эдип». Как раз в это время герцог приказал вдвое сократить число лошадей в королевских (отнюдь не в своих) конюшнях из соображений государственной экономии. И тут же по Парижу полетела будто бы сказанная Аруэ фраза: «Было бы куда лучше наполовину сократить число ослов, которые окружают его величество». Вольтер оказался в Бастилии, хотя, говорят, регент оценил острословие молодого литератора. Разумеется, поддерживался слух, что виновником заключения Аруэ в Бастилию был не сам добродушный и снисходительный регент, но всесильный аббат Дюбуа, воспитатель герцога, получавший в пору регентства один государственный пост за другим и ставший практически правителем страны. Деля со своим воспитанником и повелителем власть, он успевал едва ли не наравне с ним участвовать в самых низменных оргиях.
«Среди своего разгула и своих шутовских выходок человек этот всегда сохранял некоторого рода серьезную извращенность, и можно было бы сказать, что в потемках его души ум постоянно бодрствует».
Луи Блан
Именно Дюбуа направлял постыдные заигрывания с Англией, скрываемые даже от двора, именно он брал на себя небрежные жестокости вроде ареста Вольтера. Регент полностью находился у него в подчинении, искренне, впрочем, полагая, что дела обстоят наоборот.
«Je suis du bois dont on fait les cuistres,
Et cuistre je fus autrefois;
Mais à présent je suis du bois
Dont on fait les ministres.
Je ne trouve pas étonnant
Que l’on fasse un ministre,
Et même un prélat important,
D’un maq……, d’un cuistre.
Rien ne me surprend en cela:
Et ne sait-on pas comme
De son cheval, Caligula
Fit un consul à Rome?» [33]33
Я слеплен из того же теста, из которого лепят прохвостов, и сам был когда-то прохвостом; но теперь я из того теста, из которого лепят министров. Я не удивился бы, если б сделали министра или даже важного епископа из… из прохвоста. Ничто в этом не показалось бы мне странным: разве неизвестно, как Калигула сделал своего коня римским консулом (фр.). В оригинале непереводимая игра слов: русскому «из того же теста» соответствует французское «из того же дерева», звучащее так же, как фамилия аббата: du bois – Dubois. Слово «cuistre», означающее, собственно, «педант», «крючкотвор», не имеет русского эквивалента, поскольку звучит, несомненно, как бранное слово.
[Закрыть]
Анонимная эпиграмма на аббата Дюбуа
Когда молодого вольнодумца Аруэ отправляли в Бастилию регент или аббат, чьи дела уже ни для кого не были тайной, не нужно было особой проницательности, чтобы видеть постыдность ситуации. Свобода нравов, сначала казавшаяся хотя бы менее скучной, чем прежнее ханжество Версаля, вскоре обернулась просто убожеством.
Что же касается третьего сословия, то оно начинало понемногу понимать, что все более унижаемая нравственность может со временем стать оружием в борьбе против дворянства. Добродетель, как ни суди, сродни порядку, порядок лежит в основе усердной работы, бедняки скорее доверятся добродетельному дельцу, чем распутному феодалу, который ничего не делает и бесчестит крестьянских красоток. Все это еще лишь зрело подспудно, еще не было высказано, но тучная почва уже подготавливалась.
«Я не знаю, кто полезнее государству – напудренный сеньор, знающий с точностью, в котором часу ложится и в котором встает король, или негоциант, который обогащает страну, посылая из своего кабинета приказы в Сурат или Каир, и содействует счастью всего мира».
Вольтер
Когда же беспутный принц стал проявлять жестокость, как в истории с Вольтером, насторожились и прежние его сторонники из числа просвещенных аристократов и чиновников. Если в Пале-Руаяле все дозволено, почему попирается вольнодумие за пределами дворца! Было далеко до возмущения, но разочарование наступало.
Что знает, что думает об этом Антуан Ватто? В бытность его у Кроза он слышал о политике много пылких мнений, среди которых, возможно, звучали не только анекдоты, не только печальные рассуждения об анемичной политике, но и трезвые мысли о том, что регент или его министр все же способны понимать значение промышленности и торговли. В бытность у Кроза, незадолго до получения им звания академика, он, как и все любознательные парижане, с удивлением следит за известиями о приезде в Париж русского монарха с непроизносимым для француза титулом «царь». О нем рассказывали много странного: как он отказался поселиться в Лувре, в бывших апартаментах Анны Австрийской, и предпочел им куда более скромный особняк Ледигьер, где улегся спать на собственной складной койке, презрев роскошную постель, украшенную золотой бахромой и султанами. Рассказывали, несомненно, что регент (которому можно было отказать во многом, но не в тонкости суждений) после часовой беседы с «Пьером первым», переводчиком коей служил князь Куракин, говорил о редком уме русского царя.
«Сегодня был мне нанесен знаменательный визит, то был визит моего героя „Царя“. У него превосходные манеры, если говорить о них как о манерах человека, лишенного претензий и аффектации. Он судит обо всем справедливо. Он говорит на дурном немецком [34]34
Немецкий язык был родным языком герцогини Орлеанской – Шарлотты Елизаветы Пфальцской (1652–1722).
[Закрыть]языке, но может объяснить все и превосходно поддерживает беседу».Письмо герцогини Орлеанской, принцессы Палатинской своей сестре от 14 мая 1717 года
О Петре говорили в Париже немало вздора, однако любознательность, серьезность и обширные познания царя вызывали удивление и восхищение. В доме инвалидов он пробовал солдатский хлеб, пил с ними вино, в госпитале, пощупав пульс умирающего солдата, объявил, что тот останется жить, и не ошибся. Регент старался развлекать царя на свой лад, но Петр больше интересовался фортификацией, нежели танцовщицами, хотя и не отказывал им в своем внимании. Самой же большой сенсацией для парижан было посещение северным властелином восьмидесятидвухлетней мадам де Ментенон в монастыре Сен-Сир в час, когда она еще лежала в постели, и тонкий комплимент, который был сказал царем некоронованной королеве. Немногие – и уж, конечно, не Ватто – могли разглядеть, как заметна делается дряхлость французской монархии при взгляде на пылкую деятельность властителя, строящего монархию новую. И все же крупицы и этих впечатлений добавляли новую долю скепсиса к размышлениям французов.
Но вот Ватто покидает Кроза. Он живет теперь на левом берегу Сены, неподалеку от аббатства св. Женевьевы, в самом сердце Латинского квартала. Здесь ничто не напоминает о тех местах, где прежде приходилось ему жить, хотя Люксембургский дворец в пяти минутах ходьбы. По тесным, кривым, круто подымающимся к аббатству улочкам течет толпа, вовсе не похожая на обычную парижскую публику: профессора в черных, отделанных горностаем на плече, мантиях, разговаривающие меж собою по-латыни, сорбоннские студенты с охапками книг, толкующие о приближающихся экзаменах по сирийскому языку, праву, ботанике, хирургии, астрономии, теологии, о страшных диссертациях, защита которых длится по десять часов, об испытаниях на степень доктора богословия, которые принимают двадцать профессоров – один за другим и каждый задает вопросы по полчаса. Университетские студенты; ученики коллежей и лицеев; гордые и скрытные питомцы Коллежа де Клермон, ставшего позже «Лицеем Людовика Великого» – школы иезуитов; будущие лекари, направляющиеся с завидным хладнокровием в анатомический театр; беспечные подруги школяров, классные надсмотрщики, торговцы дешевой снедью и книгами – совсем иные лица, иные обычаи. В университетские празднества – в день св. Вараввы и в день св. Карла Великого устраиваются торжественные шествия с факелами, пением гимнов и изощренным озорством.
Над всей этой суетой царит купол церкви Сорбонны. Это – одно из лучших созданий зодчего Ле Мерсье – для школяров и окрестного люда – душа и символ университета. В глубине здания светлым торжественным пятном выделяется мраморное надгробие Ришелье, покровителя университета, а над изящной скульптурой Жирардона, вздрагивая от случайных сквозняков, покачивается на тонкой нити уже поблекшая от времени и пыли алая кардинальская шапка, некогда покрывавшая голову грозного министра.
Ныне все переменилось.
Иными стали студенты, никто не говорит по-латыни, холм св. Женевьевы увенчало не менее известное, чем Эйфелева башня или Лувр, благородное здание Пантеона, веселый бульвар Сен-Мишель рассек путаницу старых переулков, и не сыскать теперь улочку Фоссе-Кретьен, где прожил год или два непоседливой своей жизни Антуан Ватто.
Что обрел он здесь, что потерял? Снова множество безответных вопросов. Он искал одиночества, забвения, независимости, бежал от назойливой опеки богатого хозяина, устал быть нахлебником? Вряд ли положение его у Кроза было таким уж унизительным, чтобы расстаться с сокровищами его галереи. Или одно, неосторожно произнесенное слово ранило его и без того самою собой истерзанную душу?
Насколько можно судить, он не поссорился с Кроза, во всяком случае, Кроза не поссорился с ним и продолжал интересоваться его работами. Но разумеется, круг знакомств и общений Ватто изменился и, уж во всяком случае, резко сузился. Нам уже почти невозможно представить себе, что из окружающей жизни было ведомо Ватто, а что нет. Возможно ведь, он почти не покидает свой квартал, свою мастерскую, и жизнь огромного, полного событий, смеха и слез Парижа течет мимо, задевая его лишь отдельными миражами, в которых он, впрочем, не мог не различать все тех же нот непрочного веселья, прельстительного пира в канун надвигающейся чумы.
Помимо интуиции были факты.
Их не мог не видеть даже столь погруженный в себя художник, как Ватто, факты, сами по себе поразительные, но преувеличенные слухами. Долгое время у ворот св. Рока некий слепец, продававший индульгенции, торговал одновременно и памфлетами, рассказывающими о подлинных и, кажется, даже мнимых грехах регента. Подлинных грехов было бы достаточно, к ним, однако же, прибавлялись обвинения в кровосмесительных связях и поступках, которые вряд ли может выдержать бумага даже два с половиною века спустя. Эти памфлеты были известны всему Парижу. Если Ватто их и не читал, ему о них рассказывали.
Париж сжигала лихорадка феерических надежд.
Еще живя у Кроза, Ватто не мог не слышать и не знать о необычной и внушающей самые оптимистические мысли деятельности шотландского коммерсанта Джона Лоу, организовавшего совершенно невиданную банковскую систему. Она – так казалось, во всяком случае поначалу, – сулила невиданный расцвет государственных финансов вкупе с невиданным же ростом частных доходов. В 1718 году банк Лоу стал государственным учреждением, кредитные билеты, выдаваемые им вместо звонкой монеты, росли в цене, вместе с ними росли надежды пайщиков, хотя золото в казне не способно было покрыть и четверти стоимости бумажных денег. Как известно, деятельность Лоу принесла впоследствии множество банкротств и оказалась почти полностью несостоятельной, но тогда, вначале, она была созвучна все тем же «странностям», о которых так много уже говорилось, она колебала привычные представления о материальных ценностях, даже о ценности золота, заставляла верить в чудеса и сомневаться (вопреки утверждению кардинала де Ришелье, что «золото и серебро являются одной из главных и наиболее необходимых сторон могущества государства») в извечной силе луидоров и пистолей.
«Иностранец вывернул наизнанку государство, как старьевщик выворачивает поношенное платье: то, что было изнанкой, он сделал лицом, а из лица сделал изнанку. Какие возникли неожиданные состояния!.. Сколько появилось лакеев, которым прислуживают их недавние товарищи, а завтра будут, быть может, прислуживать и господа!»
Монтескье
Мимо банка Лоу на улице Кэнкампуа, что неподалеку от Гревской площади, хоть раз случайно да прошел Ватто, и этого было достаточно, чтобы лицезреть алчность, почти безумие в самом неприкрытом виде. Если деятельность Лоу привела в лихорадочное движение финансовые дела, то сам он, будучи олицетворением ожидаемого чуда, стал в глазах даже знатнейших дам первым мужчиной Парижа. Это было и смешно, и страшно, так велико было легковерие, так жадно старались люди занять души и разум всем, чем угодно, лишь бы во что-то верить.
«Одна герцогиня при всех поцеловала ему (Лоу) руку. Если так поступают герцогини, что же станут целовать другие дамы? Я думаю, что, если бы он пожелал, француженки, не в обиду им будь сказано, стали бы целовать ему зад. Разве не стали они уже настолько бесстыдны, что смотрят, как он мочится? Чувствуя в том необходимость, он однажды отказался принять дам, объявив открыто, чем объясняется его отказ. Они ответили: „Пустяки, занимайтесь этим и слушайте нас“. Так они и остались возле него».
«Исторические отрывки» герцогини Орлеанской, принцессы Палатинской
Следует вновь попросить прощения у читателя, который, хочется надеяться, поверит в то, что процитированные строчки приведены не для пикантности, но единственно с целью показать, как легко было в ту пору свести с ума Париж и сдвинуть привычные представления о благопристойности. Ничто не принималось всерьез из того, что казалось серьезным ранее, зато все «странное» (опять же та самая «странность»!) принималось на веру со смешным и жалким в наше время восторгом.
Среди этого странного мира, впитывая в себя его и его не замечая, размышляя и забывая о нем, живет и пишет Ватто.








