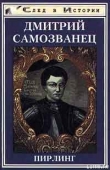Текст книги "Самозванец Кн. 2. Окаянный престол"
Автор книги: Михаил Крупин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
ПРАВОСЛАВНЫЙ ЧАРОДЕЙ
– Мне, понимаешь ли, надёжа-государь, неистовых потомственных воров деть некуды, а там битком какие-то еретики, – сказал царю Басманов. – Навалял их в подземелье владыка Иов, что твои яблоки в чеснок, лазай теперь, перебирай!
Дальше выяснилось, что Басманов перебрал уже, не поленился, и отсеял всех схизматов-нестяжателей, заволжских старцев и мордовских ведунов от настоящих татей. Сейчас он испрашивал только царёва указа – освободить от безобидных сих ересиархов площади темниц, пустить их всех на вольный Север, что ли...
Царь загорелся посмотреть на чародеев и еретиков. Хоть он и не надеялся, что правда с ними, но ненароком верил в любое умственное непокорство, даже в небольшое сомнение. Он как-то сравнил свой взгляд с приглядчивой мудростью лесничего при своём тушинском займище. Тот лесничий приветствовал и волков, и весеннюю водополь, и даже очень ценил зверский ураган, что обламывает у деревьев иссохшиеся сучья, рвёт и далеко относит семенные пригожие серёжки с берёз...
Отрепьев вошёл в молодечную, там дожидались своей судьбы еретики. Жолнеры, завидя высшее начальство, побросали оладьи и карты и, повскакав с бряком сабель с мест, струнно вытянулись. Шафранец, спеша, выдернул руку из-под стола, и там покатилось что-то и звякнуло. Дежурный офицер Станислав Борша, с увлечением переворачивавший оладьи на загнетке квадратной печи, распрямился и отсалютовал позже всех – он сначала счесал вниз закатанные до локтей рукава, оставив по ним белую мазню опары, потом вытер о тимовый передник руки.
– Погляди-ка сюда мордой-то! – предложил Басманов одному невнявшему событию еретику, льнущему всем телом в прозрачном дрожащем рядне и длинными ладонями к печурке. – Не царь к тебе пришёл?
Человек десять схизматов уже вопросительно горбились перед царём на полу.
– Это только первое звено, – объяснил царю Басманов и стал по какой-то подшивке вычитывать их имена и дела. Дмитрий чуть боком присел за стол, опустив ноги на кованый зарядный коник у стенки. (Жолнеры по походной привычке с царём не чиниться снова расселись по местам).
Памятливый Борша поднял у загнетка кочергу и по ходу чтения Басманова указывал ею, как наставнической тростью, на того преступника, о ком сейчас шла речь.
– ...Последователи Вассиана Косого и Нила Сорского, аскеты и истязатели телес, – поглядывал в свои листы и рассуждал Басманов. – Лучшего удобства для них, чем в наших подвалах крысиных, и не подобрать. Да полно, зажились, пора и честь знать. Так их набалуешь только. Не про эти шалости темницы роются.
– Точно! С одного цепь стал снимать, – поддержал, смеясь, Шафранец, – так не отдаёт, целует их: верижки мои, говорит!
– ...Мордовские жрецы, – продолжал Басманов. – По виду звери дикие, а так-то люди мирные. Им только лес покажи – не то что каверзы какой от них, самих ни одного их больше в жизни не увидишь... Так... Даже есть два чародея-ясновидца – Никита Владимирский и Витя Вселенский...
Тут завлечённый царь остановил сыскного воеводу – хотел сам с чародеями подробней поговорить.
Сперва держал перед царём ответ Вселенский. Его собрат Владимирский, едва получил разрешение встать на ноги, снова припал дланями к горячим изразцам – это его Басманов отгонял при появлении царя от тепла.
– Этот друг позабавнее будет, – серьёзно сказал один жолнер, когда дошла очередь до Владимирского. Схизмат же Вселенский проповедью своей исповеди весьма понравился царю, был им приглашён в домашние святители и с великой славою отправлен в верхние чертоги из караульной избы. Вдумчивая и острая ересь Вселенского мигом напомнили Отрепьеву премудрых гощинских философов, показалось: сама благая истина снова мелькает над ним – только руку протяни, не мешкая, да кушак ей и разверни!..
Капитан Борша извёл между делом опару и вынес из стряпного закутка на широкой тарелке последнюю горку «налешников», польских блинов.
Царь снял с поднесённой в первую очередь к нему горки, сложив вдвое, дымящийся верхний налешник – на миг всё примолкло, – зубами взяв горячее, с мычанием покивал, и тогда довольный Борша, предложив ещё блин мрачно мотнувшему бородой Басманову, пустил блюдо по кругу – нарасхват еретикам и солдатам.
В молодечной одному царю был любопытен разговор Вселенского, караульные скучали умствованиями опального теософа, но едва за ним прихлопнули дверь и настал черёд Владимирского, жолнеры, точно очнувшись, кинулись наперебой представлять его Дмитрию, советуя брать тоже в приватные духовники...
Из оживлённой молви рыцарей выяснилось, что они, за краткое время сидения освобождающихся святотатцев в караулке, успели свести дружбу и даже что-то вроде крестного родства с зябким доходягой в призрачных оборках. Сперва он для скучающих воинов был чем-то вроде шута, поскольку один из всех православных ересиархов, в безмолвии зрящих сквозь строй басурманской дружины куда-то в свою крепкую даль, любезно и свободно отвечал на все весёлые вопросы стражников, смеялся на панские прибаутки и сам, бесстрашно и рьяно, старался над стражниками подшутить, выбирая для беззлобного, но издевательского толкования самые, казалось бы, неподходящие для этого детали в амуниции поляков, что само по себе уже увеличивало общее веселье.
Из расспросов же караульные узнали (хотя и мало поняли): тяжелейшее из многих окаянств, увлёкших Владимирского в подземелье, то, что сам святой отшельник Герман Печенежский благословил его на «осязание и пуск» грехов людских – даже вне храма и исповедания (хотя и до известного предела грешности, на усмотрение святости). Однако ж Герман Печенежский при жизни благословить на неизведанное дело сие Владимирского просто не мог – сам не был причислен к святым, только по смерти явились его мощи. Потому Герман вручил Никите это право, однажды выбравшись к нему уже из горнего царства – как бы во сне. Когда же Владимирский, ступив из своего затвора, начал исполнять благоволение сие в миру, был тут же обвинён в мошеннической подтасовке снов, объявлен самозванцем, богомерзким хамом и волхвом и обречён на ещё более плотный затвор – епитимию тюрьмы. Видно, не смог Печенежский протиснуться в сон ни одного сильного мира сего, дабы оборонить необходимым свидетельством брата (сны сильных тяжёлого мира крепко затворены, занавешены натемно для лёгкого святого света, не насилующего, неуловляемого)... Или так и задумано высоко было, чтобы схимника-схизматика перед кончиной мученичеством укрепить и перекинуть ещё один тоненький, волосяной, мост между сферами Божьими?
– Да как, вор, смеет лапа у тебя, – накричал тогда на Владимирского напуганный архимандрит, – протягиваться отпускать грехи прямо на улице?! Без внятственного покаяния, без всех действий, без кадила и воды?! Ведь, значит, ты грехи эти у Церквы упёр? Ну помысли, негодный, пустой ты сарацин, кого ограбил?!
– Ах, преподобие твоё, – с колен возражал еретик. – Разве ж я что имею супроть таинств церковных? Только исповедь и каянье грехов суть трудная работа и кому-то она неподвластная!.. Мой же способ усилия – свой! Я сперва отворяю чуток у хворой совести грех... Вот смотри, у человека в скрытном месте обустроился, попривык и так, исподволь, точит его чёрный порок. Человек грешит, мрачнеет, сохнет, мечется, в святой церкви в чём уж только не винится, а откудова лукавый его жрёт, не разумеет... Так я ему грехопускание творю: лишний, дурной парок порока выпускаю! Вот свежий-то дух на то место и хлынет, белый огонь всё осветит, и скверна из своей норы наружу выпрет и забегает по всей душе! Тут грешнику деваться некуды, он с этой морокой в церковь к тебе прямиком придёт! А уж ты тут не зевай, эту явленную мерзь по всем правилам исповедей... цап-царап за ушко – и на солнышко! На мороз!.. Где ж тут грабёж? Подарок тебе, дорогой!
Владимирский думал: искреннее объяснение дел на его длинных пальцах заставит иеромонаха здорово обрадоваться столь полезному содружеству с неправославно осуждённым и смять обретённого друга в объятиях. Архиерей и впрямь, заслушавшись, открыл рот, но потом сразу велел наложить на взнузданного бесами строгий обет воздержания от снеди и питья, вплоть до Великого Суда.
Может быть, архимандрит тоже был мудрецом и знал разных правд о земле ещё больше схизмата. Он и учуял в валдайской проповеди грехопускания тот подымающийся от ярилиных веков, пугающий даже в Евангелиях, честный Стрибогов ветерок, который пахнет вечным разрушением всего, незыблемо и безраздельно возглашённого на земном ристалище...
Владимирский точно не знал, так ли рассуждал умный архимандрит, передавший его на заклание в кремлёвский погреб, или чуть иначе, но с того дня способ действия своих чар никому уже не пояснял. Того вещун не сказывал и своим новым друзьям – литовским солдатам, а он просто чуть выставил тихие гретые длани вперёд, всё ещё зябко, слегка пошевеливая длинными пальцами, словно в ощупь совмещая их с незримыми лучами, и велел стражникам ходить к нему по одному. Рыцари подходили под его благословение с наружною большою серьёзностью, великой кротостию и затаённым особым подвохом на краешках ресниц и по углам усугубленной осанки. Думали, что всё веселье сим притворным соблюдением туземного ритуала исчерпывается...
Но их радость с этого только началась. Каждый, на шаг ещё не отступя от Владимирского, мгновенно чувствовал необъяснимое легчание веса сердца и обесценивание всего, что составляло доселе содержание его военной головы. Один пан начинал, без ясной самому себе причины, упоённо, сладко хохотать. Другой тряс кистями рук, тоже без повода и видимого толка. Уже кто-то, стыдясь и мягко хлопая глазами, плакал в оружейном закутке, кто-то, неизвестно для чего, молча крутил, как булавою, тяжкой головой, задевая при этом лёгкие головы товарищей. А те не обижались, не взыскивали с земляка: каждый, постоявший перед чародеем, понял – внутри и окрест стронулось что-то слежавшееся посполито... Будто лохматые русские тяжеловозы вырвали из мокрого сугроба залипший в нём польский причудливый возок и сразу опрокинули в талую, большую лужу – как в начало всех начал...
Но целительное возбуждение мгновения неумолимо проходило. Санный возок поднят и втиснут устойчиво в сугроб. Пан, успокаиваясь, снова задрёмывает в заблудившемся, неподвижном посреди чьего-то поля возке и просыпается в той же московской тусклой караулке, несколько обескураженный и притомлённый...
Но теперь всем сразу жолнерам чего-то захотелось – не то холодного мёду, не то вина, и обязательно, сменившись наконец с поста, сходить куда-нибудь – не то в часовенку к своим заброшенным ксёндзам, не то в баньку к русским хорошим девчонкам.
Один рыцарь, очнувшись, даже пошёл на волхва с кулаками, да товарищи его скрутили, и Владимирский пустил ему грех ещё раз.
Сам кудесник после таинства заметно ослаб, его снова взяла тихая дрожь, видимо захваченная из подземной тюрьмы, и он подался к лещадной печной стенке.
Тут и пришёл Басманов с царём.
– ...А этот пистолями сучит!.. А тот башкой вот знай накручивает!.. – наперебой пересказывали им караульные минувшее действо. – А Збигнев локти крыльями сложил, хотел уже на зиму к туркам лететь!.. А Борша-то наш только шагнул к магу, тот уже гонит его, кричит: уберите солдата скорей! Мы напугались: что да почему такое? А колдун: вы кого мне тут подсовываете? Его, мол, грехи, рядом с вашими все приближаются к порожнему числу[44]44
Ноль.
[Закрыть]! Сей долгоусый панлатник в переднике – сравнительно с вами – безвинный кутёнок!
Капитан Борша во время этого повествования украдкой грозил рассказчикам горячей кочергой, а под конец даже останавливал их, тесня холодной выхваченной шашкой.
– ...А наш капитан весь почервонел, вот примерно как сейчас – к залысинам мимо усов... – отбиваясь кружками, не унимались безжалостные болтуны, – ...и сам кричит: как так близки к нулю?! Как это нету грешков?! Па-а-азвольте, у меня и то, и это!
Панство загрохотало, даже еретики оживились, Владимирский поехал вниз по изразцам, а догорающий лицом капитан Борша, ахнув дверью, выбросился из молодечной, не объясняя куда.
– Ну вот, обидели мальчишку, многогрешные, – сказал Шафранец, доставая початую сулею рейнвейна из-под скамьи: он угадал в смягчившемся стане и прочно упёршейся в щёку руке царя подходящее расположение минуты. – Этот-то, этот – хорёк-маг – как закатывается! – указал Шафранец на Владимирского. – Человек человеком, а на ворожейную жилу какую напал... Полную небось язычью лженауку под нас тихой сапой подвёл и не признаётся...
Царь отхлебнул из чашки кисло-сладкое – смешное, невнятное русскому сердцу винцо, улыбнулся в ответ молчаливому волхву. И встал, с любопытством подступил ближе к зябкому чуду...
– Отпусти, новейший отче, уж и царю заодно... – легко, как будто неверующе, смотрел и вдруг в мгновенном жару жёстко дрогнул: Владимирский, ещё не подымая колдовских рук, выдохнул из себя весь воздух и – изнутри внутрь – полетел в царя в округло впивающем откуда-то и разбрызгивающем синь, лихорадочно работающем взоре, на лету читающем по пропастям.
Отрепьев стал внутри пространно-воздушным, а внешне окаменел, хоть взор Владимирского не походил в целом на страшное орудие волшебника, скорее это был сметливый пригляд к сырью мастерового – литейщика, рудознатца, гончара...
Ощупь с птичьего полёта длилась, впрочем, всего-то мгновение. Вспугнуто сморгнув, Владимирский канул будто льдинками подёрнувшимися глазами в волокнистый пол. Потом он пошевелился немного, через тяжкое усилие отлип от благодатной печной глади и, запахиваясь глуше в свой перелоскученный хитон, наконец-то – хриповато, вяло, но очень ясно в общей тишине забормотал:
– Да нет, здесь слишком много всего... Я даже не берусь... Может, Вселенский отпустит, я не могу... Или Создатель только... Тут чуть приотвори – такое хлынет... Не возьмусь я...
– О-о-о! Твоё величество! – Ноту крайнего восторга и поздравительного преклонения одиноко потянул Шафранец. – О-о-о!.. – Друзья не поддержали возгласа, уже уловив покоробленно нависший над волхвом азям[45]45
Широкий, без сборок, кафтан из грубого сукна.
[Закрыть] Басманова.
– Так, этого, я чаю, государь, – дыша, чудом Пётр Фёдорович вспомнил оборотиться за согласием к царю, – рановато нам вызволять? Или уже поздно?.. В общем, опустим вспять?..
Дмитрий Иванович, сам съёжась комком наподобие зяблого еретика, приостанавливая воеводину лапу, без голоса, с малой надеждой вопрошал:
– Блажен муж, страдалец преподобный... А хоть помолиться-то возьмёшься?.. Можешь?., за меня?
Помолиться Владимирский обрадованно согласился, и на том все вдруг поладили. Царь приказал найти и этому схизмату тёплый сумеречный угол в недрах своего дворца. Басманов возражать не стал, ему только бы безмятежный язык прозорливца не вывалился за ограду Кремля (то-то бы сыскному воеводе прибавилось сразу труда).
Безобразова поражал Русский Север. Весь бледно-дымчатый и голубовато-сплошной от хвои, холодных ключей, росных плодов на тернистых кустах, от ковра припорошённой тончайшей пыльцой ягоды – прямо под ногами коня, Север вдруг оглушал лётным птичьим и беличьим шумом, ворожил из просветов под чуткими кисточками, не мигая, очами пятнистых кошек и сов... Поторапливал в путь глухариным бурлением и останавливал сухой тревожной погремушкой над тропой, выскальзывающей вдруг из сияющей толстой петли. Восторгал мощным мычанием далёких туров и радовал кувырчатыми большеухими медведиками, выкатывающимися по хворосту, что по соломе, и мячами прыгающими в упругом папоротнике.
Проводник отвёл царёва посла «со товарищи» всего на несколько вёрст от селения, а Безобразову уже казалось: случись что с проводником, один он уже нипочём не выдерется к людям московским отсюдова. Хотя вела ещё вперёд тропинка, царскому гонцу пришлось сойти с седла – ели с двух сторон редко размыкали лапы даже на высоте. Безобразов видел, что он с каждым шагом всё глубже валится в какую-то первородную мягкоигольчатую прорву, к которой его родная подьячая, всевластно верстающая земли Москва имеет столь слабое же отношение, как к какому-нибудь Новому Свету, взятому вместе со Старым...
И Безобразов зело удивился, присвистнул, даже конь его фыркнул, сзади ярыжки почти слышно вздохнули свободнее, когда сквозь ветки-ёлки расходящихся стволов сверкнуло белое молоко, и влез откуда-то неторопливый огуречный ветерок на замкнутую невдали поляну. Но самым внезапным в таком месте человеческого займища было для Безобразова то, что в тени тесно-зелёного сруба, привалясь к стене и положив голову в паз между двух чудовищных венцов[46]46
Четыре бревна, соединенные между собой, одна из частей дома.
[Закрыть], дремал служилый человек в бесцветном и чистом стрелецком кафтане. Рядом к подклети прикасалась изукрашенная львами и драконами пищаль с масляной тряпкой через полку.
Ветерок завивал из-под стоп стрельца какой-то лёгкий пух и нёс прочь атласные пёрышки. В другой стороне лесного двора лежал на колышках шомпол, продетый в розовые тушки четырёх тетёрок. Воздух вокруг дикой курятины мягко кривился и тёк – так выглядело при зените солнца пламя костра...
Стрелец, хозяин заимки, встретил царского гонца – как многие в этом краю – тепло и безучастно...
– Там они? – встал Безобразов на крыльце.
– Не тама, – спокойно отвечал со своего места стрелец.
– А где?
– Да шляются де-нито... Ягоду, должно, берут... – Стрелец махнул большой ладонью в сторону, потом встал – повернуть над огнём тушки.
Безобразов так и сел ножнами на приступку.
– Это как?.. Как это – гуляют?!. Ты, воин! Да коли они убегут?!
– Да уж хоть бы убежали, – несмутимо отвечал стрелец своё. – Как же, дождесси от сверчков запечных!..
– Ну где ж они?! – пристрастно вглядывался Безобразов в заросший сплошь кочками малинника вкруг некорчеваных пней, отвоёванный у пущи лог. – Ты хоть ведаешь, что тебе будет, скройся из Шуйских князей хоть один?! – всё не мог он успокоиться.
– Што?! – наконец насторожился стражник. – Ну што там будет?! – и развернулся к Безобразову от пригоравшей дичи так, чтобы стало видно: внутренний его покой всегда под хорошей защитой таящегося ещё глубже живого каления. Безобразов теперь зрил перед собой никакого не подданного воеводы и раба царя, а... чистого соловья-разбойника: борода человека в какой-то лесной шелухе выпрямилась во все стороны; глаза, увязая в надбровье, смотрели кругло и непроходимо... И вдруг подсели к переносью поближе – по-волчьи...
Безобразов опустил свои глаза, подумав, что леший-стрелец прыгнет, осветясь клыками, с места к нему – через перила на крыльцо!
Стрелец в свой черёд убрал и загасил играющие прозрачным огнём очи, хотя, примиряясь, действительно, зубами лязгнул один раз. Затем он шагнул шага два от сторожки и во весь продолговатый перелог, заложив два перста в рот, страстно свистнул и часто залился:
– Эй вы, бояры-мухоморы, княжата-опята, кувыркайсь сюды! От царя гостёк приехал. Видно, на всех вас гостинцев привёз! Мягкого вервия да тихого яду вонючего! Давай налетай!..
Кущи малинника белёсо трепетали, ветер показывал изнанку их листвы. Над одним кустом замер худой, твёрдый и тёмный от солнца старик. Но и издали его плаксивое лицо неясно как-то не вязалось... ни с ягодным нолём, ни с лесом.
Немногим дальше поднялись ещё двое загорелых пожилых.
На какое-то мгновение Безобразову опять сделалось не по себе. Ему даже захотелось эти окольно выпирающие, столь знакомо кособокие грибы вдавить скорее назад – в чересчур расточительно щедрые складки земли.
Но Безобразов быстро сделался собой, и слово его тревоги, внутрь осев, пустило из себя одно, единственно полезное здесь дело: он побежал сам навстречу опальным княжатам, ликуя и перепинаясь в низком кружеве гибких стеблей...
На ходу он поздравлял бояр Шуйских, высокославных страстотерпцев и пустынномучеников, с царским милованием и зовом на круги своя.
В обратный путь двинулись в тот же день, и даже час был тот же: прощённые князья не собирались долго, осерчав на все свои здешние убогие пожитки. Впереди их уже ждали известные обилья и ещё, возможно, неразведанные почести...
Стрелец, хозяин займища, тоже собрался попутчиком – быстро, по-ратному. Он даже в дом не заходил: окунулся в окно с улицы и вынул из дома какой-то тугой невеликий мешок (будто знал сроки своего дурного поручения и загодя собрался), подхватил на дворе ружьецо, накинул берендейку и опоясался кожаной полосой с охотницким ножом.
Он, впрочем, недолго побыл спутником помилованных Шуйских, Безобразова и иже с ними, сразу пробежал по тропинке вперёд и исчез навечно за деревьями.
«Аз ещё когда бил я челом Твоему величию, чтобы Величие твоё их не выпущало и не высвобождало! Понми же, вникни и прикинь само – от них же к нам приторгнется смуть, ужасть и страсть!» – писал, узнав о возвращении Шуйских, Ян Бучинский царю, горячо обозначая одну суть тем множеством словес, которое одна речь московитян позволяла.
Столь полноглагольно изъясняясь на родном языке своего государя, польский друг убеждал его исподволь в добротной истине любых положений своего письма. Его посылает тот, кто сроднился уже с вязкой молвью царства, сросся до ведания каждого закругления буквенной травинки, знания малейшего тенёчка слова, а стало быть, знает доподлинно и всю ту, изросшуюся на авось, глаголы очертя, русскую государственную жизнь, которая такие слова говорит.
Письмо положил царю на престол молодой расходчик Якоб Слонский, двоюродный брат Яна Бучинского, прибывший недавно из Литвы и сразу пущенный между царём и Бучинским в побегушки.
Сам Ян теперь летал перекладными вкруг столицы – по ближайшим ярмаркам, делая необходимые закупки для Кремля и всей страны, глядя на промыслы и нравы, в пути приватно приторговывая и каким-то чудом с быстротою ветра умножая собственное состояние.
С ярмарок, из Руси, Ян вёл оживлённую переписку с государем, заблудившимся в своей Москве.
Однако же случай с Шуйскими был не из разряда пустяков, и Бучинский наскоро, себя оставив почти без лихвы, а царя в накладе, слукавил последнюю купчую и помчался в златоглавую следом за своим письмом.